Константин Леонтьев. Первый русский антиглобалист и главный философ страны
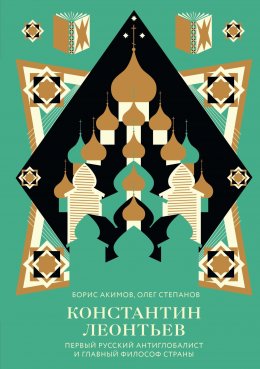
Чтобы лучше видеть и объяснить другим, что выгодно и невыгодно для России, надо прежде всего дать себе ясный отчет в том идеале, который имеешь в виду для своей отчизны.
Константин Леонтьев
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Серия «Русское пространство-2062»
В книге сохранены точность и полнота информации по цитируемой литературе, предоставленные издательству авторами. Частные мнения авторов и их респондентов могут не совпадать с позицией редакции.
© ООО ТД «Никея», 2025
© АНО Центр «Никея», 2025
© Акимов Б.А., Степанов О.В., 2025
Введение
Что это за книга и зачем она нужна?
Здравствуйте! Меня зовут Борис Акимов. Вместе с социальным предпринимателем и мыслителем Олегом Степановым мы придумали проект «Россия 2062». Проект – слово заезженное и не то, которое хотелось бы употреблять, но сейчас без него сложно обходиться. Мы называем это «штабом вольной мысли», представляя себе, в какой стране мы бы хотели жить в будущем. Но не в таком, о котором рассуждают футурологи, а в таком, в котором бы действительно хотелось жить нам самим и куда хотелось бы отправить всех своих близких и друзей. Мы собрали вокруг себя большую компанию теоретиков и практиков такого будущего и начали, не дожидаясь 2062 года, строить умную, привлекательную и обаятельную Россию уже сейчас.
На самом деле мы уже об этом достаточно подробно рассказывали в книге «Россия 2062. Как нам обустроить страну за 40 лет», которая в конце 2022 года вышла в издательстве «Никея». Но решили не останавливаться и затеяли целую серию. «Русское пространство 2062» – это собрание разных русских авторов, которые когда-то в прошлом создали нечто крайне важное, как нам кажется, недооцененное и сверхактуальное для всех нас сегодняшних.
В нашей реальности «России 2062» границы между живыми и мертвыми размыты. Многие мертвые и до сих пор живее живых. Наша задача в этой книжной серии – оживить и авторов, и тексты.
Особый русский взгляд на мир, русский гуманитарный дискурс и семиотический суверенитет – не просто желаемые нами явления из будущего. Они основываются на глубокой русской мысли, имеют фундаментальную основу. И наша серия должна это деятельно продемонстрировать.
Мы собираемся взять важнейшие, как нам кажется, для поднятой темы фрагменты текстов того или иного автора прошлого и поместить в современность за счет развернутых ответов-комментариев наших современников.
Такой формат – диалоги живых и мертвых – это наша «живая вода», которой мы, образно говоря, окропим тексты тех, кто давно не с нами в материальном смысле, но живее многих живых в смысле духовном и интеллектуальном.
В серии выйдут книги авторов, которые формируют особое пространство русской мысли и представлений о мироустройстве во всех областях нашей жизни – культуре, науке, общественном пространстве.
Русская мысль становится крайне актуальной именно сейчас, так как указывает путь, по которому человечество может уйти от нынешнего катастрофического состояния, – в области экономики, экологии, социальных институтов, общественного устройства, освоения пространства и в целом развития человеческой культуры и цивилизации.
Вы держите в руках одну из книг серии «Русское пространство 2062» – «Россия – цивилизация цветущей сложности». Она посвящена одному из величайших и одновременно одному из самых недооцененных пока русских философов – Константину Леонтьеву. Константин Николаевич пророчески писал: «Боюсь, как бы история не оправдала меня». Мы видим, как прямо сейчас, на наших глазах Леонтьев и его наследие превращаются в важнейшую для современности и нашего общего будущего ценность. В книгу вошли фрагменты основополагающих текстов философа, выбранных нами достаточно субъективно, а также тексты его и наших современников.
Леонтьев, как и многие другие русские философы, говорил о грядущей особой роли России в мире. Но только он, на наш взгляд, сформулировал эту роль наиболее ярко и точно. Константин Николаевич явно обладал даром предвидения, сравнимым с Достоевским, но при этом в социально-философском смысле даже превзошел великого писателя. Леонтьев сформулировал основополагающий принцип развития цивилизации. От первичной простоты к цветущей сложности и к вторичному упрощению, т. е. к угасанию.
Для Леонтьева основой цветущей сложности было наиболее яркое – на пике возможностей – балансирование любого явления между собственным пространством и содержанием, где пространство всегда существует за счет дисциплины и правил, он сам предпочитал термин «деспотия», а содержание основано на фундаментальных принципах свободы. «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет». Я бы сказал, что так Леонтьев описывает понятие идентичности, социально-философскую эрозию которого мы наблюдаем особенно ярко в последние годы.
Устойчивое развитие человечества основывается на такой цветущей сложности, где есть место для многоголосицы традиционных идентичностей – религиозной, социальной, половой, культурной, национальной, государственной и т. д. Борьба с деспотией формы (с идентичностью), которая вовсю шла уже на глазах Леонтьева, а на наших глазах приняла уже какие-то карикатурные, но от этого еще более катастрофические формы, приводит к однозначному результату. К расчеловечиванию. Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И гений Леонтьева не только в том, что он глубоко осознал и ярко сформулировал это за 150 лет до нас. Основное величие Константина Николаевича в том, что уже тогда он определил рецепт сохранения человека и человечества во всем его многообразии.
И мессианство России, о котором так много писал и Леонтьев, и другие русские философы конца XIX века, как раз и может проявиться в том, чтобы осознанно встать уже в веке XXI на защиту цветущей сложности, а значит, и самого человека и человечества.
Русская идея, которую так долго искали, была всегда рядом с нами, но ее упорно не замечали. И была сформулирована она наиболее точно именно Леонтьевым. Русская идея – это идея цветущей сложности. И Леонтьев – пророк ее.
Борис Акимов,
«Россия 2062».
Глава 1
«Фигура столь грандиозная, что, право, не с кем сравнить ее…» Татьяна Глушкова и ее Леонтьев
Борис Акимов
О том, как мысль Леонтьева пробивалась сквозь эпохи и собирала вокруг себя лучших
Вокруг Леонтьева постоянно находится что-то удивительно интересное и парадоксальное. Вот, например, текст Татьяны Глушковой о Леонтьеве и его сверхактуальности, написанный еще в 1990 году в Советском Союзе и тогда же опубликованный в качестве предисловия к первой книге Леонтьева, изданной в СССР. Книга называлась «Цветущая сложность», и, по сути, она тогда заново открывала Константина Николаевича для русского читателя. Татьяна Глушкова – русский консервативный мыслитель конца 20 века, изучала наследие Леонтьева еще в позднее советское время. Тогда российское общество, казалось, попало под магические чары западного либерализма и было почти тотально очаровано джинсами, колой и демократией. А та часть, которая не очаровалась миром потребительского капитализма, демонстративно ностальгировала по коммунизму. И только единицы тогда сохранили способность независимого суждения, основанного на глубоком понимании сути мировой цивилизации и русского особого пути. Среди таких немногих и Татьяна Глушкова, поэтесса, филолог и публицист. Ее текст, написанный более 30 лет назад, сверхсовременен, и это еще одно доказательство того, что нет ничего более живого и устремленного в будущее, чем глубокая творческая и хорошо сформулированная мысль.
Татьяна Глушкова
«Боюсь, как бы история не оправдала меня…»
Нет явления более сложного, чем К. Леонтьев.
Н. Бердяев
…В душе его было окно, откуда открывалась бесконечность.
Его имя в обществе если и известно, то понаслышке, а не по чтению.
В. Розанов
Если выписать все самые афористические высказывания о Константине Леонтьеве последующих русских мыслителей (не пошедших, однако, вослед ему), предстанет фигура столь грандиозная, что, право, не с кем сравнить ее. Нечто богоподобное проступит в ней. А слово «гениальность», постоянно мелькающее в применении к ней, покажется даже слишком лирическим, «частным», камерным. Ибо он, похоже, не просто гениален: ведь и средь гениев есть свои масштабы – так, гениальный Есенин, к примеру, не равен в гении Пушкину. ВЕЛИКИЙ ЛЕОНТЬЕВ – напрашивается тут. И приходят на память слова о «титанах по силе мысли, страсти и характеру», только леонтьевская мысль далека от ренессансного оптимистического, победно-практического пафоса: в ней точится – при всех прочих свойствах – среднерусская грусть (калужский помещик из деревни Кудиново, обедневший, бессребреный, бездомный – не стены, а крылья одевают, укрывают, согревают его), и, созданная для власти и славы, властной всемирной славы, эта мысль из любви к красоте человечества сама себе не желает победы, скорбит над возможностью – неотвратимостью – своей правоты. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи бы то ни было убедительные доводы доказали мне, что я заблуждаюсь», – говорил этот не признанный современниками триумфатор.
«Диктатор без диктатуры»; «блестящий ум… Блестящий и парадоксальный…»; «политический Торквемада»; «необычайно оригинален, самобытен и смел»; «идейный консерватор»; «бунтарь люциферического (!) Ренессанса»; «чистая жемчужина, в своей Оптиной Пустыни, как на дне моря»; «явление христианина-эстета и романтика, жестокого и мрачного»; «ум Леонтьева – скажу, гений его – был какой-то особенный»; «русско-православный Жозеф де Местр»; «ницшеанец до Ницше», «русский Ницше» и даже – «plus Nietzsche que Nietzsche тете»; «турецкий игумен»; «Сулейман в куколе»; «Алкивиад» («Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, в сравнении с этим калужским помещиком, который был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов»); «националист»; «разочарованный славянофил»; «яростный апологет крепостного права во всех его проявлениях и проповедник «сладострастного культа палки»; «великий освободитель»; «реакционнейший из всех русских писателей второй половины XIX столетия»; «выбиватель стекол»; «Кромвель без меча… в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точный, в полном росте Кромвель»; «неузнанный феномен»; «прошел великий муж по Руси…»; «он залил бы Европу огнями и кровью»; «изумительно чистое сердце»; «доходит до апологии доноса и совета высечь Веру Засулич»; «он был какою-то бурей…»; «чародей», «чарующее впечатление…»; «Малыптрем… ревущий водоворот в Ледовитом океане»; «один из величайших и оригинальнейших выразителей самобытной русской культурной мысли, вопиявший в пустыне»; «нерусский художник»; «мы имели перед собой черного-черного монаха, в куколе до облаков, с посохом в версту, который дико и свирепо начинал дубасить этим посохом по голове либерала»; «открыт чистейшим лучам верховных идеалов»; «империалист»; «Великий Инквизитор» (прообраз героя Достоевского); «киевский бурсак Хома, на котором сидела чародейка-красавица»; «безумный романтик»; «Старый, как Сатурн…»; «новый человек, модернист, несмотря на свое реакционерство»; «Иаков, который боролся с Богом в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок повредил ему „жилу в составе бедра“»; «сильный богоборец»; «феномен, а не сила… fata morgana Малыптрема, а не он в действительности»; «демонист»; «мракобесец»; «язычник»; «католик по духу»; «одинокая и единственная в своем роде душа», «великий ум и великий темперамент»…
И, пожалуй, все это (сказанное о Леонтьеве в основном после смерти его) умещается во впечатлении В. В. Розанова (вообще ярче всех писавшего о нем): «С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в „мать-кормилицу, широкую степь“, во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или голову положить, или царский венец взять… я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по границам безбрежного отрицания и безгранично далеких утверждений (чаяний) увидел, что это человек пустыни, конь без узды, – и невольно потянулись с ним речи, как у „братьев-разбойников“ за костром».
И хотя выписанным далеко не исчерпывается все – неизменно интригующее, фантастическое по стилю, – что сказано о Константине Леонтьеве в России и зарубежье, вырастает из этой, типичной, мозаики восхищения и гнева, изумления и «священного ужаса», вырастает нечто мистическое, головокружительное… Воистину: не человек – ЛЕГЕНДА. Человек, подобный не только людям уникальным, издавна знаменитым во всемирной истории, от Алкивиада до Кромвеля, от библейских героев до столпов европейского духа, но подобный самим могучим явлениям природы – от Малыптрема до аравийской пустыни и русско-азийской степи.
«Не одна во поле дороженька пролегала» – эти слова народной песни могут служить (заметим) своего рода эпиграфом к «безгранично далеким утверждениям (чаяниям)» К. Леонтьева относительно судьбы России, ее особого, не «всеевропейского» по природным задаткам пути, – до тех, впрочем, пор, пока сохранялись у него эти чаяния, богоборческая вера в возможность исторического выбора для родной, любимой страны. Пока не отступил он – «в изнеможении страдальческого раздумья» – в свой трагический фатализм, в котором уж не было места русскому мессианству, ибо «зарос», одичал желанный путь, и в «этих липовых аллеях, этих березовых рощах, этих столетних огромных вязах над прудом» примерещился ему, «старому монаху и медику», даже и образ антихриста, рожденного в России. «Русское общество… помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути… и – кто знает? – …и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр… родим антихриста», – написал он тогда «с трепетом пророческого страха за свою дорогую родину».
Но кто все-таки прав, где правда в тех контрастных, полярных высказываниях о Леонтьеве-мыслителе, что были приведены? Чему должен верить читатель?
Все – правы. Всему можно верить, понимая, однако же, все это как предварительный материал, который читателю предстоит самому проверить. Ибо яркое разноречье суждений или множество противоречивых правд есть свидетельство все же не выработанной истины, зато как возбуждает в нас собственную, непредвзятую мысль!
Может быть, истину о Леонтьеве мы не выработаем и сегодня: слишком остросовременен он нынче, в наш день. Современней (доступней), чем сто лет тому, при всей утрате в России классической образованности. Часто – увидим мы – он даже и попросту злободневен: «злоба» нынешнего национального, демократического, государственного дня поразительным образом вскипает на его каленом, «пернатом» пере.
Окончательной истины он, кстати сказать, и не любил. Как и «окончательной гармонии», ее «последнего слова». Ибо та и другая – страшна. Как страшен конец. За которым уж нет времен, нет движения мысли, нет народов.
И, быть может, ища, вырабатывая свое мнение о Константине Леонтьеве, мы увидим лишь, как, прогибаясь, удаляется горизонт, мы вернемся к той же «необозримо широкой» тургеневской степи, что уходит в «бесконечную даль», мы увидим все то же огромное, «низкое, багровое солнце». А какова истина степи? (Пустыни? Бури? Малыптрема?..) Она, эта степь, сама – истина.
Так самоценна и леонтьевская мысль, сам вдохновенный процесс, явление этой мысли. Ее великая простота. Вечная дерзость. Безбрежная свобода.
И пока ясно одно: перед ним, преждевременным Константином Леонтьевым, и после его смерти стояли как перед великой загадкой. Как перед «беззаконной кометой», беззаконной даже и для позднейшей русской философии – ее относительно тоже «расчисленного круга светил». И вольно нынешней «Литературной газете» по-школьному хроно-логизировать: «В истории русской мысли Леонтьев – связующее звено между П. Я. Чаадаевым и В. В. Розановым». Это подобно тому, как считать… Пушкина «связующим звеном» между Державиным и Лермонтовым. Ибо Леонтьев не только масштабней своих предшественников и потомков, но, «беззаконный» (как тот, у Пушкина, «ветер» и «орел»), не мог никого связывать, быть переходом, мостом. Не имея наследников даже среди – в общем, немногих – восхищенных поклонников, он – прав В. В. Розанов! – «по существу… не имел предшественников».
Мы найдем лишь отдельные сходные черты между ним и «отцами» – будь то Чаадаев, или Герцен, или славянофилы. Сходные, а не общие (ибо общим тут было всерьез, пожалуй, одно: общая их страстная любовь к России). И даже если говорить о «замечательном», по слову Леонтьева, Н. Я. Данилевском, учителе его, «который в своей книге «Россия и Европа» сделал такой великий шаг на пути русской науки и русского самосознания, обосновавши так твердо и ясно теорию смены культурных типов в истории человечества», – даже если говорить о Н. Я. Данилевском, то Леонтьев не только относится к нему, пожалуй, как колос к драгоценному, отборно-семенному зерну, но и резко расходится с ним по столь важному и особенно дорогому тому вопросу, как вопрос о внероссийском, невеликоросском славянстве. Он расходится с ним в пространстве, в этнографической вере, размыкая чисто племенные, семейно-славянские границы, простирая взыскующий союза, культурного, духовного союза взор на малоазийский юг, в Северную и Центральную Азию, на «желтый» Восток, уповая – как позднее А. Блок – скинуться азиатом, указуя «Европе пригожей» то примерно, что зыбится в «Скифах»:
- Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
- ……………………………………………………
- И день придет – не будет и следа
- От ваших Пестумов, быть может!..
Славянин, великоросс (как не однажды подчеркивал сам, видя в великороссах духовное ядро славянства), он считал перспективным строить новый, сменяющий дряхлое, мощный культурный тип из любого, какой не поддался эрозии, материала: из родимого камня, что «бел-горюч», белого лебедя-камня среднерусской гряды; из бирюзы Босфора; из горных тибетских пород; из жемчужных раковин Индийского океана; из порфира и мрамора вокруг православного Эгейского моря…
Так – привольно – построен был и собственный его дух. (Отчего и правы едва ли не все несогласные меж собою его толкователи.) На создание этого духа и впрямь потратились разные века, разные страны. Вдруг явив под Калугой древнего грека, средневекового ересиарха, рыцаря-феодала готических времен. Словно вправду некий Мельмот-скиталец, в историческом странном метемпсихозе, оказался однажды, зимой 1831 года, подвешенным к потолку бани в селе Кудинове, завернутый в заячью шкурку.
Эта заячья шкурка, о которой рассказывал он (так выгревали тогда семимесячных, слабых младенцев), – тоже мета, «тотем», знаменующий его дух: Лес и Степь с нею тихо вошли, безбрежные, в ту слепую, волшебную, деревенско-дворянскую, простодушно-целебную баньку.
«Это вовсе не пустяки; это очень важно!» – замечал он по поводу столь малосложного, крайне уже буржуазного костюма эпохи, с ее «безобразным кепи», выморочным «фрачно-сюртучным» стилем. «…Внешние формы быта, одежды, обычаи, моды… все эти внешние формы, говорю я, вовсе не причуда, не вздор… это неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть…» – подчеркивал он и, когда уж оставил дипломатическую службу, постоянно носил, «отрясая романо-германский прах», хорошо сшитую русскую поддевку, которая не мешала его «благородной и красивой барственности» и была сообразна его «русскому сердцу».
«Мое русское сердце», – не раз говорил он, сознавая, хотя бив славянском котле Балкан, где столько лет прожил, свою родовую особенность, несливающуюся окрашенность своих идеалов и чувств. Он, кому внятно было все: и «острый галльский смысл, // И сумрачный германский гений…» («Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек…» – утверждал Розанов), – отнюдь не был, однако, «гражданином мира» в современном, пустом значении слова. Не был и многоликим Протеем, ибо при всем «разноцветном» богатстве обладал нерушимым единством личности. Был в нем – за всей многогранностью черт и «свободных», далеких друг другу возможностей – некий магнитный стержень, что «притягивал», заставляя держаться вместе, не отлетать, помнить свою орбиту, все эти камни и грани.
«Форма, – говорил он, – есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет».
Это, согласно Леонтьеву, закон всякого явления, имеющего самобытие. Его признаки, как бы их ни было много, не смеют разбегаться, растекаться, смывая границы оформленного единства, полного своей внутренней идеей, отграниченного от других самобытных явлений или текучих, аморфных сред.
«Растительная и животная морфология, – продолжал К. Леонтьев, – есть наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.» – при всей щедрости природных сил, отпущенных на их создание.
Какова же внутренняя идея личности Константина Леонтьева, обеспечивающая ему и духовное разнообразие, и устойчивое единство его духа? И в чем – соответственно этому – состоит общий пафос его феноменального творчества?
Этот вопрос проясняется при погружении в его философию, его историософию, в ту практическую политику, которую он разрабатывал для России в своих статьях. Но этот вопрос в таком строгом виде его, пожалуй, даже и не ставился многочисленными оппонентами Леонтьева, которые упирались, как правило, в ту или иную грань его духа, не стремясь ни деспотически увязать эти грани, ни заметить их беспрестанную вольную игру на свету меняющейся жизни и как раз во имя удержания общей целостности.
Он любил слова «деспотизм», «стеснение», «дисциплина», «организация», «суровые узы», «ограничительность», «сдерживание» и даже – «железная рукавица»… Слова, столь далекие лексикону популярной в его (да и в наше) время свободы. Любил, а точней – не страшился их, обобщая их даже в совсем уже «мрачном» понятии византизма, вполне одиозном для его просвещенного века. Византизм воплощал у него некий идеал структуры, организации, иерархии и расслоения, неумолимого неравенства положений при всеобщей связанности, со-подчиненности множества разнородных частей.
Жестки и дики (порой) глаголы Леонтьева – на «наш», немузыкальный слишком уж «цивилизованный» слух, – когда он говорит о надобности «подморозить» Россию (подмываемую и растекающуюся в своей государственной форме, расслабляющуюся в национальном духе) или когда, как удар арапника, хлещет нас негуманное, «ярое» словцо «высворить» – про тот самый «византизм, который лег в основу нашей великорусской государственности, который и вразумил, и согрел, и (да простят мне это охотничье, псарское выражение) высворил нас крепко и умно»… Это конечно ж речение художника-формотворца, знающего о несентиментальности всякого созидания, при каком отсекается все нежизненное, слабое, лишнее, все, не способное к творческой тяготе гармонического единства.
Под архаическим именем «византизм» Леонтьев разумел «религиозно-культурные корни нашей силы и нашего национального дыхания», не видя причин «патриотически» обижаться этим термином, ибо, подобно Пушкину, считал: греко-византийское достояние так глубоко усвоено, органично претворено в русских национальных формах, что стало воистину «нашим русским Православием и нашим русским самодержавием» со всеми самобытными отражениями «православия и православной государственности в нашей литературе, поэзии, архитектуре…».
«Организация есть страдание», – знал «византист» К. Леонтьев. Это конечно же ущемление каких-то возможностей (добрых и злых). Но она есть и условие развития, трудного – сквозь препоны – самовыявления составных частей, их закалка и проба на прочность. Организация, или стягивающий деспотизм, по Леонтьеву, не исключает свободы, но дает ей положительное содержание и оказывается даже залогом рождения ярких и сильных индивидуальностей.
«Организация ведь выражается разнообразием в единстве, хотя бы и самым насильственным», – формулирует К. Леонтьев, не усматривая непримиримости меж стеснением и свободой. Дезорганизация же, напротив – безгрешная по части насилия, дорожит отрицательною свободой, нивелирующей (в итоге) ничем не стесненную, ничем не ограниченную личность. Крайность свободы, ставшей фетишем и абсолютом, – это крайность индивидуализма, когда лишенная уз личность гибнет: не связанная ни с чем, она ничем уж и не отграничена в море, толпе подобных же «раскрепощенных» пленников самодавлеющей, множащей свои отрицания свободы. «Свобода в однообразии, – говорил Леонтьев, – это именно дезорганизация», т. е. распад, ибо однородность, однообразие, унификация мира – знак чрезмерного его упрощения, разложения вплоть до первичных атомов.
Это кажется трудным для понимания лишь в силу шор, накладываемых на человека прекраснодушными, безответственными рассуждениями о свободе. Трактуя ее как безусловное благо, прекраснодушные «жрецы свободы» не учитывают ни природы человека, ни законов действительного бытия людей и явлений мира, ни тех несентиментальных, суровых законов творчества, согласно которым безудержный произвол (чистая, непомраченная свобода) возможен разве что в праздном, провальном эксперименте, но не в созидательном акте, всегда ограниченном изнутри велением строгой необходимости; не в творческом свершении, при каком всякий восторг и порыв дисциплинирован чувством гармонии, тайной и властной острасткой с ее стороны, не объяснимой на языке мер и весов.
«Государство держится не одной свободой и не одними стеснениями и строгостью, а неуловимой пока еще для социальной науки гармонией между дисциплиной веры, власти, законов, преданий и обычаев, с одной стороны, а с другой – той реальной свободой лица, которая возможна даже и в Китае, при существовании пытки…» — писал Леонтьев.
Это неуловимое соотношение – свободы и стеснений – действительно не только для государства – для любого оформленного, развитого, свершенного явления: и природы, и искусства. Но все-таки стоит заметить, что тайна государства, по Леонтьеву, – это тайна творчества. В этом смысле оно – тайна нации, создавшей его (будучи в то же время созданной им). Оно – тайна живого общественного материала, его природных особенностей, исторических обстоятельств, неповторимых условий его бытия, как и его воли к жизни, воли, вдохновляемой и воплощаемой всегда конкретными требованиями гармонии.
«Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному… деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и, наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма» – так космически, а не только «социологически или «инженерно» понимал дело Леонтьев. Ведомый сознанием связей, сложного, всесторонне соподчиненного союзничества всего сущего в мире, он равно не отчуждал друг от друга ни государство, ни человека (личность). Не «разметывал» на два «не сходящихся», не сотрудничающих меж собою полюса – свободу и деспотизм.
Именно этот объемный, творческий взгляд, как и внимательное изучение всемирной истории, привел К. Леонтьева к важному – нестерпимому для прогрессистов, устроителей планетарного счастья – выводу, все более очевидному, кажется, для потомков мыслителя: «Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменна до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частностях (!) от начала до конца».
В этом смысле разрушение органически возникшей государственной формы есть гибель нации. А попытки примерить, перенять для себя чужую государственную форму (как бы ни была она хороша на своей почве) ведут к тяжелейшей мутации, вырождению национальной общности.
Ну а если подытожить пересказанное выше из размышлений Леонтьева о законах структур – о законах устойчивой, развитой, плодотворной жизни, – можно сказать: деспотизм у К. Леонтьева всегда ограничен свободой, как свобода ограничена у него насущностью формообразующего деспотизма.
Он любил сложность. Не ту ложную, грубую, претенциозную «сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира, сложность в приемах самой науки», какою ознаменован так называемый прогресс и которую Леонтьев считал только «исполинской толчеей, всех и все толкущей в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы» ради того, чтобы выработать среднего человека по образцу европейского буржуа. Среднего – «среди миллионов точно таких же средних людей», самодовольных и комфортабельно-покойных… Леонтьев видел тут только сложность средства, «алгебраического приема», подчиненного вовсе не сложной по своему содержанию цели – «всех и все привести к одному знаменателю».
«…Горы сравнять – хорошая мысль», – говорил один из героев Достоевского в «Бесах», мечтавший о «полном равенстве» и обезличенности… «Цель груба, проста по мысли, по идеалу…» – в пику всем радикальным и либеральным уравнителям замечал К. Леонтьев, решительно противополагая внешнюю, чисто «инструментальную» сложность приема, тешившую его «прогрессивных» современников, сложности, богатству внутренней идеи: науки ли, бытовых отношений или общественных установлений… То, что мы с серьезною миной, горделиво и снисходительно к прошлому зовем нынче «усложняющейся реальностью», «усложнившейся наукой» (с ее бесконечно-развилистой специализацией), «усложнившейся леностью» (как овражная местность, иссеченной нервозностью и рефлексией и не способной «собрать» себя перед лицом столь же расколото-унифицированного мира), он почел бы как раз атомарным распадом, безнадежным упрощением, измельчением в пыль, где частицы, при всем их болезненном самомнении, неотличимы одна от другой, обреченные дальнейшему перемолу и пустому кружению в черном зеве холодного и безлюдного космоса – самого великого Хаоса, вернее сказать, ибо и дух перемолот, развеян, забыт уж за суетной сложностью.
Он ценил сложность нерукотворного мира, истинно зреющего – набирая неповторимые черты – явления, сложное разнообразие творчески организованной жизни. Сложность цветка, например, – этого «высшего, сильнейшего выражения» дерева или травы, на которых расцвел он, обещая и сложность плода, невместимую все же в «базаровскую» схему азота-кислорода…
К. Леонтьеву принадлежит поэтический термин: «цветущая сложность», который он ввел в русскую философию, обозначая им высшую стадию бытия и растительного, и животного организма, и космических тел, и отдельного homo sapiens, и человеческих обществ, и государств. Это термин из леонтьевской теории развития, гипотезы развития, как еще говорил он, называя ее порой и своим «великим открытием». «Что такое процесс развития?» – спрашивает Леонтьев в главной своей работе «Византизм и славянство», которая и поныне является еще тайной гордостью русской мысли: скрыта от широкого читателя! Отделяя развитие от распространения, разлития, всех экстенсивных и механических процессов (вроде «распространения грамотности» или же нынешнего «умножения технологии»), К. Леонтьев указывает на три фазы в жизни всякого явления: 1) первоначальную простоту (семени, зародыша, младенческого состояния и т. п.); 2) цветущую сложность (единство в разнообразии составных частей, ярко выразивших себя, пребывая меж тем в «организующих, деспотических объятиях» общей внутренней идеи явления, которая «ограничивает… разбегающиеся, расторгающие стремления» в нем; это наглядно, скажем, в соцветии); з) вторичное упрощение (постепенное смешение, уравнивание самобытных свойств отцветающих, увядающих частей, ослабление связи меж ними, вообще уменьшение числа признаков, явственный путь к первобытной простоте: дряхлеющие организмы более схожи между собой, чем те, что переживают расцвет; костяки менее отличимы друг от друга, чем живые, одетые плотью тела, и стремятся уж прямо к первичной, свободной молекуле фосфора, «неорганической нирване», к полному слитию со средой, потоплению в ней)…
Идея единства заведомо требует объектов единения: их множественности и разнородности. «Цветущая сложность» – вершина развития – воплощает как раз торжество насыщенного разнообразием единства, основанного на той или иной общей внутренней идее. В цветущем государстве – это многосословность, социальная многослойность, многокорпоративность, многоукладность, даже разноплеменность, «разнохарактерность областей», сложная «бытовая узорность», пестрота нравов, вкусов, обычаев, разнообразная самобытность всякого местного творчества (в раме разнообразной же местной природы), неравномерность экономических положений и политических прав, упругая гармоника горизонтальных связей и развитость иерархии с безусловною ценностью всех своеуместных звеньев. Принципиальная антиприоритетность при принципиальном, естественном неравенстве. Достаточно стойкие «перегородки» меж самобытностями (охраняющие каждый из этих миров), подвижные лишь «по краям» (так что торговец пирогами может, вообще говоря, стать генералиссимусом, как Александр Меншиков, а «архангельский мужик», выросший на своей сильной, непорушенной почве, – целым российским «университетом»).
Все эти «разно-» и «само-», при обилии их, ясной выраженности и крепости, в каждом обществе, всяком крупном культурном мире держатся вместе своей внутренней идеей – прежде всего, по Леонтьеву, религиозной. Так, былая «цветущая сложность» романо-германского мира – высшей, в оценке Леонтьева, из известных ранее человеческих цивилизаций – единилась идеей папизма, мощным католическим духом, и ослабление единства, как и постепенное обесцвечивание «областей», началось с эпохой Реформации – от духовного понижения в протестантизме. «…Ни конституция, ни семья, ни даже коммунизм без религии не будет держаться», – предсказывал Леонтьев либеральным и радикальным вольнодумцам. «И семья, без иконы в углу, без пенатов у очага, без стихов Корана над входом есть не что иное, как ужасная проза и даже „каторга, по замечанию Герцена“», – добавлял он, убеждая в повсеместной необходимости некой надличной, достаточно строгой сверхсвязи, только и обеспечивающей бытие малой ли ячейки, пространных ли сот – всех сколько-то многосоставных, развитых явлений. «Живое, сердечное понимание „единства", – признавался Леонтьев, – стало доступно мне единовременно с принятием личной веры, обладанием которой я обязан афонским духовникам». И это закономерно, ибо идея религии (любой, самой «бедной»!) есть, в сущности, непременно чувство-идея связи глобальной. (…) В 1873 году, «во время палящих Босфорских каникул», под эллинско-православным небом, он осознает: «…реальное разнообразие развития, которое я находил столь прекрасным и полезным в земной жизни нашей, не может долго держаться без формирующего… ограничительного, мистического-единства; ибо при ослаблении стеснительного единства произойдет скоро то самое ассимиляционное смешение, которое я зову то эгалитарным прогрессом, то всемирной революцией…».
Мощь леонтьевской мысли проступает в своей классической красоте и смелости, когда он прилагает «простую» триаду ко «всей исторической эволюции человечества», к явлениям человеческого духа, судьбе наций и государств, которые, по наблюдениям его, также подчинены «всеобщему закону развития», согласно какому «все сперва индивидуализируется, т. е. стремится к высшему единству в высшем разнообразии (к оригинальности), а потом расплывается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнет».
Он прослеживает ступени развития разных народов и стран с их государственностью, национальными характерами, религиозно-культурными идеалами, искусством. Так, «цветущую сложность» Франции он усматривает в веке «Короля-Солнце» (Людовика XIV), а излет этого разномастно-единого по структуре цветения («эпохи творчества», как еще называл он) – в первой половине XVIII века. «Цветущую сложность» России опознает с конца XVII века и сохранение ее – еще при Николае I. (И т. д.) Разворачивавшийся на его глазах, после революций 1848 года, этап развития старой цивилизации (европейской, с которой граничила Россия, попадая в сферу ее влияния) Леонтьев считал третьим, т. е. предсмертным. Впереди могла быть либо смена культурного типа (по Н. Я. Данилевскому), создание новой великой и самобытной цивилизации – к чему, как долго веровал он, призвана Россия, – либо заражение России этим предсмертным европейским недугом, распространение далее на Восток западных ферментов гниения и распада (процесса широкого, длительного, на который не хватит одного столетья)… Леонтьев решительно говорит именно о гниении современного ему Запада. «…На Западе, несомненно, уже теперь „гниющем“…» – повторяет себя же он в 80-х годах, глядя в уже совершенно «тусклое окно в Европу»; с цветочувствительностью живописца, определяя особенный «серо-европейский» цвет деградирующей жизни; отвращаясь от «гнили и смрада новых законов о мелком земном всеблаженстве и земной радикальной всепошлости».
В социализме, кстати сказать (за столетье до нынешних «левых»), он видел «не что иное, как новый феодализм уже вовсе недалекого будущего», разумея «слово феодализм… не в тесном… его значении романо-германского рыцарства или общественного строя именно времени этого рыцарства, а… в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинения одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим…» А насчет конкретных осуществлений этого феодализма у нас – реалистически прикидывал: «…союз социализма («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) с русским Самодержавием и пламенной мистикой (которой философия будет служить, как собака) – это…возможно, но уж жутко же будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому». Социализм же «с человеческим лицом» (как две капли воды, похожим, конечно, на лицо
