Фаворит 5. Родная гавань
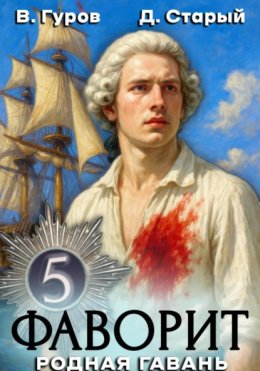
Глава 1
Я не струсил, не схитрил, не применил уловок в битве. И вот это было моей второй ошибкой! Я сам дал врагу возможность возвести железную крепость перед моими несчастными кази.
Исмаил I
Крепость Перекоп
18 апреля 1735 года
Фролов стоял под самой стеной крепости, вжимаясь в неё, будто бы сам хотел превратиться в камень. Десятерым диверсантам, тем, кому Фролов доверял больше всего, кто был отобран из более чем трёхсот кандидатов, удалось бесшумно преодолеть вал и ров.
Удивительно… Хотя чего удивляться, если полгода изо дня в день тренироваться, но удалось тихо взять в ножи турецкий секрет у вала. Из дюжины турок, которые несли вахту на валу возле моста, не спали только двое. Их «сняли», а потом…
Так что ножи русских диверсантов уже были в крови, а действия – чуть более смелыми. Шансов у врага, что он сможет вовремя заметить опасность, оставалось теперь крайне мало. Разве что – случайность.
Отряд стоял уже минут десять, почти что и не дышали. И вот, неподалёку от того места, где, прижавшись к стене и накинув маскировочные халаты, были диверсанты, вдруг плюхнулся в воду камень.
Почти не оставив на поверхности кругов, он ушёл под воду. Подпоручик Фролов, ожидая подобного сигнала, почти не моргая смотрел на воду. Иначе можно было бы этот всплеск принять за игры рыбёшек, которые сюда заплывали из озера Сиваш и резвились под утро.
Стены большой крепости Перекопа были толстыми, высотой в пять или шесть метров. Это не так чтобы сильно много, но вполне достаточно, чтобы крепость считалась серьёзным препятствием для штурма.
Вот только существовала важная особенность кладки этих стен. Она была местами неровная, много где осыпались камни. А после захвата казаками Перекопа аж в 63 году прошлого века эти стены почти что и не ремонтировались.
Да и кто мог предположить, что найдутся два умельца, которые рискнут взобраться, без лестницы и каких-либо других приспособлений, на самый верх?
Да, можно было бы использовать «кошки». Вот только был серьёзный риск. Закинуть их бесшумно – даже если обернуть крюки в плотную материю – было почти невозможно.
И теперь Фролов, цепляясь сильными руками за выступы, взбирался всё выше и выше. В Петербурге, на ещё не до конца достроившейся тренировочной базе, стояла достаточно высокая, сбитая из досок стена, на которую были набиты различные деревяшки, кое-где проделаны дырки. И по этой стене были обязаны лазить все в отряде.
И у Фролова это получалось лучше остальных. Своими цепкими пальцами он умудрялся зацепиться там, где большинство даже не видело себе опоры. И была бы это тренировка, Фролов бы уже давно был наверху, как, собственно, и его напарник. Но груз ответственности давил, и Фролов уже дважды чуть не совершил фатальную ошибку, повисая лишь на одной руке.
Подпоручик был уже почти на вершине – оставалось только подтянуться и неожиданно показаться врагу. Желательно – даже не показаться, а сразу убить вероятный дозор, ещё до того, как кто-нибудь увидит русских. Он слышал храп, значит кто-то спал недалеко. Но должен был быть и бодрствующие.
Кивнув друг другу, два русских диверсанта подтянулись, уже достаточно прочно держась за край стены. Оба синхронно спрыгнули и сразу же осмотрелись.
– Шайтан! – метрах в пяти от Фролова ахнул турецкий топчу-пушкарь.
Метательный нож – из тех, что были закреплены на груди Фролова – отправился в полёт.
– Дзынь! – Фролов промахнулся, и нож звякнул о камень рядом с турком.
В это время его напарник уже взгромоздился на бодрствующего турецкого артиллериста. Тот продолжал кричать, но отчего-то даже не поднимался – так и был полулёжа, облокотившись на одно из крепостных орудий, так и «принял» смерть.
– Хех! – гвардеец воткнул свой нож прямо в гортань орущего турка.
В это время Фролов уже перерезал горло четвёртому турку. Все мирно посапывали и, когда послышался крик, только приоткрыли глаза, но спросонья так и не поняли, что происходит.
Больше на этом участке противников не было. Остальные должны были отсыпаться в казармах. Русская армия стояла достаточно далеко и не беспокоила даже артиллерийскими выстрелами татарско-турецкую крепость. Так что причин, чтобы усиливать дозоры и жёстко требовать несения службы, ни у турок, ни у татар не было.
Через три минуты уже восемь русских бойцов стояли на крепостных стенах и, одну за одной, с невероятным напряжением сил, скидывали артиллерийские орудия со стены в ров. С изумлением Фролов смотрел, как с грохотом падают вниз пушки с оттиснутым на круглом боку гербом Российской Империи. Таких пушек здесь было больше половины [по свидетельствам, когда в реальной истории взяли Перекоп, там больше половины были пушки, захваченные турками и татарами еще во время походов В. В. Голицына].
Уже не скрывались, грохот стоял серьезный. Но время было. Нужно же врагу еще понять, что происходит, осознать, собрать хоть сколько воинов.
– Бах-бах! – оставшиеся бойцы Фролова подорвали край рва – и там начался оползень.
– Уходим, братцы! – выкрикнул Фролов, когда увидел, как бегут в его сторону турки.
Их было немного. Подспудно возникали мысли – дать бой. Но уже скоро появятся ещё и ещё… И любое промедление – это смерть. Так всегда говорил Норов, обучая их для подобных операций.
Оставив две пушки, не успели скинуть, но сломали, восемь отважных и уже опытных диверсантов начали свой отход. Они сделали свою работу. Теперь на этом участке артиллерии у врага нет. А перетаскивать с других мест проблематично.
* * *
– Бах-бах-бах! – три пушки били прямой наводкой по воротам.
Расстояние – не более двухсот метров. Как раз столько, чтобы не сильно опасаться ружейного огня со стен, и достаточно, чтобы убойная сила ядер смачно впечатывалась в массивные, обитые железными пластинами, ворота.
Казалось бы, что это – ну просто авантюра – вот так выкатывать пушки и почти безнаказанно бить. Однако ответом нам могла быть только вылазка гарнизона. И это был риск, что подобная вылазка случится. И главное предугадывать действия противника.
И, похоже, как я наблюдаю, немного недооценили мы степень организованности турецкого гарнизона. Я-то считал, что для того, чтобы им организовать хотя бы триста человек на вылазку, понадобится не менее получаса. Ждали вылазку, но позже, когда ворота уже раскурочим.
Бойцы спят, им нужно одеться. И не факт, что это получится быстро сделать. Опять же – получить оружие, порох. Организоваться, построиться. А ещё хоть какая-то разведка должна быть. Нужно же понять, какими силами сейчас атакуется самый центр протяжённых укреплений.
Но вот, прошло минут десять, и после очередного, уже третьего залпа трёх пушек, ворота начинают отворять.
– Уходим! – скомандовал я, находясь рядом с артиллеристами.
Мы побежали прочь, в укрытие – в один из не до конца сгоревших домов. А я бежал и думал, что генерал-лейтенант Леонтьев в этом случае приказал бы оставаться и биться до конца. Огромным позором считается сдача врагу своих орудий…
Даже у солдат бытует такая шутка, что любая пушка – это как жена. В бою можно пушку оставить врагу, потом даже её отбить у неприятеля. Но это словно жена побывала в лапах лютого извращенца. Вроде бы ты и вернул себе свою женщину, но покрыл себя определённым позором, и отношения в семье уже прежними не будут. Так что за каждое орудие нужно стоять до конца. И по этой же причине, чтобы минимизировать риск потери орудия даже на время, пушки редко выкатываются вперёд. Да почти никогда так не делается.
И вот я уже в укрытии, и не менее двух сотен турок бегут в сторону наших орудий. Моего приказа здесь не требуется – подобное было согласовано. И все должны быть готовы действовать. Да и приказывать не могу, по причине того, что отряд расположен по всем строениям.
– Бах-бах-бах-бах! – словно несколько пулемётов открыли огонь, послышались выстрелы из каждого мало-мальски нормального укрытия.
Стреляли штуцерники, стреляли фузеи, разрядились сразу три орудия короткой картечью. Нам удалось скрыть своё пребывание в полуразрушенном торгово-ремесленном посаде, по крайней мере, в таком количестве. Такого враг точно не ожидал.
Турки сразу поняли, что попали в ловушку. Как только практически половина их товарищей полегла прямо здесь, на мосту, они развернулись и ломанулись в ворота.
Туда же устремились мои бойцы. Был расчёт на то, что удастся на плечах отступающих турок вломиться в крепость. Уже где-то менее, чем в версте должны бить копытами башкирские кони. Я очень надеялся, что и другие конные отряды также будут быстро готовы вступить в бой и, что генерал-лейтенант Леонтьев, как мне кажется, последний дегенерат… Или хотя бы попробует на завершающем этапе сложной операции вступить в бой, чтобы после приписать себе победу?
Я просчитался… Сразу после первого нашего залпа ворота стали спешно закрываться. Турки жертвовали своим отрядом, небезосновательно рассудив, что, если они этого не сделают, мы ворвёмся на территорию крепости. А там… Да, многие бы мои бойцы полегли. Возможно, ещё и полягут. Но мы удержали бы ворота те минут десять, которые понадобятся башкирам, чтобы доскакать до крепости.
А так… Остается продолжать уже то, что делали раньше. Ворота уже погнутые. Остается добить их, раскрыть. Ну и дальше, согласно основному плану.
– Бах-бах-бах! – завершался разгром отправленного в жертву турецкого отряда.
Как минимум, уже минус более чем две сотни защитников Перекопа.
– Давай, братцы, молотите и дальше ворота! – сказал я артиллеристам.
Те с азартом выбежали из укрытия и направились к нетронутым пушкам. Теперь враг трижды подумает, отправлять ли ещё одну партию своих солдат, чтобы ликвидировать угрозу обстрела ворот.
Штуцерники тут же перезарядились и вновь направили свои винтовки в сторону крепостной стены у ворот. Если там появлялся хоть один ружейный ствол, тут же два или три стрелка разряжали свои штуцеры. Чаще не попадали, но явно мешали прицельно бить по пушкарям.
– Бах-бах-бах! – раздались ещё отлёты ядер в сторону ворот.
Были бы пушки покрупнее, так с одного или двух залпов вышибли бы эти ворота. И был бы командующий посмышлённее, так сюда бы уже направлялись пять или больше мортир, чтобы бить навесом по скоплению вражеских отрядов у ворот. А также подкатили бы осадные орудия, которых в армии было до десяти.
Но этого не происходило. Приходилось рассчитывать пока только на свои силы. Сейчас шло соревнование между нами и неприятелем, экзамен на выучку и организованность. Противнику нужно придумать, как быстро и каким образом осуществить переброску артиллерийских орудий с другого участка стены, так как большинство пушек были сброшены в ров умницей Фроловым. Мы же должны за это время, пока враг плохо организован, сделать всё возможное, чтобы прорваться в крепость, взять под контроль хотя бы малую часть стены, но рядом с воротами, лучше над ними.
– Ваше высокоблагородие, мы готовы к штурму! – явно пребывая в азарте боя, сообщил мне Саватеев.
– Вести от генерала есть? – спросил я в надежде, что не всё увидел, и что основная русская армия выдвигается на штурм крепости.
Да, был мой план, как я возьму Перекоп. Но дело – общее. И, как минимум, я обеспечил возможность взятия Перекопа. И взять-возьму. Но прогнозируемые потери больше половины. Я лишусь своего батальона!
Саватеев покрутил головой. А я невольно стал искать глазами укрытие, из которого в гордом одиночестве, используя новейшие пули и быстро перезаряжаясь, отрабатывал Кашин. Отменять приказ или даже личную просьбу, адресованную подпоручику Кашину, я не стал. За что генерал боролся, на то он и напорется.
России нужен результат в этой войне, а не напыщенный индюк в роли командующего, который, словно тот вампир, пусть и не кровью, но питается лестью и притворным восхищением подчинённых. Для которого личные обиды стоят даже выше, чем общая польза. Если бы я ошибался, то тут уже было бы не протолкнуться от русских войск. Мои бойцы взяли бы плацдарм на стене. И все… Иди и бери Большую крепость!
– Бах-бах! – в сторону ворот выстрелили только две пушки.
Видимо, третье орудие вышло из строя или трещину дало, или лафет поломался. Выкатывать ещё одну пушку взамен было некогда. Да и другие пушки были ещё меньше по калибру. Плохо… Но играем теми картами, что выпадают.
– Капитан, – обратился я к Саватееву. – Командуйте штурмом. Задача – захватить часть стены справа от ворот.
– Есть! – залихватски ответил мне капитан и побежал отдавать приказы.
Уже через семь минут, или около того, более четырехсот гвардейцев бежали по земле и камням, там, где был оползень. Лестниц у нас было мало – не более десятка. И захватывать верх стены предполагалось не с их помощью. Взметнулись ввысь «кошки». С первого броска удалось зацепить не более половины. Тут же натянули канаты, чтобы врагу было сложно скинуть кошки. Споро бойцы полезли вверх по канату. Вот она – физическая подготовка, дающая преимущество.
Здесь же рядом, на больших шестах, поднимались уже лучшие воины Российской Империи. Это были мои воины. Это мы отрабатывали подобные приёмы, сродни акробатическим этюдам.
Если меня попрут из армии, то создам первый в Российской Империи цирк. Но не с клоунами, а вот с такими ребятами, что сейчас взбирались по вертикальной стене, словно бежали по мостовой, лишь только упираясь на шесты.
Случились первые потери. По законам войны чаще всего первыми погибают самые смелые и умелые. Вот и сейчас трое бойцов, которые первыми забрались на стену, и кто-то из них уже успел скинуть противника в ров. Но русские бойцы, сражённые врагом, упали сами.
Следов подымались на стену уже десятки других бойцов. И вот уже небольшой клочок стены окрасился в цвет мундиров Измайловского полка. Штуцерники всё так же отрабатывали по стене, стараясь не дать никому из турок показать голову, чтобы разрубить канат или скинуть камень на штурмовиков. Всё же защитникам иногда это удавалось, но намного реже, чем если бы стена не была под контролем моих стрелков.
– Ба-бах! – и всё же одна турецкая пушка смогла выстрелить.
Сразу не менее десяти воинов, что были под моим командованием, в основном преображенцев и семёновцев, были убиты или получили ранения. Пушка била вниз со стены. Как только умудрились таким образом развернуть орудие?
А наверху стены уже кипел бой. Измайловцы расширяли плацдарм.
– Бах-бах! – прозвучал сдвоенный залп орудий, и ворота, наконец, распахнулись.
Образовалась небольшая щель, в которую могли зайти, может быть, только два всадника, идущих вплотную. Это было не очень хорошо. Но была и хорошая новость: ворота были настолько раскурочены, что даже большим усилием закрыть их обратно быстро уже не получится, по крайней мере, в условиях боя. Мы не дадим. Я перенаправил двадцать штуцерников на ворота.
– Бах! – к моему удивлению, выстрелила и третья пушка.
Я понял гениальную задумку подпоручика Смитова. Он придержал выстрел одного орудия. Когда возле приоткрытых ворот стали собираться вплотную линии защитников крепости, пушка отправила в их сторону как бы не увеличенный заряд ближней картечи. Стальные шарики при плотном построении людей с достаточно близкого расстояния забирали жизни сразу троих, четверых, прошивая турок и татар насквозь.
– Кашин, ты знаешь, что делать, – сказал я, подбежав к Ивану.
С суровой решительностью подпоручик кивнул мне, передал свой штуцер второму номеру, сам взял лучший из тех, что нам достались, карамультук, и побежал к крепостной стене. Ему предстояло сделать то, что окончательно повяжет наши с ним судьбы.
Но я уже видел, что Иван – свой человек. Не даром же я с ним проводил немало времени в беседах, как бы не больше, чем пытался переубедить в неправоте Данилова.
А бой, между тем, разгорался. Все еще было впереди. Но лучики, вдруг появившегося солнца, пробивающегося через смурные облака, вселяли надежду на лучшее.
Глава 2
Сражение выиграно по всем пунктам!
Михаил Илларионович Кутузов (после Бородино)
Крепость Перекоп
18 апреля 1735 года
– Да что же, чёрт возьми, там происходит?! – генерал-майор Юрий Фёдорович Лесли указал в сторону крепости. – Русские люди погибают! Гвардия умирает! Мы безмолвствуем!
– Вам ли говорить о русских людях! Кто вы?! Шотландец? Швейцарец? Ещё одно слово – и я прикажу вас арестовать! – разбрызгивая слюни, надрывая свой старческий голос, кричал в ответ генерал-лейтенант Леонтьев.
Командующий хотел проучить этого мальчишку Норова. Баловня судьбы, не по чину смеющего говорить с самим командующим. Был бы Норов не гвардейцем, а простым армейским офицером – Леонтьев бы уже давно предал бы его суду. Нашел бы за что. Но генерал-лейтенант понимал, что найдутся люди, которые заступятся за Норова.
А ещё Леонтьев понимал, что в этом споре мальчишка его переиграл. Если гвардия возьмёт Перекоп таким малым числом воинов, то неминуемо будут большие потери среди элитных русских воинов. С генерала за них спросят. Гвардия все больше превращалась из только лишь боевого подразделения в политическую силу, с которой многие заигрывают.
Если сейчас, феноменально удачно начавшуюся атаку гвардии, турки отобьют, то с генерала опять спросят: почему он вовремя не поддержал так хорошо начавшийся штурм крепости. И ведь найдутся те, кто доложит на верх обо всем, что тут происходило. Тот же генерал-майор Лесли сделает это.
Леонтьев видел, что он должен поддержать не менее, чем тремя полками штурм Перекопа. И сделать это нужно было ещё минут двадцать назад. Сейчас же уже нужно пускать в бой большую часть армии. Он уже проиграл. Леонтьев проиграл спор. Так почему бы всё-таки не выполнить свой долг перед Отечеством?
– Генерал-майор Лесли, ваша дивизия готова выступить прямо сейчас? – с суровой обречённостью спросил генерал-лейтенант.
– Готовы, господин генерал-лейтенант! – мгновенно выдал ответ Лесли.
– Генерал-майор Фермор, распорядитесь передать господину Лесли из вашей дивизии два полка уланов! – отдал ещё один приказ генерал-лейтенант.
Юрий Федорович Лесли, не медля, развернул своего коня, направляясь на восток, где уже готовая к бою была его дивизия.
Сам же генерал-лейтенант так же решил приблизиться к месту сражения. После же можно будет сказать, что он участвовал, даже командовал штурмом. Важно только “посветить лицом”, да и смелость свою показать.
При Леонтьеве всегда находился единственный к этому времени, недавно сформированный, полк кирасиров. Генерал-лейтенанту нравилось, как грандиозно выглядит любой его выезд в сопровождении таких молодцов. Так что он быстро приказал собрать собственное охранение, намереваясь одним из первых, к сожалению, скорее всего, после гвардейцев, войти в крепость.
Если после правильно подать эту информацию государыне, то многое спишется, не будет учтено плохое, а хорошее можно чуточку и подправить в нужную сторону. Императрица, да и большинство придворных, любят блеск побед. До такой степени, чтобы от этого блеска щурились глаза и не были видны все допущенные ошибки, ручьи крови и финансовые потери.
Даже будучи стариком, Леонтьев прекрасно держался в седле. Он ехал в окружении сверкающих на внезапно появившемся солнце доспехов кирасир. Генерал-лейтенант старался быть величественным и делать вид, будто держит ситуацию под контролем. Словно всё то, что сейчас происходит, и есть гениальный план великого тактика и полководца.
Шагов за двести кирасирский полк приостановился. В воротах, ведущих в Большой город, или в Большую крепость, было сущее столпотворение. Леонтьев скривился. Он видел, как рвутся в бой башкирские воины, как они относительно организованно, по два всадника, проникают внутрь крепости. Процесс этот всё равно занимал немалое время. Ещё более трёх сотен башкир стояли в очереди.
А сверху, на стенах, всё ещё кипел бой. Стена не взята под полный контроль отрядами гвардейцев. И не сделано это, скорее, потому, что защитников крепости было численно намного больше. Гвардейцы отстреливались, используя пики, постепенно, метр за метром, отжимали у турок стену. Но процесс этот был бы ещё очень долгим и сулил бы многие и многие потери, если бы уже не стали действовать башкиры, растекаясь малыми отрядами вдоль стены внутри периметра крепости.
Кашин был примерно в центре того участка стены, который пока удавалось держать под контролем гвардии. Благодаря слаженной работе гвардейцев и большому количеству пистолетов у них пока удавалось нивелировать численное преимущество врага. Но был риск того, что скоро порох и пули закончатся. Настолько много стреляла гвардия.
Подпоручик Иван Кашин мог бы подумать о том, что эта волокита на стене – это даже не про то, что необходимо взять всю крепость под контроль имеющимися силами. Это про то, что нужно выиграть время. Дождаться прихода подкреплений. И тогда численное превосходство будет уже на стороне русской армии.
У Кашина была своя задача. Когда все взоры гвардейцев были обращены по сторонам, когда внутри отвоёванной стены только тем и занимались, что маниакально быстро перезаряжали свои пистолеты и фузеи, чтобы сменить братьев по оружию впереди, Кашин направил огромное турецкое нарезное ружьё на север.
Ружьё было штуцером, но в полтора раза больше, чем те, с которыми Кашину пришлось уже работать. Удержать такое оружие, чтобы произвести прицельный выстрел, было невозможно. Так что Ивану пришлось облокотить его на выступы крепостной стены.
– Ох, и должен ты мне будешь, командир! – сказал Кашин, прицеливаясь.
Его слов никто не должен был услышать. Вокруг стоял гомон, крики, грохот выстрелов, сыпались проклятия, стонали раненые. Никому не было дела до того, кто будет должен подпоручику, и как будет возвращаться долг.
– Бах! – сразу две пули устремились по нарезному каналу ствола, исполненного турецким мастером.
Отдача была столь велика, что Кашин не смог удержать оружие. Карамультук упал со стены, а Кашин завалился на спину, запутавшись в своих ногах, когда вынужденно попятился назад. Благо что он упал со стены.
– Чего ж вы так, ваше благородие? Раненый, али как? – оказавшийся рядом солдат поинтересовался здоровьем офицера.
– Всё добре, – сказал Кашин, спешно поднявшись, направляясь к краю стены.
Солдат пошёл заниматься своей работой, передавать заряженные пистолеты в первую линию, а Кашин прильнул к зрительной трубе, что временно передал ему командир.
Что-либо рассмотреть более чётко не получалось – обзор закрывали множество спешившихся кирасир, которые обступили генерал-лейтенанта. Леонтьев упал с коня, значит попадание случилось.
Кашин был уверен, что попал. Расстояние было примерно в двести шагов, оружие подпоручик уже успел проверить во время боя, пусть и отбил себе плечо до состояния сильного ушиба. Подпоручик понимал, как и куда целиться, и что нужно брать немножко ниже.
Штурм крепости продолжался. Уже удалось взять под полный контроль ворота, даже немного их расширить, чтобы туда смогли проходить уже по три воина. Лесли, вопреки уставам, даже без барабанного боя гнал свои передовые полки. Солдаты и офицеры непривычно для себя бежали. Строй ломался, но все прониклись моментом, не роптали, подгоняли быстро запыхавшихся солдат. В то самое время, когда и у офицеров сердца стремились вырваться наружу, а сбитое дыхание мешало членораздельно говорить.
Но что участь Большой крепости была решена. А без Большой крепости Малая самостоятельно не могла бы продержаться и дня. Возвышающиеся над Малой крепостью артиллерийские позиции просто методично бы уничтожали остатки гарнизона.
Победа была. Но какова её цена?
* * *
Одновременно с тем, как только до меня дошло известие о “героической”, как это уже преподносится, гибели генерал-лейтенанта Леонтьева, начали подходить полки дивизии Юрия Фёдоровича Лесли. Я тут же отдал приказ всем своим бойцам уступить место новоприбывшим на крепостной стене.
Быстро собрав всех офицеров, которых только можно было выдернуть из боя, я отдал ещё один приказ. Суть его заключалась в том, что я разрешал всем подразделениям, но только находясь за спинами передовых частей, присмотреть, что полезного можно и нужно взять для нашего отряда.
Не скажу, что подобное моё предложение вызвало восторг у всех офицеров. Даже напротив, капитан одной из рот семёновцев намекнул мне о вызове на дуэль. Намекнул, потому как я принял бы вызов и не стал жалеть любителя дуэлей. Я же использовал такие формулировки, к которым особо не придерёшься.
Ведь ни слова не было ни о золоте, ни о каких-либо других материальных благах. Я говорил, скорее, о провианте, пистолетах, хорошем холодном оружии. Грабить, видите ли, честь не позволяет. Но когда речь идёт о сувенирах, о каких-то трофеях, которыми после можно будет хвастаться в Петербурге, как в полку, так и перед дамами… Вот это уже не грабёж. Это чести не противоречит.
Да и то, что я приказывал быть за спинами солдат подошедших полков, не вызвало бурю негатива. Все гвардейцы считали, что то, что получилось у нас сделать крайне ограниченным числом бойцов – великий подвиг. Что ни у кого больше не получится в сегодняшнем штурме сделать что-то сопоставимое с нашими деяниями. Потому и поберечься можно, в данном случае, не зазорно.
А я… Я пошёл в спешно в разворачиваемый полевой лазарет. Здесь, прямо под стенами, с убеждением, что крепость уже наша, мы с Шульцем будем пробовать изымать из лап смерти славных воинов, сделавших сегодняшнюю победу.
Моя память – предательница! Нет бы что-то толковое лезло в голову. Технология какая-нибудь, способная принести кучу денег или продвинуть экономику России вперёд. Или стихи какие вспомнились бы, вкупе с теми, что я уже успел положить на бумагу.
Так нет же. Никак не могла покинуть меня мысль, что в реальной истории взятие Перекопа обошлось для русской армии куда как меньшей ценой, чем сейчас, когда я вроде бы как поступал хитро, изворотливо, смело. И что удача, несомненно, была сегодня на нашей стороне.
И всё равно, без учёта башкир (по состоянию их дел у меня просто нет точных сведений), в моём отряде только безвозвратными потерями – шестьдесят два бойца. Сломал ногу и получил пулю в руку Саватеев, у Смолина, похоже, получилось сильное сотрясение мозга – не перестаёт блевать и заваливаться при попытке встать. Другие офицеры так же получили свое. Команда инвалидов может сложиться. В значении будущего, а не якобы ветеранов.
Всего раненых больше ста человек. Хорошо, что большая часть ранений – это переломы, сильные ушибы или огнестрельные, но в конечности. Нет, конечно, ничего хорошего в этом нет. По сравнению с тем, какой боеспособностью обладал мой сводный гвардейский отряд в начале штурма Перекопа, сейчас мы потеряли чуть ли не четверть всей своей силы и боеготовности.
Опять эта память! В реальности Перекоп был взят ценой меньше, чем четырех десятков жизней русских солдат. И это цифры по всему войску. Может быть, в какой-то мере это кощунственно и несправедливо по отношению к тем героям, что пали при взятии турецко-татарской крепости в иной истории, но я всё больше думал, что лучше бы тогда русское командование солгало, заведомо уменьшая цифры боевых потерь. А то слишком всё это бьёт по моему самолюбию, да и заставляет задумываться о правильности своих действий.
Думать – это правильно! Копаться в мыслях и проявлять неуверенность – вот это пагубное занятие. И мне хотелось бы понимать, что каждая жертва, что случилась сегодня во время штурма, не напрасна. Но будет время ещё проанализировать операцию, которая, даже с учётом немалых боевых потерь, но с большой скидкой на то, что штурмующих Перекоп было раз в пять меньше, чем обороняющихся. Мы совершили подвиг.
– Командующего убили! – слышал я нескончаемые возгласы с подобным сообщением.
Хотелось даже бросить операцию, выйти из шатра и закричать:
– Заткнитесь! Я уже знаю, что он умер. Туда и дорога дураку!
Хотелось, но не всегда нужно делать то, что хочется. Чревато и последствиями. Потому старался успокоиться и продолжать работать за операционным столом.
Эти многочисленные сороки, на своих хвостах распространяющие одну и ту же информацию, все равно раздражали. Мало того, что не могу выкинуть из головы всякие ненужные сейчас мысли, так ещё и эти орут. А ведь я стою за операционным столом со скальпелем в виде очень хорошо заточенного небольшого ножа в руках. Мне пулю извлечь надо, каналы вычистить, зашить.
Рядом, буквально в двух метрах, стоит ещё один операционный стол. За ним работает Ганс Шульц. Делает это уже со знанием дела, хотя всё равно опыта парню не достаёт. И вместе с тем он как бы не самый опытный, по моему мнению, доктор в Российской империи, который специализируется на военно-полевой медицине. И всё, что было для меня естественным, но к чему медицина шла десятилетиями и веками, я уже Шульцу передал. Передал все из того, что можно было внедрять здесь и сейчас.
Эх, нам бы ещё как-то определить группы крови! Вот хоть убей, не знаю, как это делается. Каждый третий из тех, кто тяжело ранен, рискует умереть от потери крови. Да и в целом, было бы переливание крови, у каждого раненого было бы чуть больше шансов выжить.
Свежая кровь приносит ещё больше иммунитета. Ну, так мне кажется. И в двух случаях я чуть было не решился подумать над тем, чтобы перелить солдатам кровь. Да и сделал бы это, ведь они были обречены. Однако быстро придумать, как слить у кого-то кровь, чтобы потом влить каким-то непонятным образом в человека, не получилось.
Расширяю каналы, зажимая кожу по бокам притупленными ножницами, извлекаю пулю и начинаю чистить. Вплоть до того, что где-то немного плоти человеческой подрезаю. Как умею, не хирург. Но если бы я не помогал медику, то было бы больше смертей.
– Чёрт! – неожиданно нечеловеческим голосом орёт Шульц.
Я вовремя придержал свой нож, смог среагировать, а то рука бы дёрнулась, так ещё бы заколол своего раненого, добил бы бедолагу.
Быстро понимаю, что происходит. Оставляю в пьяном недоумении от выпитой “анастезии” своего пациента, перемещаюсь к операционному столу Шульца.
Огромная проблема хирургии этого времени – это смерть от болевого шока. Можно немало влить хмельного вина в больного, может, слегка боль и приглушится. Но уж точно не намного. И в ходе болезненных операций человек умирает от остановки сердца.
Хватаю за запястье пациента немецкого медика – пульс не прощупываю. Уж что-что, а науку реанимации человека в полевых условиях без аппаратуры я запомнил хорошо. За свою прошлую жизнь я не только был прилежным теоретиком этой жизнеспасающей науки, четырежды занимался реанимацией. Трижды – успешно.
– Давай же, немчура клятая! Дыши в него! – кричал я на Шульца.
И не только кричал, а умудрился даже, не прекращая делать массаж сердца, ногой медику дать под задницу.
– Соберись! – продолжал я попытки вывести из ступора Ганса.
Он отличный доктор, перспективный. Науку улавливает быстро. Но то ли по молодости, то ли по каким-то иным причинам, иногда Шульц в стрессовых ситуациях теряется и чуть ли не начинает паниковать.
– Один, два, три, четыре, пять… тридцать! Вдох! Ещё один! – кричал я, и Шульц наконец начал реанимационные действия.
Проверил пульс – есть! А секунд через десять раненый даже открыл глаза. Лучше бы он этого не делал, так как в бессознательном состоянии пациента операция прошла бы более спокойно. А его еще нужно зашивать.
Вернулся к своему больному.
– Спасибо! – на русском языке, единственным словом, но наполненном как бы не восхищением, поблагодарил молодой немецкий доктор.
Женить его нужно срочно, заземлить в империи. Так много сил и знаний я вкладываю в этого юнца, что не могу позволить ему уехать из России. Более того, недопустимо просто удаление Шульца от меня под чьё-нибудь другое крыло. Планы на доктора большие. Пусть пока накапливает опыт и на практике видит уже приобретенные знания. А там попробуем вместе и научные статьи написать.
– Продолжай операцию! А я с тебя позже возьму клятву на крови, на верность и сохранение тайны! – вроде бы произнёс я шутливые слова, да и хотел пошутить, но вышло как-то серьёзно и даже с угрозой.
Мы оперировали до сумерек. Восемь часов к ряду я простоял за операционным столом. С учётом ночного бдения, штурма Перекопа… да не буду я даже думать об усталости. А то словно бы жалуюсь постоянно. Чего жаловаться, если и крепость взята, и я подарил бойцам шанс жить дальше, извлек пули, где они застряли, хорошенько прочистил их каналы, подшив где можно было.
– Жить будет? – как только я вышел из большого шатра, где была развёрнута операционная, с вопросом навалился на меня Алкалин.
– Если Бог даст, жить будет непременно. Я всё сделал, чтобы Богу было проще принять решение подарить ли новую жизнь твоему брату! – сказал я, даже не подумав о том, что, может быть, такими словами в какой-то мере даже богохульствую или противоречу религиозным мировоззрениям старшины башкира.
Выбирать тон или подбирать нужные фразы и выражения в данный момент я даже не собирался.
Башкиры на операционный стол стали пребывать чуть позже, уже даже после того как мы с Шульцем провели по четыре операции. Я знал, что далеко не всех своих тяжело раненых башкиры отправили в лазарет. Не верили они в то, что хирургическим образом можно спасти человека, когда тому разворотило живот. Да и я, наверняка, не взялся бы за такую операцию.
– Чтобы знал ты, друг мой, отныне я тебя братом считать буду, – башкирский старшина приобнял меня, чуть согнувшись, словно заговорщик, отвёл чуть в сторону и что-то сказал на своём родном языке.
Алкалин осознал, что я ничего не понял, и нехотя, но позвал переводчика.
– Мои войны взяли турецкую казну. Я признаю тебя старшим, потому половина от всего того – твоё! – переводчик не менее торжественно и картинно говорил, чем сам Алкалин.
Театралы, мля!
Мне сложно было скрыть своего раздражения и даже негодования. Я понимал, что подобные эмоции бурлят во мне больше из-за усталости и, как следствие преодоления сильнейших стрессовых ситуаций. Так что только повздыхал.
– Ты чем-то недоволен, батыр Искандер? – старшина, не будь дураком, заметил противоречивые мои эмоции.
– Нет, я всем доволен и благодарен тебе, мой брат, – после этого признания улыбка башкирского старшины чуть было не разорвала ему рот. – Устал я. Не так легко лечить раненых, вырывать их из лап шайтана.
И переводчик, и старшина многозначительно покивали, даже с каким-то выражением сочувствия.
Моё недовольство, прежде всего, было вызвано тем, что я понял, откуда у башкир такие большие потери. Ведь только до операционного стола дошли три десятка степных воинов. А я-то знал, что большинство раненых, особенно тяжёлых, просто не додумались везти сюда на лечение.
Это степняки так гонялись за золотишком или серебром, которое в крепости, несомненно, было. А после я ещё узнал, что как только в крепость начали входить подразделения русской армии, Алкалин перенаправил все усилия своих бойцов на поиск, чем поживиться. Отобрать золото и серебро оказалось более кровопролитным делом, чем даже сражение на улочках крепости.
– Ты уже посчитал, сколько было взято? – всё же проявил я интерес.
Не стоит скрывать, в том числе и себя обманывать, пытаясь убедить, что я не такой, что за деньгами не гонюсь. Нет, гонюсь я за деньгами. Даже своему батальону наказал найти как можно больше нужных материальных благ в крепости.
– Твои будут две тысячи монет золотом! – сказал Алкалин.
Глаза переводчика расширились, и он не сразу назвал мне цифру.
Хотя я немного уже начал понимать башкирский язык, особенно когда дело касалось не мудрёных фраз, а числительные использовались в русскоязычной традиции.
Сильно. Очень сильно. И только эта информация позволила выкинуть из моей головы лишние мысли про какие-то неудачи. Я всегда знал, что война – для многих прибыльное дело. Это ужасное явление человеческой жизни, но прибыльное.
Помню, когда в сорок пятом до меня дошли выплаты по трём подбитым мною танкам и за сбитый немецкий самолёт… Я чувствовал себя богатейшим человеком Советского Союза. Учитывая всё то, во что это вылилось, пришлось даже ощутить какой-то стыд. Я богатый, а в стране много бедных.
Так что Великая Отечественная война также была для немалого количества людей весьма прибыльным делом. Я привёл пример только лишь одного из легальных способов заработка на войне, а сколько было иных вариантов?..
Алкалин отправился к своим воинам, часть которых всё ещё была в крепости или её окрестностях и гонялась за татарами… или, скорее, даже за их лошадьми. А вот другие пребывали недалеко от лазарета. Старшина решил приказать всем своим раненым воинам обратиться за медицинской помощью ко мне…
Нет. С меня уже хватит. Дальше пусть отрабатывает уже один Ганс. В критический момент я ему помог. Но каждая профессия потому и выделяется, и даётся человеку, чтобы он занимался своими делами. Порядок и чёткая организация возможны только в том случае, когда каждый занимается своим делом профессионально или около того.
Я сидел на табурете возле входа в лазарет. Для полноты картины, наверное, не хватало дымящейся папиросы. Немытый, в кровавом фартуке, и пустыми глазами смотрел вдаль, ничего не замечая вокруг. Вот так смотришь, но не видишь. Признак того, что не мешало бы поспать.
– Господин секунд-майор, – услышал я справа знакомый голос.
Резко, на вбитых рефлексах, я вскочил и принял стойку бравого лейб-гвардии офицера.
– Да сидите вы, Александр Лукич. А если и мне предложат такой стул, присяду рядом с вами, – сказал генерал-майор Юрий Фёдорович Лесли.
Караульный, стоящий у входа в операционную, моментально скрылся в палатке и через мгновение вынес оттуда ещё один табурет. Что ж, видимо, нам, действительно, есть о чём поговорить с генерал-майором. И уже тот факт, что генерал меня не вызвал к себе, а сам пришёл – еще так, более чем по-свойски, – присел на табурет рядом, должно сулить правильный, мужской, без надрывов разговор. Такой формат общения я предпочитаю всем иным.
Глава 3
У многих из нас есть чокнутые родственники. А многие из нас в глазах родственников – сами чокнутые.
Джим Керри
Между Перекопом и Гизляром
20 мая 1735 года
Человек, сидящий напротив меня, был удивительным образом похож на мою мать. Конечно, скорее, нужно было бы сказать, что это она похожа на своего отца. И вот такая странность: мама была величайшей из красавиц, которых мне довелось встретить в этом мире, и не уступала первым медийным красоткам, которых я видел в интернете или по телевизору в прошлой жизни. А, учитывая исключительную натуральность во внешности… Она лучшая!
А вот дед – тот человек, который вроде бы и является биологическим отцом моей матери, имея очень схожие с ней черты лица, выглядел грубо. Имел даже отталкивающую внешность. Может, всему виной чудовищный шрам на левой щеке? Те же губы, похожие, чуть раскосые глаза, тот же нос… А, нет, нос был чуть изогнут, скорее всего когда-то поломан и не нашлось костоправа, чтобы исправить погрешность.
Солнце палило нещадно, хотя это так думается. Наверняка настоящая жара еще впереди. Но я больше по своими ощущениям человек северный, жару не люблю. И понимаю, что вот теперь переходы по степи, особенно, если бы ее подожгли, принесли куда как больше потерь, а не эти, менее тысячи. Хотя и такое количество солдат и офицеров, которые умерли не на поле боя – много. Но не так критично, как в иной реальности.
Мы сидели под навесом из плотной ткани. Тень несколько нивелировала потуги палящего солнца создать максимум дискомфорт, которого и без того хватало. Разговор не был из легких и постоянно витала какая-то недосказанность, жеманность.
Мы сидели и смотрели друг на друга, изучали. Наверняка, как и я, человек напротив несколько растерялся и не знал, как начать уже серьезный разговор. Если даже приветствие не задалось.
– Я горжусь тобой, внук, – на чистом русском языке сказал Исмаил-бей.
Я не мог скрыть своего удивления ранее, когда мы только поздоровались. До сих пор сложно видеть татарина, пусть и со славянскими чертами, который на русском языке говорит лучше, чем многие придворные в Петербурге. Ну ладно, можно было бы как-то коверкать слова, с жутким акцентом воспроизводить русскую речь. Но не так чисто, будто она для тебя родная.
– Я тебя ошеломил тем, что свободно говорю на русском наречии? Если Гульнара, твоя мама, моя дочь, рассказала тебе обо мне и обо всей нашей семье, почему же не сказала, что моей почтенной матерью была русская женщина? И что Гульнару родила тоже русская женщина? У меня три жены, и две из них русские, одна гречанка, – сказал пожилой мужчина.
И я понял, почему и моя мама, и вот этот, вроде бы как мой дед, внешне несколько отличались от того уже установившегося у меня в голове образа крымского татарина. Впрочем, кардинально ситуацию не меняет даже этот факт. Всему виной славянский генотип.
– Дед… Я называю тебя так, потому что это удобно при общении. Так решил Бог, что я твой враг. Но даже враг, если он не подлый, достоин разговора. Я не могу назвать тебя своим дедом, как родственника. Нас многое разделяет. Сейчас я на той земле, которую ты считаешь своей, но уже в ближайшее время она будет русской, – сказал я, наблюдая, как пожилой мужчина состроил разочарованную мину.
– Мне неприятны твои слова, что не считаешь меня своим дедом. Когда-то я понял, что от любого родства нельзя отказываться, пошёл против правил и не стал убивать твоего отца, чтобы забрать свою дочь, – сказал, будто бы отчитывая меня, дед. – А возможности были, чтобы ты знал.
– И ты присылаешь моему отцу кинжалы, чтобы он сам себе перерезал горло? – спросил я, вспоминая рассказы родителей.
– Они тебе и об этом рассказали? – Исмаил-бей рассмеялся. – Это уже больше для смеха. Твой отец оказался достойным человеком. Это я понял уже потому, что Гульнаре с ним хорошо. Плохо, что она забыла Аллаха и Мухаммеда – пророка нашего. И вот за это я хотел когда-то убить даже свою дочь. Семья и вера – вот важнейшее, что есть у достойного мужчины.
И ведь он прав. Но в моём мировоззрении есть две категории, которые считаю главными скрепами в жизни любого мужчины. С одной стороны, это, конечно же, родство. Семья – это очень важно, порой, даже важнее всего остального.
Но есть ещё и долг перед Родиной. И он очень зависит от любви к семье, если использовать более широкое понятие родства. Только в мире-утопии мужчина может отказаться от функции защитника. Для этого должна исчезнуть агрессия, жажда наживы. Но ведь это невозможно. Поэтому мужчина – это защитник.
И в отношении человека, сидящего напротив меня, внутри меня верх берёт ипостась защитника. Наверное, во мне может появиться некоторая неуверенность, если надо будет убить человека, который является моим биологическим дедом. Но я это сделаю, если долг того потребует.
– Знаешь ли ты, внук, что ханы Гераи не имеют полной поддержки среди всех татарских беев? – спросил Исмаил-бей тоном преподавателя, задающего дополнительный вопрос на экзамене нерадивому студенту.
– Знаю. Но не понимаю, это же династия старая, – с некоторым раздражением ответил я.
– Ты многого еще не можешь постичь. Ты молод!
Будет ещё этот шестидесятилетний, или немного старше, юнец поучать меня, стодвадцатилетнего старика! Но ладно – пусть молодой. Лучше, чтобы собеседник недооценивал меня, менее сторожился и подбирал слова. Больше раз ошибется.
– Ответь мне, чтобы понятно было: какова цена твоим словам и намёкам? Ты говоришь, что не все готовы умирать за хана. А есть ли у тебя славянские, православные рабы? – спросил я, а Исмаил с сожалением покачал головой.
Нет, жест не говорил о том, что рабов у деда нет. Исмаил демонстрировал мне, что сожалеет, что я говорю с ним в таком тоне.
– У меня есть рабы – русские, ляхи, кабардинцы, иных народов. Многие из них занимаются ремеслом и даже мелкой торговлей. Разве в Московии как-то не так? Разве сами христиане не имеют рабов, таких же христиан? – парировал мой вопрос дед.
На самом деле, частично он где-то прав. Крепостное право становится всё более нелицеприятным явлением в Российской империи. Но это понимаю я, может быть, ещё кто-то. Но таких людей в России – единицы. Существующее положение дел вполне приемлемо для большинства. И крайне мало тех, кто видит пагубность крепостничества.
Что же касается рабства в Крымском ханстве, то оно не сильно отличается от того, что из себя представляет крепостничество. Лишь с тем исключением, на мой взгляд очень даже важным, что имеет место быть притеснение по религиозному признаку.
– А разве гяур не должен кланяться каждому правоверному при встрече? А разве не имеет право магометянин даже убить неправоверного только лишь за неуважение? – не хотелось бы, но разговор наш уходил в сторону дискуссии.
– И не потому ли нынче в ханстве доля иноверцев и инородцев растёт, тогда как татар становится меньше? Греки, армяне, готы, евреи, славяне – их и было, и остаётся в Крыму превеликое множество. Есть немало и тех бывших рабов, которые смогли выкупиться своим трудом. И они не возвращаются в Московию. Они уже рождены здесь, – и вновь приводил весомые аргументы мой дед.
Я прекрасно понимал, что у каждого народа, у каждой цивилизации есть своя правда. Есть она и у татар. Своя, основанная на религии, но уходящая корнями во времена еще до принятия ислама. У них есть память, восхваление успешных походов на Русь, Россию.
Уже немного пообщавшись с крымскими татарами, в том числе и с пленными, я видел главную причину, почему Крым не может на данный момент стать добровольной частью России – религия и никуда не девшаяся великодержавность. Наследие державы Чингисхана.
Засилье турок нравится далеко не всем татарам. Мой дед тому пример. И двадцать лет назад, и пятнадцать лет назад были серьёзные выступления крымских беев против власти Гераев. Я даже предполагаю, что одним из лидеров оппозиции хану был мой дед.
И вот на эту основу опереться бы нам в деле покорения Крыма. И ведь можно это сделать. Свободу вероисповедания разрешить на этих землях… Если ещё к этому присовокупить дарование татарским элитам таких же прав, как и русскому дворянству, назвать кое-кого из них князьями, то мы могли бы получить серьёзных союзников в Крыму. Ну если еще влить денег на подкуп элит и проводить мощную пропаганду наряду с жесткой политикой при нарушении договора.
Вот только понимаю это я, вряд ли многие. И реалии несколько иные. У меня и вовсе складывается впечатление, что в Петербурге не будут знать, что делать с нашей победой. Россия будто бы не готова к завоеванию Крыма. И нынешняя компания – это скорее попытка ослабления Крыма, ну и Османской империи, чем планы по захвату каких-либо территорий. Но, как говориться, аппетит приходит во время еды. А матушка-императрица покушать горазда.
– Дед, ты должен понимать, что полной свободы вероисповедания не будет. Перехода из христианства в магометанство Россия не допустит. Можно заключить наряд, чтобы ваши мечети не разрушали. Но всё равно в Крыму будут строиться православные храмы. И здесь я без силы чем-то помочь. А, как христианин, только и буду выступать за то, чтобы в Крыму… здесь же колыбель русского православия – в Корсуне… – задумчиво отвечал я.
– Не разрушать мечети, разрешать строить другие – это уже немало. Я это понимаю. А в остальном… Если мы договор подпишем, и в Крыму будут стоять русские войска, но только такие выученные, как твои воины, внук, которые уже прославились, то немного, но не менее десяти родов я найду, которые согласятся сменить Османов на москвитов. Знай это… – Исмаил-бей задумался, наверное, решался ещё что-то сказать важное.
Но чего уж тут решаться, когда прозвучали такие слова, за которые вырежут и самого Исмаил-бея, и всех его родственников, живущих в Крыму. Как говорила моя мама в прошлой жизни: «Пропала коровка, пропадай и верёвка». А отец ей вторил: «Сгорел сарай – гори и хата!»
Видимо, такой мудростью и мой дед проникся, потому что дальше последовали весьма интересные данные, которую мои разведчики добыть не смогли. Да и не было у меня возможностей для такой глубинной разведки, чтобы понимать ещё и стратегические сдвиги в регионе, а не только оперативные.
По словам Исмаил-бея по всему Крыму идёт сбор воинов. Алга, ханский брат, оставшийся в живых из всей линии нынешнего хана, собирает войско, чтобы не допустить подхода русской армии к Бахчисараю.
– В Очакове собирается пятнадцатитысячная армия турок… К Дунаю вышла стодвадцатитысячная армия султана, – сообщил мне мой дед. – Сам визирь ведет такие войска. Буджацкая орда ждет, как присоединиться к турецкому войску. Они идут медленно. Только переходят Дунай, но месяц… И эта армия будет тут.
– И получат потери от солнца, подожжённой степи… Все то, что должно было остановить нас, Россию, – сказал я.
Какая-то юношеская обида проснулась во мне. И понятно, что у турок таких санитарных потерь, как у России не случится. Нет, не потому, что в их армии порядка больше. Вряд ли, если только чуть более чище по религиозным правилам. Но турки могут опираться на Аккерман, Очаков, другие свои причерноморские крепости.
Могло бы показаться, что дед будто бы отговаривает меня. Пугает большими и грозными дядьками, которые придут и накажут за провинность.
– Вы не сможете за это лето взять Крым под свою руку. Без меня не сможете… – наконец-то, родственник подошёл к самому главному. – Если мои условия и условия тех людей, которых я смогу повести за собой, будут приняты, то к середине этого лета я смогу поднять восстание в Керчи. Рядом с этим городом мои земли и мои люди… Найдутся и другие беи, в других местах.
Именно на это я и рассчитывал – что удастся найти хоть какую-то силу, которая сможет стать нашей пятой колонной. Крымское ханство можно завоевать, что и было сделано в иной реальности, правда, значительно позже.
Однако не стоит недооценивать, пусть и весьма отсталое в индустриальном и военном плане, такое государство, как Крымское ханство. Просто так прийти нам, русским, объявить о своей власти по праву сильного, сделать очень и очень сложно.
При подобном узколобом подходе к делу покорения Крыма необходимо будет пролить такие реки крови… Да просто физически уничтожить большую часть населения Крымского ханства. Нужны ли такие завоевания?
Я сейчас имею в виду не гуманизм, хотя и мне претит идея геноцида какого бы то ни было народа. Я больше думаю о тех ресурсах, которые должны будут быть затрачены на то, чтобы уничтожить всех крымских татар. А потом, когда земля полностью обезлюдеет, придёт в запустение, нужно будет её ещё и начинать восстанавливать.
А где людей брать для этого? В реальности, возможно, существовали подобные проекты – заселить Крым полностью немецкими колонистами, вроде как и англичанами. Но я, например, считаю это куда худшим вариантом, чем попробовать наладить отношения с оставшимися на полуострове татарами. Еще не хватало нам мест, где европейцы со временем могут начать кричать о своей независимости.
– И ты же понимаешь, что людям нужно дать надежду, что они не будут умирать от голода? Что нам делать? С Османской империей больше не поторгуешь, ну или не сразу. Как жить? За счет чего богатеть? – задавал резонные вопросы как бы родственник.
И я был готов отвечать. Неоднократно думал о возможном переустройстве экономике Крыма, чтобы еще и мирными способами прибирать эти земли в состав Российской империи.
– Вот, дед, как я вижу, чем вы можете заниматься… – говорил я, когда внимательно выслушал разведданные от своего родственника, принял их к сведению, но не проявил никакой бурной реакции.
– Вот это, внук, самое главное. Чем заниматься будут мои люди и те, кто останется в ханстве, пусть и под рукой России. Поставлять рабов на невольничьи рынки у нас уже не получится… – дед усмехнулся. – Или Россия даст нам возможность покупать крепостных? Вижу, что не даст…
– Я думал, ты и сам прекрасно понимаешь, что у вас это не получится даже в том случае, если Крым не станет русским в ближайшее время. Время набегов на русские земли и тысяч полоняных прошло. Я даже думаю, что можно будет создать оборонительные укрепления, которые протянутся даже до Перекопа. Закрыть вас на полуострове, разделить Кубанскую и Буджацкую орды, обособить Ногайскую, и разбить их поодиночке… – серьёзным видом сказал я, хотя сам ещё не знал, возможно ли это технически.
А потом мы долго и обстоятельно говорили, какой может быть экономика в Крыму и чем могут заниматься татары, чтобы не быть бедными. Для людей крайне важен вопрос, а чем они будут зарабатывать на жизнь, когда придёт другая власть.
При этом уже сам факт того, что появляются знатные татары, которые видят немножко дальше собственного носа, которые понимают, что жить, как жили их предки, уже не получится – это вселяет надежду. Допустить хоть какие-нибудь набеги на территорию России я не могу. Значит, в той же Кафе или Керчи, в Гезлеве, где и без того уже крайне ограниченные рынки невольников, торговля рабами должна исчезнуть совсем.
А я видел у себя в фантазиях Крым с весьма процветающими и живущими в нём татарами. Во-первых, России нужно просто колоссальное количество лошадей. И, если использовать ту же самую уже проверенную на конезаводах герцога Бирона технологию искусственного осеменения, то любой конезаводчик, в том числе и в Крыму, будет иметь огромную прибыль. А русский рынок будет потреблять столько лошадей, сколько их будет поставлено. Тем более, что предстоят многие войны, а России нужна кавалерия. Пусть и крымские кони не подходят тяжелой коннице, но уланам, или гусарам, вполне.
Во-вторых, как я говорил своему деду, можно производить большое количество шерсти. Заниматься овцеводством в Крыму – это уже традиционное дело. Но я смогу поставить одну-две фабрики недалеко от Крыма, чтобы скупать практически всю ту шерсть, которую мне будут давать на реализацию. Или это сделаю не я, но найду того, кто заинтересуется подобным, даже на первый взгляд, весьма прибыльным проектом.
И это я не говорю ещё о том, что русский рынок сейчас становится даже более ёмким, чем рынок Османской империи. Всё то, по мелочи, чем торговали татары, армяне, греки с османами – всё это можно будет продавать в России. Причём, мирное соглашение всё равно же будет заключено, и тогда приоткроются торговые тропки и к османам.
Я говорил и поймал себя на мысли, что начинаю чувствовать себя словно Остап Бендер, когда тот рассказывал про межгалактический шахматный турнир в Нью-Васюках. Вот только я был полностью уверен, что развить Крым можно. И это я ещё не упоминал про виноградники и вино.
Уезжал я поздно вечером. Исмаил-бей приглашал меня посетить его дом, хотя и сам дед не знал, как это вообще возможно сделать. Он хотел расспросить меня о моей семейной жизни, о планах, то есть поговорить, в конце концов, как мог бы говорить дед со своим внуком. Вот только… слишком поздно. И я устал от долгих разговоров о политике, о будущем, о тех силах, которые могут восстать против хана в Крыму. Так что не было уже никакого желания говорить еще и о чём-то личном.
Главное было сказано… Теперь нужно в срочном порядке слать вестовых к Миниху, с информацией. Но еще придумать, как сохранить в тайне не факт встречи. А что я встречался со своим родственником.
Глава 4
Болезнью шутит тот, кто ран не ведал.
У. Шекспир
Царичанка (южная граница с Диким Полем)
25 мая 1735 года
Небольшой городок Царичанка за зиму, и уже почти всю весну, превратился в кишащий войсками крупный город. Не реже, чем один раз в две недели сюда прибывал новый полк для участия, как первоначально предполагал фельдмаршал Христофор Антонович Миних, в военной кампании следующего года.
Неделю назад с целой дивизией подошёл недавно ставший фельдмаршалом Пётр Петрович Ласси. Миних, наконец, нашёл общий язык с этим военачальником. Впрочем, они и не ссорились. А то недоразумение, которое случилось под Данцигом, оба немца на русской службе смогли решить в русской же традиции. Выпили, высказали друг другу всё то, что было на душе, на хмельную голову озвучили своё уважение, ну и принялись за дело.
После комментариев и приведенных фактов Миниха, Ласси также проникся идеей улучшения санитарного состояния в армии. Во многом именно этим они и стали заниматься, постоянно третируя своих офицеров и устраивая нескончаемые проверки. В общей сложности в Царичанке и её окрестностях собралось уже более двадцати двух тысяч солдат и офицеров.
И это только русские силы. Башкиры, согласно договору с империей, привели десять тысяч своих конных воинов. Правда, должны были привести пятнадцать тысяч. Но и такое количество степняков казалось Батыевом нашествием. Они же привели по две, часто по три, лошади каждый.
Если степь все-таки подожгут!.. Как же столько коней прокормить? Вот только, степь по берегам Днепра нынче пустая. Кто из степняков пошел к Азову, где собирает войско Каплан Герай. Хан, по данным разведки, остановился и ожидает подхода Ногайской Орды. Иные, как Буджацкая Орда, отправилась ждать прихода турецкого войска к Аккерману. Так что пройти в Крым можно, никто особо не будет мешать.
Оба фельдмаршала понимали, что почти тридцать пять тысяч воинов, включая иррегулярные войска степняков, не могут сидеть без дела ещё практически целый год. Это даже чревато резким падением дисциплины и огромными проблемами, в том числе связанными и с недоверием к инородцам. Нужный действия.
– Господа, высказывайтесь! – открыл военный совет Христофор Антонович Миних.
– Прошу, простить меня, если скажу что-то не так, но, по моему разумению, единственное, что мы должны нынче сделать – это пойти к Перекопу! – первым высказался Александр Иванович Румянцев. – Стоять – только проедать припасы. Дезертирство скоро станет костью в горле… А башкиры пришли не стоять, они хотят доказать, что воины.
Это Румянцев и привёл огромную массу башкир. А так же Александр Иванович сопровождал три пехотных полка. Румянцев, как никто другой, понимал, что башкирам нужна война. Просто так сидеть на одном месте они не станут, обязательно начнётся какой-то конфликт. Кроме того, башкирам нужна война прибыльная для них.
– Мало у нас было головной боли? – сказал один из приглашённых офицеров.
Но практически все присутствующие, в том числе и командующий, как и его заместитель, Ласси, кивнули в знак согласия. Для Миниха лучшим решением было бы увести башкир обратно в степь. А то приходится постоянно оглядываться на них. Кроме того, саксонец просто терялся при необходимом общении с этим народом. Слишком разная культура.
Однако фельдмаршал понимал и политическую подоплёку участия башкирского войска в войне против Крымского ханства, как и против Османской империи. Договор в Петербурге между башкирами и Российской империей подписан. И теперь, чтобы ещё больше связать отношения, нужна дружба на крови. К сожалению, но просто жизнь такова, что любой договор держится либо на страхе, либо на общем деле. И крепче то тело, которое грязное, но обе стороны вымазались в нём одинаково.
– Признаться, господа, – Миних сегодня решил быть более откровенным, чем обычно. – Я не думал, что та армия, которая выдвинулась в Крым, преодолеет Перекоп. Более того, удалось захватить существенные запасы фуража и провианта неприятеля. Скорее компания этого года для меня была разведкой. Но если так сложилось… Да, нам пора действовать. Нужны подкрепления и нажим. Нужны бои и, наконец, забыть о позоре Прутского похода! Русский должен бить турка! [имеется ввиду Прутский поход 1711 года, когда Петр Великий проиграл туркам и сам чуть не был взять в плен]
Другие присутствующие офицеры удивились подобным всплеском эпоций фельдмаршала.
– Нужно отдать четь генерал-лейтенанту Леонтьеву… – сказал фельдмаршал, еще больше вгоняя в недоумение присутствующих.
Все знали, что Миних и покойный ныне генерал Леонтьев были настоящими врагами. И теперь даже те, кто мог бы быть на стороне генерал-лейтенанта Леонтьева, конечно же, в любом случае высказывались в поддержку Миниха.
Вот только в войсках, да и в Петербурге, в основном принята та точка зрения, что Леонтьев пал смертью героической, практически чуть ли не первым войдя на территорию турецко-татарской крепости. Фельдмаршал же Миних, зная в подробностях, как именно умер Леонтьев и что он делал, решил поступить благородно и не порочить имя уже погибшего своего врага. Так что для всех генерал-лейтенант Леонтьев стал образцом героического генерала. Но все равно, чтобы вот так, прилюдно признать героизм своего личного врага?
– Ещё мнения? – спросил фельдмаршал Миних, но никто больше не стал высказываться. – Как мы готовы к переходу? Доложите о наличии всего необходимого!
Доклад на эту тему обстоятельно готовил Пётр Петрович Ласси. Уже учитывалось то, что татары могут поджечь степь и засыпать колодцы. Это маловероятно, но может быть. Так что вопрос фуража и воды стоял одним из главных. Даже, может, более важным, чем достаточное количество пороха и ядер.
По тем отчётам, которые присылались генерал-майором Юрием Фёдоровичем Лесли, ставшим после погибшего Леонтьева командующим русской армией в Крыму, уже была взята знатная добыча. Пороха, причём не только турецкого, но и французской выделки, в крепости было взято огромное количество. Ядра и картечь там также были в достатке. Фуража с избытком. Столько конницы в русской армии и нет, чтобы потребить все приготовленное турками и татарами. Ну и продукты. Часто экзотические, когда солдат даже заставлять нужно такое есть. Как рис, или финики, изюм с курагой и черносливом.
– Так что мы можем не дожидаться очередного обоза с оружием, а выступить к Перекопу и там провести перегруппировку, довооружить трофейным оружием те полки, в которых не хватает фузей или артиллерии, – заканчивал свой доклад Ласси.
Фельдмаршал Миних нахмурил брови, стал размышлять. Христофор Антонович думал, что слишком много происходит совпадений, чтобы ему всё-таки придерживаться прошлого плана и готовить основную военную кампанию на следующий год. Не любил основательный немец действовать по обстоятельствам, но только по плану.
Предполагалось, что Александр Иванович Румянцев пробудет в башкирских землях намного дольше. Но он здесь, да ещё и привёл огромную массу башкирских воинов.
Предполагалось, что Леонтьеву не удастся дойти даже до Перекопа, что он вернётся, так как тактика выжженной земли отработана татарами досконально и они не дали бы возможности русской армии наскоком взять большую крепость. Но дождливая погода, правильное построение при переходе… и Перекоп уже позади…
Вопрос вызывает войско Крымского хана, которое, пусть медленно, с немалыми трудностями, в том числе из-за партизанских действий дагестанских племён, но уже подходит к Крыму. Однако, эти данные говорят скорее в пользу того, что нужно идти в Крым, причём, спешить.
Никто не сомневался, что с этими войсками, что сейчас есть в распоряжении Миниха, он может дать бой крымскому хану. А, если ещё удастся соединиться с тем войском, которое сейчас должно подходить к крымскому городу Гезлеву, то больше серьёзных противников в Крыму у русских не будет. Турки? Они как-будто выжидают, не спешат, ждут чем закончится Крымский поход. Словно само рассосется. И это шанс.
– Через три дня выступаем! Посылайте вестовых в Петербург с реляциями, отправьте вестовых в Перекоп, – сказал Миних, резко поднялся со своего стула, увлекая за собой остальных офицеров.
А потом Христофор Антонович, пригласив лишь Румянцева и Ласси, отправился в свой дом. Именно с этими двумя офицерами командующий хотел ещё раз обсудить ход военной кампании.
Миниха не оставляла в покое мысль: Азов без внимания, без взятия этой турецкой крепости не совершает ли он ошибку. Вот это и хотелось бы обсудить.
* * *
Петербург
26 мая 1735 года
Неожиданно для всего петербургского общества государыня резко, в сопровождении лишь ограниченного круга приближённых, отправилась из Петербурга в Петергоф. Такой поступок императрицы не должен был смутить ни одного придворного, если он только не знает правил. Все без порядка, заведённого самой же Анной Иоанновной.
Обычно не меньше чем за неделю предупреждали всех придворных, что государыня отправляется в свою загородную летнюю резиденцию. После этого все интересующиеся могли наблюдать сборы императорского двора. Особенно были любопытными сборы тем, кто никогда не был во дворце. Можно было увидеть многое из императорской утвари.
Это же был не тот случай, когда «сел в карету – да и поехал». До того доходило, что немалую часть мебели перевозили в Петергоф, особенно те предметы, которые государыня привыкла видеть в своих покоях.
Затем целыми обозами, многочисленными каретами в Петергоф направлялись те, кто являлся обязательным атрибутом русского императорского двора: карлики и карлицы, бабки и девки-рассказчицы, егеря и дворцовые оружейники… Да много, кто должен был отправляться вперёд государыни за пару дней до её отбытия в Петергоф.
Сейчас этого ничего не было. И тревога поселилась в сердцах петербуржцев. Когда людям что-то непонятно, когда ломается их привычный уклад, в голову начинают приходить мысли. И не всегда добрые. В этот раз самые дурные ожидания оправдывались.
– Говорят, что матушке-государыне больно худо стало, – собрав вокруг себя всяких князей да иных знатных дворян, вещала Авдотья Буженинова. – Не дотянет и седмицы.
Из карлицы такая скорбь сочилась, что все и каждый начинали практически искренне ей сопереживать. Ну и себе, конечно. Это же какая ужасная неопределенность наступит. И кого на престол ставить?
– Медикусы совет дали, что промозглый воздух Петербурга нынче не подходит для нашей Императрицы. А она, родная наша, и сказала: «Помирать буду, так уж лучше в Петергофе, у фонтанов!» – продолжала нагнетать обстановку Буженинова.
Вокруг ближней девки государыни собиралось всё больше и больше людей. Они толпились, и не видно, откуда звучат ответы на многие вопросы. Хоть бери Авдотье, да веди всех этих людей в тронный зал Летнего дворца. да под самую громаду трона. Может только если она взберется на постамент, ее и увидят.
А пока словно ниоткуда исходили столь душещипательные, разрывающие сердце звуки. Но ни у кого не возник вопрос, почему же Буженинову государыня с собой не взяла. Те, кто немного знал расклады при императорском дворе, понимали: без этой карлицы государыня, порой, и шага сделать не могла. Или все же был человек, обративший на это внимание?
– А тебя, девка, отчего же с собой не взяла императрица? – раздался вечный голос в толпе.
Все резко обернулись в сторону Артемия Петровича Волынского. Его тон резко контрастировал с той скорбью, что стояла вокруг. Может, и во многом притворной, подпитанной тем, что придворные оказались в полной растерянности. Но все равно, скорби.
– Тебе ли, батюшка, не знать, с чего я осталась здесь! – быстро нашлась Авдотья. – Али ещё не ведаешь, что тебе, славному статс-министру, доверена свадьба моя? Государыня уповала, что ты всё сладишь по чести. А я осталась как бы с будущим мужем своим, хозяином, скорбь разделить [в реальной истории именно Волынский занимался “ледяной свадьбой”, когда Буженинова вышла замуж за графа Голицына, шута и квасника императрицы].
– Да какая скорбь, коли государыне худо стало? – зло выкрикнул Волынский. – Пройдёт приступ, и всё будет добре, как и прежде. Разве же ране такого не было?
Артемий Петрович был еще раздражен, что его вроде бы как пригласили с докладом. А докладывать, как оказалось и некому.
– Твои слова да Богу в уши, батюшка. Так мы и сами на то уповаем. Токмо лекари говорят, что такого худого и таких хворей у государыни ещё не было. Как же мы будем без неё! – и Буженинова расплакалась.
Вид плачущей милой карлицы с ангельским лицом побуждал и других пускать слёзы. Но не Артемия Петровича Волынского. Оправдание Бужениновой он взял на веру. Ну не могут же заблуждаться все те, не самые последние люди, кто уже скорбит по государыне!
Волынский знал, что государыня собиралась выдавать замуж свою ближнюю девку. Да ни за кого бы то ни было, а за квасника Голицына. Вот только это пока было тайной. А сама свадьба должна была состояться лишь зимой. И у Волынского уже были искромётные идеи, как сделать эту свадьбу, как умаслить императрицу, чтобы ещё больше снискать её доверие и признательность. А теперь… Все труды насмарку?
Волынский понимал, что больше никакой серьёзной информации ему от Авдотьи не получить. По крайней мере, не сделать этого, пока вокруг неё будут толпиться другие придворные. Так что он пошёл иным путём, чтобы развеять последние сомнения.
Артемий Петрович, не жалея серебра, расспрашивал каждого из придворных слуг, из тех, что остались в Летнем дворце, а не отправились вслед за государыней. Он понял, что ни одного медика во дворце нет – все отправились в Петергоф. Это, действительно, уже о чём-то говорило.
Да и не стали бы поднимать такую панику в Петербурге, если бы на самом деле государыня не была при смерти. Это же был бы откровенный бунт. Зачем государыне такое? Не он, не Волынский со товарищи, так кто-то другой стал действовать. Нашлись бы десятки людей, которые захотели бы использовать ситуацию в свою пользу.
Если сейчас государыня умирает, то наступают такие лихие времена, что как бы не случилось смуты. И Волынский прекрасно понимал, если бездействовать, то он останется лишь сторонним наблюдателем за разворачивающимися событиями.
Спешно, чуть ли не бегом, Артемий Петрович покидал летний дворец.
– Гони к Остерману! – грозно и решительно приказал Артемий Петрович главному кучеру своего экипажа.
Волынский уже знал, что Ушаков находится рядом с государыней. Все в Петербурге знали, что фаворит Бирон отправился в Москву, где он контролировал организацию нового конного завода. Значит, герцога нет ни в Петербурге, ни рядом с государыней. А пока до него дойдут слухи о том, что происходит в столице и её окрестностях, уже многое можно будет успеть сделать. Это не менее пяти дней, даже если верховые будут сильно спешить, и Бирон будет скакать не в карете, а на заводных конях.
– Ну уж, старый лис, только посмей мне отказать! Без тебя обойдусь, а потом… как и всех немцев… – бурчал Волынский, глядя в окно, как мимо проносятся дома, как всё больше людей выходит на улицы Петербурга.
Такая активность петербуржцев позволяла отринуть любые сомнения. Законы толпы применимы даже к этому весьма неглупому человеку.
Когда карета остановилась, Артемий Петрович, не дожидаясь, пока ему откроют дверцу, сам вышел из экипажа, споткнувшись, чуть не упав – привычных лесенок у кареты не стояло. Чертыхнувшись, прокрутив в голове, но не высказав вслух немало бранных слов, Волынский посмотрел на дом Андрея Ивановича Остермана.
Артемию Петровичу было не понять, почему у такого человека, как статс-министр Остерман, нет достойных хоромов, собственного дворца. На благодарности от государыни, выраженные в звонком серебре, можно было построить куда как более просторное жилище.
Волынский подошёл к двери и сам, опережая слугу, постучал в дверь тяжёлой железной, декорированной орнаментом круглой ручкой.
– Что угодно, сударь? – дверь открыл пожилой слуга, чуть ли уже не старик.
– Доложи барину, что статс-министр Волынский прибыл для важного разговора, – с трудом сдерживая раздражение, сказал Артемий Петрович.
Он уже догадывался, что именно сейчас происходит. А последующие слова слуги только убедили Волынского в своей правоте.
– Батюшка-то наш совсем хворый… подняться не в силах с постели. Так что вы, барин, не серчайте, но не будет разговора, – сказал слуга и состроил такое огорчение, что в этой своей эмоции мог бы посоперничать даже с Авдотьей Бужениновой.
– А ну пошёл прочь! – взревел Волынский, отталкивая старика в сторону.
Не такой уж это был старик. Скорее, прикидывался немощным. Не получилось у министра отбросить далеко, казалось бы, щуплое тело слуги Остермана. Но подоспели слуги самого Волынского, которые оттащили русского дворецкого в сторону, освобождая проход своему хозяину.
Артемий Петрович быстрым шагом шёл в сторону лестницы, ведущей на второй этаж далеко не самого богатого в Петербурге дома. Он успел отметить, что в его собственном доме убранство куда как роскошнее, вещи выглядят дороже. А ведь Остерман в иерархии Российской империи находился очень высоко, выше Волынского. Оттого Артемий Петрович и хочет заручиться поддержкой. А еще из всех прошлых интриг именно, казалось, тихий Остерман выходил победителем.
– Сьюдарь, тудья нэ можно! – на ломаном русском возле опочивальни Остермана, Волынского остановил смутно знакомый ему человек.
Где-то это лицо уже мелькало, как бы не во время важнейших событий в Российской империи, свидетелем которых был Волынский.
Артемий Петрович опешил. С одной стороны – отбрасывать старого слугу, явно недворянского происхождения; с другой – идти на конфликт с этим молодым человеком, который явно знает, с какой стороны держать шпагу. Да и сейчас он схватился за эфес, недвусмысленно намекая, что именно собирается сделать, если Волынский будет настаивать на своём.
И тут двери в спальню Остермана раскрылись. Андрей Иванович, опираясь на плечи двух своих слуг, закатывая глаза, выглядел таким больным, что краше в гроб кладут.
– Что ж ты, Артемий Петрович, шуму поднял? – проскрипел, будто столетний старик, Остерман.
– Андрей Иванович, вижу, что худо вам. Только вот России будет ещё хуже, коли ничего не делать! – воскликнул Волынский, тщательно изучая при этом поведение «больного».
Он догадывался, что всё, что видит, это уловки Остермана. Сколько раз, когда решалась судьба России, когда нужно было выбирать чью-то сторону, Андрей Иванович вдруг начинал «болеть». Может потому и побеждал в интригах. Уходили сильнейшие, Остерман всегда оставался.
– Кхе! Кхе! – закашлялся Андрей Иванович Остерман. – Стар я уже стал, да хворый совсем, чтобы судьбы России решать. Это вам, молодым, о грядущем думать нужно. Пойду я лягу, а то нешто сложно мне говорить с тобой, Артемий Петрович.
Слуги, поддерживавшие, казалось бы, совсем немощного Андрея Ивановича, развернулись и практически понесли хозяина к его кровати. А перед Волынским захлопнулась дверь.
Он мог бы прокричать про неуважение, посулить Остерману кару, но не стал. Зато взял на заметку: можно будет оправдать свои будущие действия тезисом, что в русской политике засилье немцев. Причем уже без исключения, которое Волынский собирался сделать в отношении Остермана.
А реальность такова, что, если Волынскому срочно не найти кого-то из тех же немцев себе в поддержку, то можно получить немецкое сопротивление. И хитрый лис Остерман, по мнению Артемия Петровича, на роль ситуативного союзника подходил более всего. Не срослось.
– Ничего! Еще посмотрим кто кого! Гвардию подымать нужно! – вновь мелькали дома, люди, вновь в карете бурчал заговорщик.
Волынский уже приказал срочно направляться в Стрельну к Елизавете Петровне, а одного из своих слуг отправил по адресам других заговорщиков, чтобы сообщить о ситуации и наказать подельникам, чтобы те также приезжали к цесаревне. Там нужно было сделать временный штаб, призвать колеблющихся, гвардейцами арестовать Ушакова, после Бирона… Действовать!
А в это же время Андрей Иванович Остерман лихо вскочил с кровати и вызвал одного из своих людей – Иоганна. Того, что готов был обнажить шпагу и защищать своего благодетеля.
– Ничего не предпринимать! Сидеть, как мыши в норе! – отдавал приказы Остерман.
При этом он подошёл к своему столу, достал папку с записями и стал перечитывать. Тут были записаны многие его мысли – старого интригана – о том, как можно было бы действовать, если бы вдруг Императрица скоропостижно скончалась. Остерман всегда выбирал одну и ту же тактику: нужно выждать. Что-то неладное происходило, и что именно он прекрасно знал.
– Но будет же бунт! – не понял стратегии своего патрона молодой голштинский дворянин.
– Все может быть… Все… – бормотал Остерман.
Глава 5
Для общества бунт – вещь не менее полезная, чем гроза для природы… Это лекарство, необходимое для здоровья правительства.
Томас Джефферсон
Стрельня
26 мая 1735 года
Елизавета Петровна за сегодняшнее утро будто бы на лет пять постарела. Состояние было такое, что женщина, редко отходящая далеко от зеркала, даже в него не посмотрела за последние несколько часов ни разу. Но, а если бы Лиза это сделала, то она и вовсе залилась бы горькими слезами либо закрылась в себе настолько, что и слова проронить бы не смогла.
У неё на носу вскочил прыщ! Трагедия такая, что в сердцах Елизавета Петровна могла бы даже пообещать целое царство, если бы оно у неё, конечно, было, тому, кто избавил бы ее бесследно от этой напасти. Не было в России такой дамы, что настолько беспокоилась о своей красоте, чем цесаревна.
Находящаяся рядом со своей подругой, Мавра Егоровна Шепелева на своё усмотрение подобрала для цесаревны платье, руководила личным цирюльником Елизаветы, когда тот делал укладку золотых волос дочери Петра Великого. При этом Мавра насилу сдерживала слёзы. Ведь никто иной так хорошо не знал характер Елизаветы Петровны, как её верная боевая подруга. Если Елизавета позволила Мавре выбрать наряд на сегодня? Это катастрофа.
– К вам гости, ваше высочество. Проявите благоразумие! – строго, будто имел на это право, сообщил дежуривший у покоев Елизаветы Петровны офицер Второго Петербургского батальона Измайловского полка.
– Пошёл прочь! – сквозь зубы, зло выдавила Елизавета.
Она всегда старалась быть обходительной с любыми офицерами Гвардии, даже с измайловцами. Но то, что себе позволяет этот, выходило за рамки дозволенного. Ведет себя, будто Лиза тут и не хозяйка. Но Поместье в Стрельне Елизавете Петровне некогда подарил ее отец. И с этим не смел никто спорить.
Офицер лишь улыбнулся, похабно рассмотрев ту часть выдающегося бюста цесаревны, что был доступен для взглядов. А после ушел… Не поклонившись.
– Соберись, матушка, скоро всё закончится! – Мавра пыталась поддержать свою подругу. – И этого негодника еще накажем.
– Как бы, Мавруша не было так, что все беды только начинаются, – отвечала ей Лиза.
Меж тем Елизавета Петровна, действительно, подобралась, даже было дело, сделала шаг к зеркалу, но на её пути стала Мавра. Лиза не совсем поняла, почему её подруга не даёт посмотреть отражение. Но спорить не стала, так как в коридоре уже послышались шаги.
Мавра здраво рассудила, что, если Елизавета Петровна увидит вскочивший за ночь или за утро прыщ, в особенности, когда Елизавета нервничала… У Лизы мог бы случиться какой-нибудь приступ. А то, что произойдёт в течение ближайшего времени, требовало от Елизаветы Петровны концентрации последних её сил.
В спальню цесаревны вихрем ворвался Артемий Петрович Волынский. Он был до крайности возбуждён. Возбуждение не было подобным тому, с которым обычно прибывают в эти покои мужчины. Хотя, по-быстрому возлечь с Елизаветой Волынский не отказался бы. Но возбуждён он был по другой причине.
– Матушка, – обратился к Елизавете Петровне министр, стал перед ней на колени, нежно поцеловал ручку.
Уже это обращение и подобное поведение Волынского ошеломило бы Елизавету, если бы она не понимала, что именно происходит. Вот так она и хотела, чтобы перед ней пресмыкались даже заносчивые мужи. Чтобы она повелевала, сверху взирая на стоящих на коленях подданных. Будет ли когда-нибудь такое?
– Известно ли тебе, что государыня наша при смерти? – спросил Волынский.
Лиза хотела закричать: «Беги отсюда!». Но смолчала, прекрасно понимая, что сейчас её не только слушают, но и наблюдают за происходящим через небольшую, заранее проделанную дыру в стене у большого комода.
Так что Елизавета Петровна только и выдавила из себя:
– Да, сие мне известно.
– Пора действовать! Вспомни, матушка, всё то, о чём мы с тобой говорили! – все также возбужденно говорил Волынский.
– А мы ничего такого с тобой не говорили, Артемий Петрович, – скороговоркой выпалила Елизавета Петровна.
– Ты это чего? Али забыла, что…
– Молчи! – взвизгнула Елизавета, привстала, и закрыла своей ручкой рот Волынскому.
Тот моментально попятился, встал с колен, нахмурил брови и строго посмотрел на Елизавету Петровну.
Андрей Иванович Ушаков, глава Тайной канцелярии розыскных дел, не столько смотрел, сколько слушал, что происходит в соседней комнате. Так что он мог и не заметить тех изменений мимики лица Волынского, которые начались, как только министр, уже весьма вероятно, что бывший, стал догадываться о происходящем. Артемий Петрович покраснел, глаза его наполнились страхом.
– Довольно! Все и без того понятно, – строго произнёс Ушаков, направляясь к двери, что вела в соседнюю комнату, в спальню Елизаветы Петровны.
Сразу же следом за Ушаковым шли пятеро гвардейцев. А командовал ими всё тот же поручик Измайловского полка, который успел нагрубить Елизавете Петровне.
Дверь распахнулась, Ушаков сразу же явил свой тигриный взгляд. Волынский было дело дёрнулся, однако прекрасно понял, что бежать куда-то не получится и только навредит сам себе, если начнёт убегать. Ведь, если бежишь, значит, чувствуешь свою вину. Артемий Петрович же лелеял надежду оправдаться.
– Взять его и ждать меня у карет! – приказал Ушаков, выпроваживая и Волынского, и всех гвардейцев, которые были сегодня силовым прикрытием для Андрея Ивановича.
– Но с чего? Как смеете! – начал возмущаться Волынский, но его никто не слушал.
Елизавета тяжело дышала, слёзы наворачивались на её глазах, она провела взглядом Волынского и ждала… Но между тем смотрела она на Ушакова не со страхом. А даже с каким-то вызовом.
– Что, Андрей Иванович, теперь и меня арестуешь? – спросила царевна, когда пауза затянулась.
Глава Тайной канцелярии прекрасно понял, что именно сейчас может сказать Елизавета Петровна, чем пригрозить. Тигриный взгляд резко сменился доброжелательным.
– Ну же, не пристало дочери Петра Великого слёзы лить. Разве же я тебя нынче повезу к государыне? – улыбнувшись, доброжелательным тоном говорил Ушаков. – Лизавет… Я ж тебя еще малым дитем помню.
– Так что же, Андрей Иванович, не станешь меня в крамоле и измене обвинять? – уже даже немного игривым голосом спрашивала Елизавета.
– Не стану, царевна. Более прочего скажу тебе, не убоюсь и слов своих. Ибо если ты кому о тех словах скажешь, то я отрицать буду… Ежели матушка-государыня и в самом деле сильно захворает да преставится, разве же есть кто-то опричь тебя, кому на престол зайти? Ну не Аннушке же Леопольдовне, дитю неразумному! – сказал Андрей Иванович Ушаков, взял руку Елизаветы, поцеловал.
– Ты это говоришь мне, Андрей Иванович, потому что могу рассказать и про твоего пасынка? Стёпка Апраксин мало того, что меня при любой встрече стращает за трон бороться. Так он же ещё и со шведами якшается. И с французами, – напомнила Елизавета Петровна про толстые обстоятельства.
Ушаков не подал вида, но внутри, конечно, у него сердце ёкнуло. Будь это кто-нибудь другой, а не любимый пасынок, так уже за то, что он сделал, за одни связи со шведами, не сносить головы. Однако Андрей Иванович Ушаков был таким человеком, который во всём пытался найти не только плохое, даже если это на первый взгляд так и было, но и что-то полезное.
– Станешь о том говорить, Ваше Высочество, так есть у меня доказательства, что Степан по моему поручению стращал шведов, разведывая у них планы по России нашей, матушке, – сказал Ушаков, Елизавета ему поверила.
Ведь можно всё так перекрутить, что Апраксин ещё станет героем, а не предателем. Ума и возможностей у Андрея Ивановича Ушакова на такое дело хватит, даже с избытком. Но признавать своё полное поражение Елизавета не хотела.
– Да ты не кручинься, Ваше Высочество! Сказано же мною, что для соблюдения порядка и спокойствия в державе нашей, ты должна жить и даже быть при дворе, – Ушаков вновь усмехнулся. – Разве же о том я тебе не говорил ни разу?
– А не каждому слову мужа должна верить жена? Знавала я уже тех, что много говорят, а на выходе воно что, иных девиц голубят, – с обидой сказала Елизавета.
– А не о том ли ты говоришь, слава о котором доходит до государыни? Александр Лукич Норов зело добре воюет. Того и гляди, что премьер-майора получит, – догадался Ушаков, по ком тоскует Елизавета Петровна.
– Скажи, Андрей Иванович, а в чём участие твоё было в той истории, когда телёнок Алёшка Розум волком обратился, да Норова пытался погубить? – с хитрым прищуром спрашивала Елизавета.
И тут выдержка Ушакова, пусть на мгновение, но дала сбой. Он показал своё нездоровое удивление осведомлённостью Елизаветы. А ведь она только лишь догадывалась, не зная наверняка.
– Неужто? – смешав страх, злость, удивление, спросила Елизавета. – А я всё Норова кляну. А он тут и без вины.
– Да что ты, Ваше Высочество, да разве же я посмел бы, – сказал Ушаков и улыбнулся, словно желая перевести разговор в шутку.
– Разладь те детские амуры, что питает Анна Леопольдовна до Норова! Что было, то прошло. Но сделай, что велю тебе, Андрей Иванович! – даже не попросила, а словно царица повелела Елизавета Петровна.
– При случае, Ваше Высочество, при случае, – неоднозначно отвечал Ушаков, направляясь уже на выход.
Глава Тайной канцелярии уже как будто собирался открыть дверь, но развернулся, строго посмотрел на цесаревну и сказал:
– Всё отрицай, никакого разговора с Волынским у тебя не было! Матушка велела прознать, чтобы могло быть, кабы она преставилась. И не приведи Господь, коли ты глупости начала бы делать. Письмо пошли преображенцам, кабы умы их не смущались. Сидели бы все по своим домам и носа не казали! – строго наказал Ушаков и спешным шагом направился на выход из небольшого дворца в Стрельне.
* * *
Петергоф
26 мая 1735 года
Анна Иоанновна негодовала. Ей было необычайно скучно. Если бы не всевозможные яства и блюда, которые нескончаемым потоком подносились к столу императрицы, то государыня могла бы прийти даже в бешенство. И отменила бы всё то, на что её так долго уговаривали и Ушаков, и Бирон.
Герцог Бирон так же был тут. Ну не мог же он оставить государыню в такой момент! Ну а то, что фаворит уехал во Владимир, или в Москву, так это слухи, которые велено распространять. Само присутствие в столице Бирона, как посчитали и герцог, и государыня, могло сдерживать потенциальных заговорщиков. Они бы убоялись и не проявили себя. У Бирона так же было несколько большее ожидание, чем реальный политический вес без поддержки государыни.
– Вот же удумали, шельмы. Ну на кой же ляд всё это? – государыня взмахнула своей пудовой рукой, показывая куда-то в сторону.
– Что, матушькиа? – спросил также скучающий герцог.
– Ты дурень али казаться таким хочешь? – выпалила государыня. – Где же это видано, чтобы императрица так врала своим придворным?
– Но тебе же доносили, любовь моя, что есть крамола державе твоей! И что она не только в том, что монетку с твоим ликом бросить могут на землю! – отрешённо, усталым от безделья голосом на немецком языке сказал герцог.
– Это кто же вас с Ушаковым надоумил на такое? – сказала государыня, макнула картофельный хворост в белый соус «Астория» и уложила в свой большой рот очередное лакомство.
Герцог промолчал. Он и сам до конца не знал, кто или что побудили его сойтись со своим чуть ли не врагом Ушаковым, и придумать такой хитрый план выявления крамолы в Российской империи.
Бирону казалось, что это Норов подтолкнул его к такой мысли. До конца в это не верил, считая, что и без того как будто бы сильно много этого гвардейца. Не хватало, чтобы Норов ещё и подталкивал к тайным операциям на самом высоком уровне.
Вопреки тому, что было показано всем придворным и всему Петербургу, государыня не уехала в Петергоф неподготовленной. Было здесь и немало мебели, и вещей, которыми привыкла пользоваться императрица. Приехали с ней и три рассказчицы, чтобы повеселить хозяйку земли русской. Однако всё это делалось в тайне, по ночам.
И не так, чтобы сильно врали, когда говорили, что императрица больна. По приезду в Петергоф государыня сильно мучилась животом. Но после вызвали рвоту, ей полегчало. Вот… сидит, ест. Наверное, тот факт, что государыня в последнее время всё чаще болеет, особенно мается животом, и подтолкнул Анну Иоанновну к поступку.
Ведь по мнению государыни не было кому доверять империю. Вернее сказать, единственная, на кого могла бы оставить державу императрица, – это Анна Леопольдовна. Но, конечно же, не на одну её, и даже не столько на неё, сколько на герцога Бирона. И для того, чтобы понять, возможен ли вовсе такой вариант, государыня и решила, так сказать, протестировать ситуацию.
И сейчас при дворе оставлено немало ушей, запоминали каждое слово, что будет произнесено придворными, чтобы выяснить, сколько людей лгут своей государыне, заверяя о своей преданности. Все сотрудники Тайной канцелярии выведены на улицы и собирают сплетни, проверяя их на достоверность. Все работают.
В дверь постучали. Сам герцог поднялся и направился посмотреть, кто же там беспокоит, желая пройти в тайное место государыни.
– Господин Ушаков! Заждались уже! – сказала Анна Иоанновна, когда увидела, кто именно пришёл. – Не томи, Андрей Иванович, уж умаялась я. Желаю обрадовать подданных моих своим выздоровлением. Пострелять хочу.
Ушаков низко поклонился, сделал несколько шагов вперёд, останавливаясь возле круглого стола, заполненного различной едой.
– Да садись уже! – разрешила императрица. – Вот доложишь мне, так и поешь, и выпьешь.
– Не томи, Андрей Иванович! – почти без акцента сказал герцог.
Ушакову хотелось докладывать в присутствии только лишь государыни. Но он понимал, что потребовать сейчас ухода герцога не может. Так что глава Тайной канцелярии розыскных дел начал свой доклад.
– Главным злодеем стал Волынский, – Ушаков сходу ошарашил и Бирона и государыню.
У Андрея Ивановича Ушакова ещё не так и много сведений было. Но по основным фигурантам, наиболее важным вельможам, ему было что сказать.
Когда герцог только намекнул на возможную операцию, Ушаков сразу же понял, какая огромная прибыль может случиться для него лично. Вряд ли в деньгах или в поместьях, хотя и это не исключено. Но вот в политическом плане, как и для подготовки своих собственных задумок, операция была идеальной.
Ушаков тут же предупредил тех, с кем в будущем хотел бы войти в союз. Например, он по-дружески, практически прямо, сказал Андрею Ивановичу Остерману по своему обыкновению прикинуться больным. Для такого хитрого лиса, как министр иностранных дел Остерман, достаточно было лишь намёка. Остальное он прекрасно додумал, сразу же, как только начали расползаться слухи про критическое недомогание государыни.
Так что по всему выходит, что теперь Остерман является должником Ушакова. И при таком союзе, обязательно чтобы тайном, можно очень много чего сделать. При возможности скинуть даже герцога Бирона.
Но и в другом направлении действовал Андрей Иванович. Он собирался как можно качественнее прикрыть тех заговорщиков, которых пусть и считал детьми, но эти дети начинали играть в очень опасные взрослые игры. Ну и обезопасить своего пасынка.
Ушаков был государственником. Он прекрасно понимал, что лучше нынешней государыни для Российской империи не найти. Она много совершает ошибок, но при ней уже есть примеры славных дел. И флот возрождает, и польскую войну выиграли, даже с немалым прибытком для себя. И сейчас, судя по тем данным, которые приходят из Крыма, война с турками может быть славной для России.
А вот потом, когда не старая, но крайне болезненная Анна Иоанновна умрёт, трон оставлять просто некому. И в Елизавете Петровне Ушаков видел ту же самую Анну Иоанновну. В меру разумную, во многом глупую, по-своему взбалмошную, но удобную, чтобы мудрые мужи, в том числе и сам Андрей Иванович Ушаков, вершили политику Российской империи.
– Так что выходит, Волынский всё же заговорщик? – спрашивала государыня, при этом пристально поглядывая на герцога. – Не ты ли, Эрнестушка, привёл ко мне Волынского? А все тогда говорили, что вор он и казнокрад, как тот светлейший князь Меньшиков.
Андрей Иванович Ушаков внутренне усмехнулся. Он и взял в плотную разработку Волынского во многом потому, что Артемия Петровича связывали дружеские отношения с Бироном. Именно герцог, чтобы показать себя не только немцем, но и тем, кто радеет за присутствие во власти русских, продвигал Волынского.
Глава Тайной канцелярии ещё какое-то время сомневался, стоит ли Волынского приносить в жертву. Артемий Петрович мог бы стать неплохой поддержкой для той же Елизаветы, когда преставится государыня. Но слишком уж Артемий Петрович был сам себе на уме и преизрядным гордецом. Вот гордыня его и сгубила.
Но ещё раньше Ушаков сделал всё, чтобы слухи о связи Бирона и Волынского распространялись. И герцог не отрицал, хвастал, что он, дескать, и привел нового статс-министра во власть. Конечно, Андрей Иванович не был столь наивным, чтобы думать в такой ситуации скинуть герцога. Но немного потеснить фаворита можно было. А это уже большой плюс и возможность.
– Прикажете, матушка, пытать разбойника? – угодливо спрашивал Ушаков.
В это время герцог насупился и зло смотрел на своего соперника. Он далеко не всё понимал, но чувствовал, что игра ведётся в том числе и против него.
– Делай всё, что тебе угодно, Андрей Иванович, чтобы только я знала всю правду, – государыня вновь строго посмотрела на герцога, а после благожелательно продолжила разговор с Ушаковым. – Тебе поручаю, граф, чтобы ты собрал все те слова, что будут говорить, когда узнают придворные люди, что я преставиться собираюсь.
А ведь предполагалось, что этим делом займётся герцог.
– И епископа Новгородского привезите мне. Исповедаться надо, да причаститься, помолиться. Из-за вас, шельмы, я с Богом в игры играю, – сказала государыня, потом сделала вид, что больше не хочет разговаривать.
Ушаков поклонился, сделал три шага спиной вперёд, развернулся и пошёл на выход.
– И ты иди, Эрнестушка! Да зверья мне приготовьте. Выздоровела я. Стрелять хочу! – повелела государыня. – И боле не беспокой меня. Злая я на тебя.
Глава 6
Любовь уникальна в любом отношении. Только она способна превратить врага в друга и наоборот.
М. Л. Кинг
Петербург
28 мая 1735 года
За последний день Марта сменила уже четыре платья. И дело не в том, что известная на весь Петербург хозяйка ресторанов стала вдруг такой модницей, чтобы без конца примерять на себе одежду. Дело было в другом: Марта не приседала ни на минуту, металась по огромному ресторану «Мангазея», словно вихрь. Ну, а так как была весьма чистоплотной и понимала, что управляющая рестораном не может пахнуть потом, приходилось не только переодеваться, но и дважды на день ополаскиваться водой.
В Петербурге стояла удушливая жара. Даже со стороны Финского залива не приходила спасительная прохлада. И несмотря на то, что в ресторане были открыты все окна и двери, здесь было жарко, причём, и в переносном смысле также.
Толпы горожан, уже второй день снующие по улицам Петербурга в поисках хоть какой-нибудь информации о состоянии здоровья государыни, не спешили возвращаться домой. И многие вполне резонно считали, что трактиры и новомодные рестораны столицы могут стать тем местом, где хоть что-то будет известно о происходящих событиях. Да еще и поесть, выпить можно.
Ну, а если это такой большой ресторан, по вместительности примерно как пять-шесть трактиров, то здесь информации должно быть больше. Вот и не закрывалась «Мангазея» даже на пару часов, даже ночью, а посадка в залах ресторана была практически полной всё время за последние два дня. Такой напряженной работы у Марты не было еще никогда.
– Хозяйка, – обратился к Марте один из гвардейцев, оставленных Норовым для обеспечения безопасности ресторанов, под благовидным предлогом, конечно же.
У фурьера Потапа Громыки перед самым уходом батальона на войну была сломана нога. Это и был тот самый предлог, чтобы оставить бойца в Петербурге присматривать за порядком.
Сейчас он в полном здравии и весьма на своём месте, организовывая охрану сразу в двух ресторанах. Причём ещё успевает собрать сплетни и слухи, записать, кто из важных людей посещает ресторации. Так что Марта по прибытии Александра из похода хотела попросить Норова каким-то образом сделать так, чтобы Громыко и дальше занимался тем, что делает сейчас.
– Так что делать, хозяйка? Здесь – как ты скажешь, – не совсем честно переложил ответственность за свою же работу на Марту Громыко.
– Что? Я не услышала, – нехотя призналась Марта.
– Пришел разбойник, кличут Кондрат Волга. У него сходка. Есть еще тот саксонец, тот, которого особливо командир приказывал не трогать. Так кого слушать? Рассуди!
– Слушать обоих! – приказным тоном сказала Марта.
– То я понимаю, а людишек больше у меня нет. Думаешь, хозяйка, что пришёл у тебя совет спрашивать? Я пришёл за помощью. Дай мне двух своих смышлёных половых, да тех, что разумeют. Вот пущай и записывают, – сказал Потап.
– Нет у меня никого. Люди второй день не спят… Стой, а как у тебя немца слушают?
– Хозяйка, – сбоку, не приближаясь к гвардейцу, обратился ещё и главный повар. – Телятины больше нет, колбасы коптить надо, мясо на фарш заканчивается…
– Да что ж это такое! – взбесилась Марта. – Ты, Потап, делай то, что нужно, и на том твой ответ. Ты, Мирон, обратись к интенданту. Пусть решает, где взять телятину, а где фарш. Пусть людей пошлёт в «Асторию» или к поставщикам… Что ж всем вам объяснять-то надо?
Повар, состроив обиженную мину, удалился самостоятельно решать вопросы. А вот Потап остался.
– В отдельном кабинете сидит… – безопасник замялся. – Жена командира. Она с господином. С тем, кого особливо было приказано не трогать. С немцем. У меня нет людей, кои хорошо знают немецкую речь. Как кого из своих, из немцев.
