Фаворит 1. Русские не сдаются!
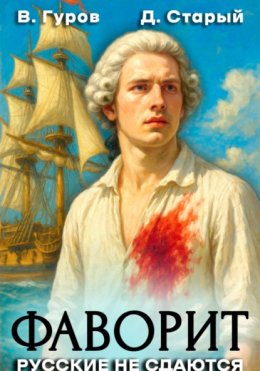
Глава 1
Человека делают старым не морщины, а отсутствие мечты и надежды.
Хорхе Анхель Ливрага
Город Царское Село (Пушкин)
17 апреля 2025 года
Говорят, в молодости человек выглядит таким, каким его создал Бог. А в старости – как прожил жизнь… Тогда выходит, что я прожил большую жизнь, где каждая морщина – это память.
Я стоял в своей спальне напротив большого зеркала. Это, наверное, форма мазохизма такая – смотреть на себя старого. Но фантазия у меня еще ого-го, так что чаще всего я видел в зеркале молодого и готового прожить целую жизнь молодого человека. Статного, чернявого с зачесанной копной волос, смазанной гусиным жиром.
Я видел себя таким, каким был в 1942-м, когда, приписав себе полгода, отправился поступать на ускоренные курсы командиров. Или такого себя, какому зачитывали приказ, подписанный лично адмиралом Кузнецовым – о присвоении мне звания лейтенанта за особые заслуги.
Я не хотел видеть этого сгорбленного старика, покрытого морщинами. И он таял перед моими глазами. Я не видел редких седых волос, что только и остались от чернявой гривы. Я же другой, я все еще молодой… В молодости сны и мечты уносят в будущее, в старости – в прошлое.
– Экий я красавец! – сказал я, разглядывая себя в зеркало. – Здравия желаю, товарищ лейтенант 571-го отдельного батальона 260-й бригады морской пехоты Балтийского флота Никодимов Ефрем Иванович. Век прожил, а хоть завтра в ЗАГС какую молодку, девочку-восьмидесятилеточку поведу.
И за что мне такое?.. Это же не метафора, когда я говорю, что век свой прожил. Через двенадцать дней у меня день рождения. Сто лет, как в обед. Торжество, мать его. И зачем, почему я столько живу? Чтобы стать свидетелем краха Союза? Строили коммунизм и… всё, построили! Зато теперь все такие независимые!..
– Алиса, девочка, как там вообще… Какие на сегодня новости? – спросил я, снимая китель и примеряя другой.
«Алиса» у меня правильная, никогда не включает современный… Этот… контент, как говорят молодые.
– Сегодня состоялось заседание центрального комитета коммунистической партии Советского Союза. Генеральным секретарем товарищем Леонидом Ильичом Брежневым на повестку были вынесены острые вопросы… – вещало радио из глубин прожитых лет.
– О как! Острые вопросы поставил дорогой Леонид Ильич. Чего же ты острые колья не поставил, чтобы усадить туда предателей! – продолжал бурчать я.
Потом усмехнулся своей старческой улыбкой и стал протирать полотенцем зеркало. Это оно, наверное, запотело от того, что увидело такого красавчика. Улыбнулся еще раз, вспомнив поговорку, что мертвые не потеют. Так что в зеркале – живой человек, который изрядно задержался на этом свете.
– Алиса, «Смуглянку» мне дай! – сказал я.
– Как-то летом на рассвете… – зазвучала песня.
– Эх ты, набор цифр… – усмехнулся я.
Смуглянку она мне только в виде песни даёт, пощупать бы молдаванку, что виноград собирает. Ну и ладно – тоже память.
Покрасовавшись сперва в форме морского пехотинца, а потом и в кителе сотрудника КГБ, я подошел к окну. Город Пушкин, ну или Царское Село, опять был полон туристов. Шли бы дворец смотреть, а не шастать, где честные люди живут!
Вновь я усмехнулся, едва представил, что было бы во дворе, если бы лет так семьдесят назад меня увидели в кителе майора КГБ. Наверное, весь дом обходили бы за километр. Послужил я в конце войны в СМЕРШе, а потом и в Комитете, а после, когда «дорогой Леонид Ильич Брежнев» зачищал КГБ после смещения Семичастного, так и учителем в Пушкинской школе. Дальше завод, пенсия – и вновь школа…
Пытался доказать, что история – это не просто даты. Не чёрточки между цифрами. Это жизни людей, и наша жизнь тоже. А трудовик – это звучит гордо! Был я и тем, и другим, и третьим.
Руки подрагивали, когда я расстегивал пуговицы на кителе, и потом, когда протирал тряпочкой свои ордена да медали. Нет, я не болею болезнью Паркинсона, не злоупотребляю алкоголем. Руки трясутся, потому как нет более ценного для меня, чем награды, Родина, семья.
– Алиса, дай-ка, девочка, песню «От героев былых времен»! – под стать настроению заказал я.
Под песню из кинофильма «Офицеры» рассматривать свои награды куда как сподручнее.
Я и Алисе это не раз рассказывал. Вот он, Орден Красной Звезды. Получил его за то, что не дал бойцам после неудачного десанта в феврале 1944-го сгинуть. Батальон полег, но всё же почти тридцать бойцов получилось вывести, покрошив изрядно и фрицев. И чуда как такового не было, а была выучка, смекалка и решимость драться. Или все же кто-то меня опекал? Бдил за спиной ангел-хранитель?
А вот и главная награда – Звезда Героя Советского Союза. Ее я теперь никогда не снимаю. С ней на груди и хочу помереть. Вручили мне Звезду за подвиги при взятии Кенигсберга.
Моя рота в Кенигсберге первой вошла на территорию Башни Дона, которую эсэсовцы защищали рьяно, но тогда у них не было шансов… Как вчера помню… Апрель, только-только стало тепло, озеро, все вокруг зелено… Должно, вернее, быть зелено, но всё равно преобладает алый цвет крови. Пулеметные точки фашистов не умолкают, мы ползем… Артиллерия не может так ударить, чтобы там все сложилось.
Надя моя… Уже когда Кенигсберг был почти взят и ожидалась капитуляция «Города Королей», снайпер убил ее. Так что я резал, рвал зубами фашистскую гниду. Слезы текли, но я пёр вперед и просился еще и еще. Смерти я искал, но только такой, чтобы побольше врага с собой забрать. За любимую Надю, за ребят.
– Колька Пышнов, Володька Гладких, Иван… Ванька… Ты не серчай на меня, спи себе с миром, друг. Но помни, Ванька, что Надя выбрала меня… Ты там, на том свете, не балуй с ней. Скоро приду, так за уши твои оттопыренные потягаю! – усмехаясь, говорил я и представлял своих боевых товарищей, друзей.
Начистив медали, я пошел на кухню. Ностальгия – это моя верная спутница по жизни уже лет двадцать. Но и она не повод, чтобы отказываться от вчерашних пирожков, или, прости Господи, как соседка сказала, когда угощала, «эчпочмаков».
– Попробуй выговори! Русский мужик решит, что его послали, а не пирожком угостили!
Я взял пару увесистых треугольников, положил их в микроволновую печь. И пока циферблат отсчитывал полторы минуты, вновь ударился в воспоминания.
Говорят, что время лечит, что многое забывается. Но тогда мой крест и проклятие – моя же память. Помню же всё, всех ребят, которые не вернулись, их улыбки, их мечты, их выдумки, как с девками миловались. Пацанами еще многие были, бахвалились между собой любовными похождениями. Какие похождения? Сами они так нецелованными и помирали.
Я до Нади, санинструктора нашей, любви моей юной, тоже ни с кем не был. Сколько там лейтенанту Ваньке Любимцеву было, моему конкуренту за сердце красивейшей девушки на всю дивизию? Двадцать лет, не больше? И такие мы были взрослые… Нет, мы были детьми. С высоты ста лет я это понимаю.
– Скоро, товарищи, скоро… Сколько уже можно-то быть без вас! Вот стольник отмечу – и все, к вам…
Звякнула микроволновка, я попробовал взять эчпочмаки, но обжег руку.
– Етить твою в дышло! Был бы пирожком, а не этим чпокмаком, так и нормально всё бы было.
Русский пирожок – он для русского человека всегда ласков, не обожжет, но согреет. Надя… А умела ли она печь пирожки?
После Нади большой любви так и не было. Женился, дети пошли. Жену уважал, дурного слова не скажу – женщина основательная. Но развелись: без любви, когда дети уже внуков нянчат…
Звонок в дверь прервал мои ежеутренние беседы с самим собой.
– Пионеры, небось, опять! Или кто там сейчас в школах? Не приведи Господь, скауты какие пожаловали. Или эти…, а вы верите в Бога?.. – бурчал я, направляясь к входной двери.
Это я так, по-стариковски. Но, на самом деле, нравится мне, когда в преддверии Дня Великой Победы школьники приходят. Я с ними и поговорю, и кители свои покажу.
Мои дети все при деле, уехали. Хорошие дети, уже и внуки – все зовут меня к себе. Но нет, я – кремень и приучил всю родню к тому, что со мной нечего спорить. Сказал – отрезал.
Подойдя к двери, я, не опасаясь, даже не выглядывая, кто там пришел, стал открывать защелки. Мне ли, старику столетнему, бояться? Не боялся раньше, не стану и сейчас.
– Вот же нелегкая принесла! – выругался я, при этом сильно-сильно хотел правнучку обнять.
Вот такие мы, старики. Любим, но всё стараемся, чтобы никто не заметил нашей любви.
В дверях стояла красотка лет тридцати, чернявая, смугловатая, не в нашу породу, но вот характер наш, Никодимовский.
– Привет, деда, – сказала внучка и обняла меня, старого ворчуна.
– Ну, привет, родственнички нерусские, – сказал я, принимая объятья, но отворачивая голову.
Слезы предательски хлынули из глаз. Ну никуда уже без них. К глазнику, что ли, сходить, может, это болезнь какая, что влага вытекает.
– Какая же я нерусская? – улыбнулась красавица-правнучка, а из-за ее спины выглядывала красавица-праправнучка.
– Н-да… Древнее русское имя у тебя – Фарида. Хорошо, что еще приставок нет «ибн» или «оглы», – пробурчал я. – Отец-то как твой, Нурали Зиад Оглы? Он тоже русский, Коля-Николай?
– Ну ты, дед, опять за свое? Не знала бы тебя, так чего доброго бы подумала, что ты расист. Но я же знаю, что ты моего отца жалуешь, – улыбаясь, сказала Фарида. – Сдал сильно он в последнее время. Немолод уже… Не всем же быть столетними молодыми.
– Ты ему передай от меня привет, или как там… рахман? – бурчал я, направляясь на кухню, минуя зеркало, возле которого только что красовался. – Нурали – наш, Никодимовский, тут не имя определяет или национальность, а правильная жизнь!
На самом деле, я своего зятя-азербайджанца люблю. Правильный он мужик, хотя в некоторых, так сказать, геополитических моментах мы с ним расходимся. Он считает, что Землей управляют рептилоиды, а я – что дебилоиды. А в остальном… Только и осталась обида, что я хотел правнучку Надей назвать, а меня не послушали.
– Чай пить будем! – сказал я в привычной для себя манере, так, что отказ не предусматривался. – У меня еще есть эти… чпокмаки. Хотите? И почему не предупредила о приходе, я бы праправнучке хоть что купил. А то к деду приехала, а у меня и конфеты нет. Ну да у нас эти… черт бы их побрал… товарно-денежные отношения. Деньгами откуплюсь.
Маленькая егоза прошмыгнула мимо меня, не дав себя ухватить, чтобы поцеловать, и побежала в зал. Надюша, она такая, как я – нежностей не любит и всё приказывает, хозяйка в доме. А как своего деда Нурали строит! Ну как не подчиниться ангелочку пяти годков отроду? Она, да еще старшая праправнучка Аглая, на меня и имеют влияние.
Об одном я сожалею, что не увижу ни одну из них в свадебном платье. Это ведь только кажется, что увидел правнуков, да и будет, присматривай себе костюмчик, чтобы красоваться в деревянном ящике, обложенном цветами. Нет… Это как аппетит приходит во время еды. А желание жить появляется по мере того, как дети, внуки, правнуки заводят своих детей.
– Деда, меня прислали парламентером… – сообщила правнучка.
– Даже не начинай, Фаридка, а то от наследства отлучу, – отшутился я.
– Да какое наследство, дед! – рассмеялась правнучка.
Я промолчал. Будет сюрприз… Если бы кто и хотел наследства – так, может, и яду подлил бы. Но мои – не такие.
Есть у меня деньжата. Я успел сообразить, куда катится советская экономика. К бизнесу этому душа не лежала, и я сделал иначе. Снял тогда все деньги со сберкнижки, а честной службой своей я сумел накопить немало, ну и купил золото.
И даже теперь не собирался я говорить о наследстве. Такой вот я человек, что посчитал: пусть они сами в жизни устраиваются, а не ждут смерти богатенького деда. Хотел – и получил! Из всей семьи нет ни одного непорядочного человека. Напротив…
– Как там муж твой, Сашка? Пишет хоть? – спросил я у Фариды.
– Звонит, дед. Живой, за то и Богу молюсь, – резко погрустнела правнучка.
Повернулся я и посмотрел на неё внимательно. Будто Надя моя стоит, кручинится. Ничего, Надюша, будем жить. Слишком часто я вспоминаю свою единственную любовь, видать, пора мне уже к ней.
– Вернется он, девочка. Наша, Никодимовская порода, она же неубиваемая, словно кто-то охраняет. Пусть и Господь Бог, хотя ты знаешь мое отношение к религии. За правое дело воюет парень, – сказал я.
– Никодимовская порода? Так муж мой, Сашка, тебе не родственник, он Сомов, – Фарида Нуралиевна Сомова посмотрела на меня, прищурившись.
Хорошо ещё, не сказала – мол, ты что, дед, на старости лет… Нет, никто в моём разуме покуда не сомневался.
– Много ты понимаешь… Твой муж – парень правильный, вон, воевать пошел, когда Родина позвала… Значит, наш он, Никодимовский, и точка, – жестко сказал я и ударил по столу так, что из большой чашки с надписью «Босс» чуть не выплеснулся чай.
– Дед, ты ушел от ответа. Мы все очень просим тебя никуда не ехать. Ну правда, ну какое морское путешествие? Давай рванем в Москву, к Вадиму, соберемся у него… У тебя и приглашение на парад есть, на президентскую трибуну. Вот и отметим твой день рождения, потом на парад сходим, в «Бессмертном полку» пройдемся? А?
Я уже знал, что Фарида будет пытаться меня отговорить от запланированной поездки. Да правнучка и сама предупредила – парламентёр она сегодня.
Я усмехнулся, не показывая, как дороги мне эти уговоры.
– Я скоро вернусь. В Москве и встретимся, – я видел, как жалостливо стала на меня смотреть Фарида. – Пей чай, внучка! А я все равно поеду. Сто лет… Нужно подвести итоги, проехать по местам, где терял своих товарищей в той войне, где я любил… И одному побыть, вспомнить всех… Вот и восемьдесят лет прошло со Дня Победы. И ладно, был бы немощным стариком, вон и костыль не всегда беру с собой. Всё, нечего говорить. Решено…
* * *
Балтийское море
24 апреля 2025 года
Балтийское море… Сказал бы, что восхищаюсь им, но не буду врать. Оно для меня негостеприимное. Нарва… Сейчас я был напротив этого города, в пятнадцати милях, как мне сказали. Толком не видно в бинокль ничего, кроме моря. Но память и воображение работали, погружали меня в те февральские дни 1944-го.
Я лежал и смотрел на пасмурное небо, снег валил хлопьями, а вокруг стонали товарищи. Много раненых и тяжелых, что помочь уже нельзя. Нас ждали, нас встретили. Белый снег? Нет, уже не белый. Частью он измазался грязью, в которой ползли или корчились от боли советские воины. Частью приобрел бордовый и алый оттенок – от крови, пролитой во имя Великой Победы. Не получилось захватить плацдарм. Именно здесь я и потерял своих товарищей, Ваньку…
– Семён, сколько до берега? Не видно ничего, – спросил я, пытаясь вглядеться вдаль через бинокль.
– Ефрем Иванович, ближе подойти нельзя. И так идём у самых территориальных вод, – ответил мне тот.
Я с укоризной посмотрел на внука моего друга, с которым служили в КГБ. Семен не отказал, он чтит память своего деда и отозвался на мою просьбу. Наверное, это я с брюзжанием своим уже чего-то не замечаю, а молодежь-то хорошая у нас. Впрочем, и ему уже не двадцать, а, наверное, сорок. Вон, и виски чуть белеют.
Я сидел на каких-то ящиках на носу небольшого сухогруза, рядом прислонил трость, что заменяла мне инвалидную палку, и смотрел в бинокль – туда, где должен быть берег. Не видно ничего. Может, оптика моя слабовата?
Мне нетрудно было решиться на путешествие. Я хотел ещё раз побывать в тех местах, где проходил мой боевой путь, и знал, что на сухогрузе, курсирующем между Калининградом и Лугой, Ленинградом, служит Семён.
Ни на каком прогулочном судне с зонтиками, напитками и микрофонами я не прочувствовал бы того, что ощущаю сейчас, вся эта воркотня заглушила бы эмоции от воспоминаний. Да и ходят туристические корабли намного севернее, вдали от берегов. Ну а так… Капитан, выслушав Семёна, своего помощника, взял курс немного южнее, конечно, предупредив об этом нужные службы той же Эстонии. Но…
Но даже так я не мог рассмотреть бухты.
– Ефрем Иванович! Холодно, может, спуститесь в каюту? – чуть наклонившись, сказал старпом капитана сухогруза.
Я не ответил, а вновь прильнул к биноклю. Нахлынули воспоминания.
Вот я, молодой лейтенант, поднимаюсь и веду в отчаянную атаку оставшихся бойцов. Многие здесь ранены – и понимают, что это их последний бой. Но мы поддерживали друг друга и шли вперёд. Оттого атака наша была ожесточенной, и мы сбили три пулеметных огневых точки, а уже потом отступили, почти что и не получая выстрелов в спину…
Нас оставалось только двадцать восемь, но мы смогли отступить, потому как немцам пришлось перегруппировываться и заменять своих убитых стрелков. И я, зажимая кровоточащую руку, вел оставшихся бойцов, чтобы выжил хоть кто-то, чтобы продолжили парни уничтожать врага.
– Еще вздумают чухонцы нас постращать. Нужно с капитаном переговорить, уходить севернее, – размышлял вслух Семен, присаживаясь рядом со мной на ящик.
– Я правильно понимаю, что мы в международных водах? – уточнил я.
– Так-то да… – задумчиво отвечал Семен.
Я понимал, что политическая обстановка такова, что не стоит дёргать за усы эстонского котёнка. И на том спасибо, что я здесь, на судне, что вспомнил все те эмоции, что бурлили во мне, молодом офицере, который шёл на смерть. Я знал, за что умирать, если уж придётся.
– По левому борту – два пограничных катера! – прокричал матрос, высунувшись из капитанской рубки.
– Мля! Этого ещё не хватало! – выругался Семён.
Семен, больше ничего не говоря, сразу же направился в капитанскую рубку. У помощника капитана был в руках планшет, где на карте очерчен фарватер, по которому шло судно. Мы точно не были в территориальных водах Эстонии. До них ещё не менее трех миль.
Я, может быть, и седовласый морщинистый старичок, но на голову никогда не жаловался. Так что понял, что именно происходит. Прибалтийские котята решили поиграть в тигров. Сколько они угрожали, что будут захватывать российские суда, команды которых якобы спят и видят, как бы перерезать коммуникационные кабеля в Балтийском море. Видимо, заокеанский саблезубый тигр дал добро котятам на провокацию.
– Русский корабль, станьте в дрейф и приготовьтесь к досмотру! – закричали с одного из двух катеров.
Помнят правильный язык общения! На русском обращаются! Злость и решительность наполняли меня. Будто я в 44-м, и наш десант в Нарву решили вот так остановить немцы.
Да, фашисты сразу бы открыли огонь. А у этих просто кишка тонка, лишь пугают наставленными в сторону нашего судна крупнокалиберными пулемётами.
– Стоп машина! – почти в полной тишине, когда лица матросов были обращены в сторону капитанского мостика, прозвучал приказ.
– Да какое «стоп машина»! – возмутился я, выкрикивая погромче, но старость брала своё – я закашлялся и сгорбился.
Провокация чистой воды! Если сейчас промолчим – растопчут. Нужно действовать… пусть узнают, что такое русский старик.
В груди скребло – не бывало такого, что мы сдаёмся врагу. Да, да, ситуация сейчас другая, может быть, капитан и прав. Ну не воюем же мы с Эстонией! Да и разве медведь вообще может воевать с клещом?
Разве же начали бы стрелять пограничники, примерявшие на себя роль морских пиратов, если бы мы на полном ходу уходили севернее?
А стреляли бы – так, на мой взгляд, и пусть! Не пора ли снимать маски и врага называть врагом? Да не решились бы они. Это так, мяукать умеют, а рычать им не дано.
– Сынок, неужто лапки кверху? – обратился я к одному из молодых матросов, что был рядом со мной.
– Отец… дедушка, да был бы у нас пулемёт, я бы первый… – сквозь зубы зло произнёс матрос.
– Э, внук, разве же сила в оружии? Сила в духе! – продолжал сокрушаться я.
Но сам с облегчением подумал, что далеко не всё потеряно с молодым поколением.
Тем временем на судно уже подымались, с позволения сказать, фрицы, ну, эти… эстонцы. Я стоял, нахмурив брови, от чего, наверное, должен был выглядеть и вовсе старым. А, нет… я и так слишком старый.
А морды забрались на палубу и вели себя вызывающе. Они ухмылялись, посматривали на всех, словно на пустое место, не забывая при этом вертеть стволами автоматов в разные стороны. Так и хотелось мне повертеть стволом… А лучше скинуть всех их в море, пусть кильку бы подкормили для своих шпротов.
– Всей команде собраться на палубе! – выкрикнул один из пограничников.
Он был самым старшим, как бы не за пятьдесят лет мужику. И это для меня – юнец. А так… Явно же рожден, гад, в Советском Союзе, пионером был, Ленина любил.
– Офицер, я капитан судна. У нас нет ничего того, что могло бы вас заинтересовать. Вы нарушаете морское право, – говорил тем временем капитан.
– Рот свой закрой и подготовь корыто к проверке! – усмехался главный среди стервятников с автоматами.
– Мы находимся в шестнадцати морских милях от берега. Это экстерриториальные воды, вы не имеете… – капитан стоял на своём, но по жесту главного пирата его сорвиголовы взяли под руки нашего капитана и повели его к борту.
– Стоять! – выкрикнул пограничник и…
– Бах-ба-бах! – три раза выстрелил в воздух.
Было дернувшиеся немногочисленные члены команды судна быстро вернулись обратно и теперь лишь исподлобья, тяжело дыша, смотрели на ряженых пограничников. Конечно, это ряженые скоморохи, чести мундира не понимают – потому что нарушаются все возможные законы международного судоходства.
– Кomandör, siin Vana mees akupantides, – сказал один из пиратов, подойдя ко мне [эст.: командир, тут старик из оккупантов]. – Täht? minu vanaisa tapmise eest? [эст.: звезда? За то, что убил моего деда?].
– Не тронь! – сказал я, когда гад нацелился своими лапами к моей Звезде Героя.
– Валдис, оставь его! – почему-то на русском языке потребовал главарь.
– Мul on seda tähte vaja! [эст.: Мне нужна эта Звезда] – не унимался Валдис.
– Ефрем Иванович, не надо! – слышу я голос Семена.
Он знает, понимает, что я не дам никому трогать мою награду, мою Звезду. Но одёргивать тут надо не меня, а этого юнца-наглеца, который нацепил форму и считает, что право имеет.
– Не трогай руками! – прорычал я.
– А то что, дед? – почти на чистом русском языке сказал пират, но я уже не удивлялся.
– А то… – я повернулся к команде. – Чего же вы стоите? Смерти боитесь? А она лучше, чем позор?
– Ефрем Иванович…
– Молчи, Семен. Не может русский корабль сдаваться врагу без боя, – я посмотрел на эстонца, вдруг резко вспомнившего русский язык. – Стрелять будете? Не испутаетесь? Скрыть-то не получится. За нами великая страна!
– Хе! – удар пирата уронил меня на палубу.
Я заметил, как он изготавливается к удару, и понял, куда собирается бить, но старость… Не успел даже увернуться. Сто лет, как-никак. Я принял удар, потому что знал: пусть ударят в меня, а не в память всей роты.
– А Звезду я у тебя, дед, заберу, компенсацией будет, – сказал гад и потянулся к награде.
– На! – выкрикнул я и со всей мочи, что еще только оставалась во мне, огрел пирата своей тростью, привстав.
– Сука! – подлетел другой пират.
Удар ногой… Я падаю, и что-то попало мне под голову, какой-то ящик. Теряя сознание, еще слышу выстрелы и успеваю понять, что команда нашего судна начала действовать. Все правильно, так и должно быть. Смерти нет, если ты уходишь достойно, несломленным. Нет жизни без борьбы! Единожды сдавшись, ты не только подставляешь себя, ты и других подставляешь, потому как по дурному поступку могут судить всю нацию.
Я слышу, что сердце замедляется. Отсчитывает последние, редкие, слабые удары. Под звуки борьбы на палубе, под крики, понимая, что наша берет, что уже кричат пираты о том, что они готовы уйти, я улыбаюсь и кладу руку на Звезду Героя – получается, что и на сердце. А хорошо ухожу, как хотел, несломленным, как воин!
Темнота… Она вокруг, но не во мне. И я плыву в темноте… Слышится женский голос издалека. Мягкий и такой знакомый, родной.
– Ты сделал всё, что мог. Теперь… начни сначала.
– Надя…
– Живи! Проживи новую жизнь с честью… Люблю тебя…
Глава 2
Русские в плен не сдаются!
М. И. Кутузов
Балтийское море. Район Данцига
25 мая 1734 года
– Где я? Почему связан? Что за корабль?.. Где наши?.. Почему ты в парике?! – Эти вопросы вспыхнули в голове сразу, как только я начал приходить в себя.
Голова гудела. Руки и ноги затекли. Я ощущал тугие верёвки— не наручники, не стяжки, а именно сраные верёвки! Кто так пленников связывает? И главное – деда столетнего связать?! Вот же ущербные…
– Унтер-лейтенант, с вами всё в порядке? – донёсся голос откуда-то сбоку.
Кто-то наклонился надо мной, резко и ловко вспорол путы. Я приподнялся на локтях. Мир плыл. В висках стучало.
– Это ты, сынок, ко мне так обращаешься? А ты кто такой? – спросил я, силясь сфокусировать свое зрение на лице мужика.
Передо мной стоял… ну точно не наш. Лоснящийся парик, одежда, столь безразмерная, что рубаха представляла скорее балахон, пиджак… или что это вообще… грязный, в копоти. А еще эти манерные жесты – как с исторической реконструкции. Но голос был нормальный. Русский. Даже сочувствующий.
– Мы сдались? Где Семён? Что за фарс вообще?
– Александр Лукич, почто мне знать, где Семён? Да и нет серед офицеров на фрегате такого. Вы давайте, поднимайтесь, недосуг мне с вами возиться! – отозвался мой собеседник. – Нынче такое творится…
– Мы сдались? – спросил я.
Этот вопрос меня, действительно, волновал.
– Сдаемси. Стыдоба-то какая! – отвечали мне, чем еще больше добавили сумбура в кипящие мысли.
– Э, мужик… ты кто вообще?
Зрение постепенно возвращалось, будто пелена слетала, так что я более отчетливо рассмотрел мужика. И… он даже на реконструктора не похож, слишком какой-то… реалистичный, что ли.
– Мужик? Вы словно не в себе… Лаптев я, Харитон Прокофьевич. Всё, будет вам. Недосуг беседы вести. Приходите в себя и скажите своё слово, – буркнул он и метнулся прочь, будто его реально что-то ждало [Будущий исследователь Русского Севера действительно был на том корабле и при тех событиях, о которых пойдет речь].
Он ушёл, а я остался.
Один. С верёвками, с париком и с подозрением, что я больше не в своём веке.
Постепенно туман в моих глазах развеивался, и я силился получше разглядеть, что вокруг происходит. Но быстро понял, что внимание нужно обратить не на это. Бог с ним, с мужиком в парике. Голос не мой, тело не моё! Палуба, если я вообще на корабле, тоже иная! Впрочем, слышен и шум моря, и качает так здорово, будто ветер сильно поднялся. Но так не может быть!
«Проживи ещё одну жизнь!» – вспомнил я слова, что сказала мне во сне Надя.
А еще этот парик… Я поднял руку и опустил пятерню себе на макушку. Вот те на! На мне он тоже есть. И голова чешется, аж жуть. Я быстренько скинул парик и стал расчесывать свою голову. Свою ли? Жирные длинные волосы, но густые, как у меня в молодости. Потом зачесалась и спина… Этим занятием можно было заниматься бесконечно. Но лучше встать и рассмотреть, что происходит и где я.
Корабль. Парусник. Впереди, на палубе, столпилось не меньше восьмидесяти человек. Кто-то галдел меж собой, иные стояли понуро. И что интересно – все ряженые, какие-то в большинстве маленькие, щуплые. Были среди них и мужики, тьфу… в лосинах. Да что это за наряды? И корабль…
Я не хотел принимать действительность, разум отвергал напрашивающиеся выводы.
– От капитана поступил приказ сдаться, – услышал я немецкую речь.
Прямо сработала какая-то психологическая закладка. Немецкий язык, слово «сдаться». Хотелось в свойственной мне манере выкрикнуть «Русские не сдаются!», «Фашистская тварь!», но вспомнились угрозы эстонцев нашему сухогрузу. Наши же с эстонскими погранцами дерутся! Я стал крутить головой по сторонам… замер. Как всё быстро получилось! Ведь я буквально подскочил сюда, да и теперь за пару секунд всё оглядел и всю обстановку оценил. О такой своей резвости последние лет сорок, не меньше, я только вспоминал с ностальгией.
– Русские не сдаются! – все же вырвалось у меня.
Даже если это и реконструкция, то неправильная, нужно переработать сценарий, ибо если и был позор, когда русские сдавались, то это не те эпизоды, которые нужно проигрывать и ставить для выступлений – их нужно осуждать. На них нужно учиться, чтобы не повторилось впредь. Мы же русские… Мы не можем, как на Западе, героизировать побег. У англо-французов это гладко вышло у Дюнкерка во Второй мировой войне. Они драпали от немцев, а после это подвигом объявили.
– Ёшкин кот! Это я что, на вечеринку этих, которые в России запрещены, а в Европе поощрены, попал? – вслух сказал я, когда передо мной всё чаще стали мелькать мужики в лосинах.
Реконструкторы! Под восемнадцатый век играют!
– Господин унтер-лейтенант, с вами всё в порядке? – поинтересовался у меня один из реконструкторов. – Не гневайтесь, но нынче не до вас. Живы, и на том хвала Господу. Мы давеча…
– Происходит что? – перебил я.
– Капитан наш, хранцуз, грамоту прислал, дабы мы сдавались. Вот и ихний офицер пожаловали. А другой хранцуз, товарка капитана, також призывает сдаваться. Стыд какой!
– Никаких сдач не будет! – решительно сказал я, хотя ещё не знал пока ни своего статуса, ни возможностей.
Но я точно знал одно: при моей жизни сдач не будет. Русские не сдаются!
– Братцы! Да как же мы честью-то своей поступимся? Как же оскверним память благодетеля Петра Великого, – выкрикивал мужик, назвавшийся Харитоном – его я первым увидел, как очнулся.
Как его? Лаптев! Словно как русский мореплаватель, один из братьев, в честь которых и море назвали. И об этом я успел подумать, а вот все остальное… В моей голове мысли кучковались и распадались, словно после ядерного апокалипсиса химические элементы.
Я силился собрать все увиденное воедино и выдать версии, но к таким немыслимым выводам я пришел, что и озвучивать нелепо.
– Ви подчиниться! Письмо ваш капитан, что ви снять фляг, – услышал я слова с явным французским акцентом.
– Это кто здесь сдаваться собрался, морда ты фашистская! – выкрикнул я.
Не знаю, реконструкторы ли это, и куда подевались эстонские пограничники с русскими моряками, которые между собой дрались, когда я потерял сознание. Но сдаваться никто не будет! Не в этой жизни, которая… Черт, опять эти мысли…
– Не надь крика. Все понять и приказ справить, – было мне ответом.
– Сдаваться не позволю! Вы что тут учинили? Русские не сдаются! – напирал я.
Чувствовал себя так, что лететь хотелось, казалось, что вот сейчас оттолкнусь от деревянной палубы корабля и взлечу. Какая же разница была между тем мной, стариком, и сейчас… Убывало-то день за днём, и теперь я не мог поверить – неужели человек бывает вот так полон сил? И я когда-то был, и теперь снова силён! Ничего не болело, а легкость какая в движениях!
А еще я привлек к себе внимание, и ко мне рванул Лаптев. Он подскочил, встал в шаге от меня и эмоционально выкрикнул:
– Господин унтер-лейтенант, Александр Лукич, вы же приказали своим солдатам сопротивляться?
Приказать? Мы запросто! Вопрос в другом: кто подчинится.
– Приказываю всем солдатам не сдаваться! – прокричал я.
Я был удивлён, когда два десятка, или чуть больше, стоящих в толпе солдат в один момент извлекли из своих ножен клинки, и это были шпаги. У каждого солдата – шпага? А так разве было?
Или это гвардейцы?
– Слыхали, что его благородие приказали? Айда в Арсенал! Фузеи брать! – выкрикнул один из мужиков, вскинув вверх шпагу, и направился ко мне.
Ему пришлось пробираться через толпу моряков, даже кого-то толкнуть, а кого-то и подпихнуть плечом. Я находился немного в стороне от мужиков.
– То есть бунт на фрегат! Ви будете казнь! После капитан я командовать фрегат Митава! – опять же с французским акцентом кричал мужик, которого я из-за спин не мог рассмотреть [Речь идет о реальных событиях 25 мая 1734 года, в реальной истории это был первый случай сдачи русского корабля].
– Господин унтер-лейтенант, приказывайте! Вы не серчайте на нас, что не вызволили, когда вас вязали. Приказа не было, а вы-то без чувств лежали. Вот мы и… Не серчайте. Нынче все справим, как прикажете. Мы не подчиняемся капитану и сдаваться не намерены. Я рад, Ваше благородие, что вы в себя пришли. Уж думали, что хвороба какая насмерть свалила вас! – радостно проговорил тип в лосинах.
И все же не реконструкторы. «Проживи новую жизнь с честью!» – вновь ворвалась фраза в мое сознание.
«Проживу, Надя, может, и недолгую, но с честью!» – подумал я.
– Взять паникеров под стражу! – отдал я приказ.
– Кого?
– Смутьянов, кто призывает сдаться! – вынуждено я поправил себя, на мгновение удивившись, что слово «паникер» ещё не знакомо людям.
– Будет сделано! – отрапортовал…
Сержант? Погонов не было, но этот солдат отличался мундиром от других. Пусть условно будет сержантом. Понять разницу между фурьером, капралом и каптенармусом я все равно сразу не смогу. Да и недосуг мне теперь выяснять.
Я направился к толпе, где многие смотрели уже на меня.
– Не сметь! Унтер-лейтенант, вы забываться! Окститься и не ваш дело решать о сдача фрегат! – ко мне подошел какой-то, судя по мундиру, офицер.
Говорил он с жёстким немецким акцентом. Какой замечательный русский экипаж русского фрегата! Французы, немцы, может, и датчане имеются. А русские где?
– Все ли так считают? Все ли готовы прославиться как первые русские моряки, кто сдался неприятелю? – выкрикнул я, решив сосредоточится на главном – не допустить позора.
Я уже понял, что за события происходят, хотя пришёл в себя только меньше четверти часа назад. Это фрегат Митава, и он готовится сдаться французам. Я читал об этом, сокрушался, что команда и не попыталась сопротивляться. Так, убегали, а потом стали в дрейф. А после просто дали французам взойти на борт, хотя абордажные команды неприятеля были уязвимы перед пушками фрегата. После – только плен для экипажа и позор.
– Это наше дело, и я поддерживаю господина унтер-лейтенанта, – рядом со мной, слева, встал еще один молодой офицер.
– Назовите свое имя громко, чтобы все слышали! – потребовал я уже просто потому, что не знал, как зовут офицера, а обращаться, скорее всего, придется.
– Мичман Григорий Андреевич Спиридов, к вашим услугам! – лихо сказал офицер.
– Кто? – вырвалось у меня, и я пристально посмотрел на Спиридова. – Впрочем, об этом потом. Сейчас же я рад, что вы на правильной стороне [будущий адмирал Спиридов также служил мичманом на фрегате Митава, когда тот сдался].
Я шел сквозь расступающуюся толпу, не оборачиваясь, но чувствуя, что за мной пристраиваются ещё и ещё матросы и офицеры. Справа был сержант-гвардеец, слева Спиридов и Лаптев, за нашими спинами и по бокам – солдаты, уже ощетинившиеся фузеями со штыками.
– Ви не в праве, ви бунтарь! – с ощутимым акцентом и с явной растерянностью говорил типчик в центре круга, образованного толпой.
– Арестуйте его и в каюте заприте! – скомандовал я.
Раздалось коллективное «ах!». Наверное, да нет, точно – я сейчас приказал совершить преступление.
– Пройдемте! – потребовал от француза мой сержант, но пока что как-то неуверенно, поглядывая в это время на меня, будто всё ждал, что я отменю приказ.
Помощника капитана, или как там должность должна звучать в этом времени, увели под гробовое молчание всех собравшихся.
– А это кто? – спросил я, указывая на ещё одного, который жался к борту, будто желая спрыгнуть с корабля, и был он одет в отличный от русских мундир. – Француз?
– Je suis envoyé par Monsieur le lieutenant-général Barray. Votre capitaine a donné l’ordre de rendre la frégate [фр. я послан господином шеф-эскадром Барраем. Ваш капитан дал приказ о сдаче фрегата], – прощебетал, как скороговорку, француз.
Не сказать, что я был полиглотом, хотя немецкий знал хорошо, ну и английский неплохо, как языки потенциального врага. В КГБ без этого было никуда. Сказанного доподлинно не понял, но общий смысл уловил и по-французски.
– Арестовать и этого француза. Потом выменяем на капитана! – сказал я, и последовал арест.
Все… Теперь нужно было решать, как сопротивляться.
– Офицеры, ко мне. Вот вы – я на секунду задержался в размышлении, как же обратиться к своему условному «сержанту». – Вам обеспечивать порядок на корабле.
– Будет сделано, ваше благородие! – радостно, даже с азартом сказал тот.
Я рукой подозвал офицеров в сторону, и их оказалось всего трое.
– Трое офицеров? – спросил я, силясь вспомнить, а сколько вообще должно быть на фрегате офицерского состава.
– Кого вы арестовали, капитан и мичман Войников – у французов, иные офицеры отказались… Кхм, они выразили свое несогласие, но не будут мешать, – сказал Харитон Лаптев.
– А остальные? – спросил я, вспоминая, что на фрегате должны были быть и другие офицеры, да и видел я их, стоящих в стороне.
– Секретарь, ундер-лейтенант, комиссар и констапель устранились, – сообщил мне Спиридов. – Гардемаринов же не звали, боцмана и шхипера также, боцману нужно следить за матросами, да и не по чину ему [орфография наименования чинов во флоте сохранена, как было на 1734 год].
Я хотел было дать приказ, чтобы арестовали всех отказников, однако пока решил сильно не злоупотреблять первоначальным успехом. Самоустранилась часть офицеров? Пусть стоят в сторонке, трусы. Начнем действовать, и у них будет шанс восстановить свою честь. Стоит вспомнить, что русский флот сейчас не в том положении, чтобы арестовывать или расстреливать морских офицеров. Кадры нужно беречь. Тем более, на Митаве, одном из немногих кораблей, построенных недавно.
Я кое-что вспомнил про этот корабль, жаль, немногое. Построен он был во времена правления Анны Иоанновны. Если я получил новую жизнь, то именно в ее правление. А что мне с этим делать, я подумаю потом. Пока что я не могу допустить, чтобы русские сдавались. Кому? Французам? Хотя в этом времени они, наверное, считаются сильными. Ну да и Наполеону мы понаддавали затрещин!
– Ваши предложения, господа! – призвал я собравшихся проявить инициативу. – Одно скажу, что если не получится выйти из положения не проиграв, то я за то, чтобы корабль топить. Врагу не сдается наш грозный… Митава.
Некоторое время все молчали, а после Григорий Андреевич Спиридов, нахмурив густые брови, обрисовал общую обстановку:
– Рядом у нас два французских линейных корабля. Еще два могут быть недалече. Я узнал 64-пушечный «Ахилл». Он, верно, и флагман. Уйти мы могли бы – при удобном ветре. Небольшой туман нам в помощь…
– И не токмо он, отроки, но и Господь смотрит на вас, как и Богородица, что Россию защищает от супостатов! – пробасил приближающийся голос.
Это был священник, который теперь направился к нам, а до того я заприметил его у стоящих в сторонке офицеров-отказников. Что-то он им вещал. Ели призывал к сопротивлению, то одно; если же обсуждал обеденное меню, то это совсем иное. Ну не могу я в каждом священнике видеть хорошего человека. Немало во мне еще от борца с «опиумом для народа», пусть впоследствии и пересмотревшего свои взгляды.
– Отчего меня не позвали? – с упреком спросил батюшка.
Все засмущались, а меня так и распирало сказать, почему. Да потому, что я не слышал сегодня священника, который призывал бы не сдаваться. Промолчал, выходит.
А сейчас что изменилось?
– Ослушались вы приказа… – продолжал батюшка вещать. – Но на то благословение даю вам. И пущай меня Синод Священный осудит, но латинянам сдавать корабль русский я не хочу.
– Батюшка, а идите… Команду поувещевайте, чтобы они так же думали, – вежливо я направил священника заниматься его непосредственными обязанностями.
Получив гневный взгляд от батюшки и не поморщившись, я продолжил буравить его взглядом, и священник все же подчинился. Да и что ему делать на таком вот нашем скором военном совете?
– Я слушаю вас… – сказал я, обращаясь к трем офицерам.
* * *
Балтийское море. Район Данцига. Борт французского линейного корабля «Ахилл».
25 мая 1734 года
– Пьер, я рад вас увидеть вновь. Крайне странное стечение обстоятельств, но встреча все же приятная, – сидя на палубе линейного корабля «Ахилл», распивая за малым столиком вино и закусывая твердым сыром, вел беседу шеф-эскадр морских сил Франции Жан Андре Баррай.
Напротив него сидел и как ни в чем не бывало пил вино капитан русского фрегата «Митава» Пьер Дефремери. Он прибыл на французский флагман с тем, чтобы увещевать своих соплеменников-французов разойтись миром, но, как видно, миссию свою провалил. К слову, мичмана Войникова, прибывшего для переговоров к французам первым, к столу, в отличие от Дефремери, не пригласили.
– Мсье Баррай, но вы же нарушаете правила. Ладно бы вы шли под флагами Польши, но Россия с Францией не воюет. Вот и я прибыл добром решить недоразумение, – продолжал, однако, гнуть свою линию Дефремери.
– Вы будете всего-то интернированы. А после уйдете вновь в Россию. Я не претендую на фрегат, как на свой приз. Но, мой друг, понимать же нужно. Данциг держится в осаде во многом потому, что у Ласси, русского военачальника, нет осадной артиллерии. Да и у Миниха, который стремится забрать командование осадой русскими войсками Данцига, также нет артиллерии. А на «Митаве» она есть? – спрашивал шеф-эскадр. – Не везете ли вы осадные орудия?
– Если вы назвали меня другом, то я воздержусь от ответов, – произнес Дефремери.
– Ха-ха! – француз рассмеялся. – Но вы же уже отдали приказ о сдаче. Уже скоро я сам увижу, что перевозит бывший ваш фрегат.
Русский капитан французского происхождения уже был бы готов отдать другой приказ, но теперь оставалось только сохранять лицо. Наивно, выходит, Дефремери посчитал, что может договориться со своими соплеменниками. Он, на самом деле, боялся не бой дать. Будучи смелым и умным человеком, Пьер Дефремери не хотел только быть тем, кто начнет войну России и Франции.
Не знал капитан Митавы, что первое столкновение французов и русских уже состоялось. Лягушатникам надовали затрещин солдаты полковника Юрия Федоровича Лесли. Так что фактически война с Францией уже идет. И первыми ее начали французы.
– И все же… мсье Баррай, вы же таким путём, можно сказать, поставите вопрос о том, каковы отношения между… нашими странами. Императрица Анна Иоанновна весьма чувственная особа, она не потерпит… Россия может объявить войну Франции, и….
Французский командующий так же не был в курсе того, что уже, вчера, состоялся первый бой. Французы, не поняв, что русские – это уже сильная европейская армия, решили, видимо, что сражаются с какими-то туземцами. Ошиблись…
– Мы высаживаем десант, уже почти что высадили. Наши солдаты и офицеры уже будут убивать русских, возомнивших себя… – Баррай несколько забылся, посчитав, что общается со своим подчиненным.
Петр Дефремери резко поднялся и гордо заявил:
– Я попрошу вас! Я на русской службе и предан ей!
– Что ж. Тогда вы в плену, мой друг. Проявляйте благоразумие, – усмехнулся шеф-эскадр и махнул солдатам, чтобы те подошли. – Теперь вы будете под… Скажем, что под охраной. И можете даже воспользоваться своей зрительной трубой, чтобы видеть, как фрегат Митава спустит флаги.
Дефремери стиснул зубы. Он понимал, что теперь выглядит, как предатель. Французский командующий перехитрил его. Мало было ему сообщить через присланного русского мичмана условия сдачи. Баррай, опасаясь того, что фрегат все же попробует уйти, и придется стрелять и, возможно, и упустить русских, потребовал разговора с самим капитаном фрегата. Уже здесь прозвучал намек, что можно разойтись миром.
– А вот на воде и шлюпки, полные солдат и матросов моих абордажных команд, сейчас фрегат будет сдан. Не расстраивайтесь! Вы же будете в плену не где-нибудь, а на родине, в благословенной Франции. Какая нелепость, не правда ли? – усмехался шеф-эскадр Жан Андре Баррай.
– На фрегате подняты заслонки, они готовятся к сопротивлению! Русские открывают пушки! У них в зоне поражения наш десант! – кричали тем временем офицеры на французском флагмане.
– Дьявол! – выругался Баррай.
Нужно время, чтобы поднять четыре якоря, нужно время, чтобы выставить паруса. Но еще и другое… Абордажные команды сейчас в море, и если их собирать, то еще будет затрачено время. А если следовать к русскому фрегату, то напорешься на свои же шлюпы. Все это может дать русским шанс уйти в туман, несмотря на то, что Ахилл более скоростной корабль, чем Митава.
Но шеф-эскадр сдаваться точно не собирался. Он в душе презирал своего соплеменника на русской службе, а сейчас… Ведь оставить русский корабль без внимания для Баррая было равносильно поражению.
– Линейному кораблю Флеро готовиться в погоню! – принял решение шеф-эскадр.
Глава 3
В морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика.
Адмирал П. С. Нахимов
Балтийское море. Район Данцига
25 мая 1734 года
– Руби борта! – кричал боцман. – Ах ты, Богу душу мать! Ты, окоем, что делаешь!
Недалеко от боцмана и матросов стоял батюшка и на каждое скверное слово осенял крестом и боцмана, и матросов. Словно в молитвенном запале, священник крестил без остановки – ругань лилась непрерывно, как морские волны, ударяющиеся о борт фрегата.
– Сержант, выдержит ли канат откат от пушки? – спрашивал я.
– Ваше благородие, так должно. Канат выдержит, а вот борта, за кои его цеплять… – отвечал сержант, которого, как оказалось, звали Иван, а по фамилии – Кашин.
Я теперь вслух называл его сержантом, без сомнений. . И алебарда у него имелась, как отличительный признак старшинства над солдатами. Да и сами они при мне к Ивану Кашину обращались по званию. Так что не ошибся, сержант он, и мой, по сути, заместитель.
– Я сумневаюсь по бомбардам, – ко мне подошел Лаптев. – Сколь они помогут?
– Крепите лучше! – только и мог я ответить.
Мортиры были поставлены на толстые брусья, чтобы при первом же выстреле не проломить палубу. Да и это было опасным. Такое решение точно в нормальной обстановке никто бы не одобрил. Но сколь нормальной ситуация была для нас? То-то… И решения принимались опасные.
Я не морской офицер, хотя и служил в морской пехоте. Кое-что слышал да знаю. Но насколько мои знания могут пригодиться в этом времени? Вот только пригодятся ли они в этом веке – ещё вопрос.
Но кое-что я знаю и как историк, человек увлекавшийся историей и некоторое время ее преподавая в школе. Вот мортиры, которые бьют по навесной траектории, это тоже огневая мощь. Даже без попаданий ядра заставят французов нервничать и сбавить темп. Нам сейчас хоть плеваться, лишь бы корабли погони поскользнулись.
Григорий Андреевич Спиридов, будущий адмирал, вносил предложений больше всех – и именно дельных. Это он решил попробовать зафиксировать две большие пушки, которые я сопровождал в Данциг, где русские войска держали город в осаде. Дело рискованное, но могло усилить огневую мощь фрегата с кормы.
А на колесных лафетах, зафиксированных канатами, пушку удержать можно. Вот для них и рубили борта – немного, чтобы только ствол ровно выставить. Думали не "собирать" орудие, не ставить на лафет, ведь везли орудия в разобранном виде. Но крутили, думали…
Итак… Я попал во время так называемой «войны за Польское наследство». Что думаю об этом? Пока не определился. Дел хватает. Всем сознанием я теперь не хочу допустить позора нашего флота – сдачи фрегата Митава. Похоже, уже не допущу – вовремя принял бой.
Как закончится сопротивление – неизвестно, но оно будет. И пусть меня на ремни режут, но в этот момент я буду поджигать бочки с порохом, чтобы подорвать корабль.
Русские не сдаются! Это раз. А два – нельзя даже допускать возможности сдачи: отложится в головах, что так можно. Тогда явление станет обыденным.
Нет, не бывать этому!
– Штуцеры есть, ваше благородие, нашёл в арсенале! – радостно сообщил один из моих солдат. – Пять и есть.
– Мало… А есть кто справно стреляет с них? – спросил я, всё больше стараясь говорить в манере тех людей, с кем приходится общаться.
– Справно? Видать, что я более иных… Макар еще… Фрол… Найдём, ваше благородие, кому стрелять, – отвечал сержант Кашин.
Из того, что я знал по военной истории времени, я помнил про штуцеры. Это нарезное оружие. Били они точнее и дальше фузей. Да, я знал про долгое заряжание, но и у нас будет время – попасть в лодку с французами и перезарядиться. Именно так: даже не в человека, а по днищам целиться. Тем более на корабле заряжание должно быть чуть быстрее. Можно же прикладом ударить по палубу, чтобы пуля быстрее ушла в ствол.
Может использовать штуцера и так себе идея. Но пока не мог себе представить, что значит стрелять и не целиться. С фузеей кто стреляет даже голову отворачивают. Так в кино… Думаю в этом как раз фильмы не врут. А в штецера пуля чуть меньшая дура и должна лететь, куда ее посылают.
Как будет происходить абордаж, я уже понял. Вражеские корабли даже не дрейфовали – они спустили якоря. Балтика не глубока, позволяла это сделать.
Так что десант пойдёт на шлюпках. А море волновалось, и то, что мы стояли на дрейфе, тоже было проблемой. Корабль разворачивало. Но и французы получат свое. Море и для нас и для них негостеприимное, волнующееся.
– Вот! Хватит, али ещё нужно? – спрашивал боцман, показывая на место для установки пушки.
– Справно, – подтвердил Спиридов.
– Давай, тащи пушки! – скомандовал я.
Осадные орудия стояли привязанными на палубе. Две пушки были 18-фунтовыми, ещё три мортиры – пятипудовые.
Спасибо товарищам, ну или господам, что много говорят, а я внимательно слушаю. Теперь знаю, где сколько фунтов и сколько пудов в тех орудиях, что, как оказалось, за мной числились. Нужно еще было включить внутренний калькулятор, чтобы представлять что к чему в привычной мне метрической системе мер.
Пушки были в данный момент почти что чемоданом без ручки. Они очень сильно перегружали Митаву. Так что я даже всерьез думал о том, чтобы сбросить орудия, как балласт, если не получится задуманное. Впрочем, если не получится, нужно весь корабль пускать на дно.
– Итак, господа, мы готовы, – сказал я, обращаясь к тем, кто пришел на военный совет.
– Французские команды, не дождавшись спущенных наших флагов, уже усаживаются в лодки, – когда я дал слово Спиридову, он стал докладывать. – До двух рот неприятеля пойдет на приступ. Нас – шесть десятков. Коли же в бой не вступят линейные корабли, мы имеем шанс подбить французов и спешно уходить.
– Я правильно понимаю, что им нужно начать спасение утопающих, и будет не до нас? – спросил я.
– Вы всех нас погубите, – высказал скепсис присоединившийся к военному совету корабельный комиссар.
– А все ли вы готовы умереть, но не сдаться? Покрыть себя славой, а не позором? – строго спросил я. – Тогда нужно готовиться ко всему, даже к тому, чтобы и самим взрывать фрегат.
– А вы мною не командуйте, я выше чином… – тот же комиссар вновь высказался.
– Если пришли, то уж подчинитесь! Нет, то идите и молитесь! – жестко потребовал я. – Меня волнуют пушки, а не ваши титулы и чины.
– Знаете ли… – возмутился комисар, но замолчал.
– Только Богу то ведомо. Еще никто сию задумку не пробовал. Кому сказать… Осадным орудием бить с корабля! – Лаптев покачал головой.
Главная проблема была в том, что на Митаве просто не хватало огневой мощи. Фрегат имел тридцать две пушки против суммарно ста двадцати двух пушек французов – почти один к четырем. И даже мне, человеку, опирающемуся на логику, а не на опыт морского сражения, понятно, что мы не можем давать бой линейным кораблям. Нам нужно уходить.
С другой же стороны, ни у нас, ни у противника, нет пушек на корме или на носе. Вот это и собирались мы исправить, что иметь возможность ударить по неприятелю, когда у противника нечем отвечать, пока из бортовые орудия не станут до нас доставать.
– Хранцузы идут! – закричал впередсмотрящий. – На лодках!
– Начинаем! – сказал я и направился на корму.
Именно тут и были прикреплены две пушки, которые я сопровождал к Данцигу. Мортиры, чтобы их навесная траектория не повредила наши же паруса, смещены к корме.
– Готовы, братцы? – спросил я, подойдя к изготовившимся бойцам.
– Как есть, ваше благородие. Готовы! – отвечал за всех сержант.
Три, пять, восемь шлюпок были спущены на воду французами. Это меньше двух рот солдат. Но ненамного.
– Ставим паруса! – скомандовал все-таки корабельный комиссар, как старший офицер.
Я бы предпочел, чтобы этот приказ все же звучал от Спиридова? Энергичный он малый, недаром стал адмиралом и одним из творцов победы в Чесменском сражении.
Да и приказ был общий, как, наверное "к бою", без конкретики. Ведь нужно указать какие паруса ставить, по какому ветру, и ставить ли, может опускать… Эти команды уже посыпались позже. Корабль оживал и становился, словно муравейником. Кто-то на реи полез, да так споро, что я загляделся, иные тянули канаты… В работе были все, кроме высшего офицерства на фрегате. А мои солдаты готовились первыми встретить врага.
– Стреляем со штуцеров, нужно попасть в днище лодок! – решив никого не ждать, скомандовал я.
Сам я не стал браться за неизвестное мне оружие. Пусть стреляет тот, кто это должен уметь делать. Будет время – дай Бог, я научусь всему. Я что, Бога уже поминаю? Дожился, коммунист! Еще и не такие метаморфозы, чувствую, меня ожидают.
Вражеские шлюпки, несмотря на то, что наш фрегат стал набирать скорость, все равно приближались. Да, их несколько подбивали волны, но гребцы французские работали справно и подходили к фрегату.
– Огонь! Бей их! – выкрикнул я.
– Ба-бах! – прогремела пушка, и…
Орудие на откате вырвало деревянные брусья сорвало крепление. Пушка проехалась по мачте – я видел, как, захватив одного из моих солдат, она проломила правый борт и рухнула в море. Это была первая потеря в людях – от своей же пушки.
– Бля! – выругался я, лишь благодаря реакции увернувшись от сорванного орудия.
– Бах-бах! – чуть замедлившись, выстрелило и второе орудие.
Я уже приготовился, что и оно, оторвется и так же может кого снести на своем пути, но, нет, удержалось, хотя брусья, на которых крепился канат, предательски затрещали.
– Отставить заряжать пушки! – прокричал я.
Второго такого отката крепление не выдержит. Если это будет последний шанс, тогда да, можно и даже нужно бить из пушки, невзирая на последствия.
– Бах-ба-бах! – одновременно раздавались выстрелы из штуцеров и разрядились три мортиры.
Их ядра по навесной траектории отправились в сторону французских линейных кораблей. Но это был выстрел так, больше для острастки. Главное – показать, что у нас есть зубы. Попадание с такого оружия могло быть только что случайным. Но и французам мы показывали, что собираемся драться – и даже на корме у нас имеется, чем встречать врага.
– Попали! Попали! – прокричали на корабле, пристально наблюдавшие за тем, как начался бой.
Нет, ядро, пущенное мортирой пролетело мимо, к сожалению. А картечь, заряженная в оставшуюся пушку, нашла цель. Одна шлюпка была буквально изрешечена. На ней – первые убитые враги.
– Александр Лукич, можете еще ударить? – кричал мне Спиридов.
– Нет! – признался я. – Только штуцерами.
В это время мои бойцы перезаряжали нарезные ружья. Это дело требовало до двух минут, ну или когда они друг другу помогали, полторы минуты. Мягко сказать, оружие спорное. Скорострельностью оно не блистало. Но дальность и точность брали своё. Фузеи? Сейчас – бесполезны. Вот подойдут французы на метров пятьдесят, вот тогда можно и ими стрелять. Но только залпами.
– Бах-ба-бах! – разрядились пять пушек фрегата по правому борту, куда приблизились еще две шлюпки.
Попаданий во врага критических не было. Но десяток раненых или убитых – и ещё важнее: пробоины, имелись. Теперь гребли они не вперёд, а за жизнь. Шлюпки тонули. А фрегат тем временем ловил ветер и уходил севернее.
– По правому борту! – кричали на корабле.
Я посмотрел вправо.
– Бах-ба-бах! – это уже французы стреляли.
С высоты палубы было видно: две шлюпки были слишком близко.
Наши частью пригнулись, пропуская выше голов вражеские пули, а иные матросы попадали на палубу в панике – хорошо хоть, никто не кричал «мамочка». Да… Боевой дух еще тот. Но не буду осуждать. Для большинства это первый бой. Как правило, в своем первом бою новичку нужно только выжить и не мешать остальным. А что делать, если новичков большинство? Я скажу – сжать зубы и сражаться!
– Кашин, остаешься здесь, командуй! – выкрикнул я сержанту. – Первый этот… плутонг, за мной!
Французы уже закинули абордажные кошки и подтягивали шлюпки. В этом месте, справа, ближе к корме, наши пушки уже были разряжены, а ружейными выстрелами враг не позволял начать новое заряжание. Точно, гады, били. Вообще работали лягушатники споро, смело и решительно. Нужно… очень нужно тренировать солдат и матросов, чтобы вот так уметь. Не готовы наши к серьезному бою. Запустили флот после Петра Великого.
А мне терять нечего, кроме чести и достоинства. Я сто лет прожил, но ведь я уже умер, а оказавшись в новом теле, еще не научился ценить новую жизнь. И будет ли такая возможность? Меня пока в этом мире только и держала цель – не дать произойти сдаче русского фрегата. Вот выживу, буду ставить и другие цели перед собой. Без них и жизнь – не жизнь, а вдох да выдох.
– Целься! – выкрикнул я, когда мы спустились на палубу, а мое подразделение, называемое плутонгом, стало в линию и направило ружья поверх бортов.
Вокруг свистели пули. Есть раненые, в ноги. Но и это могло оказаться смертельным. Как в этом времени обстоят дела с медициной, пока можно только догадываться.
– Сели! Всем сесть! – скомандовал я, когда пули стали свистеть поверх голов, словно с каждым свинцовым кругляшом чуть снижаясь.
И вот они, первые французы над бортом.
– Не лезьте! – кричал я матросам, которые только что лежали на палубе, но с появлением врага встали и загородили моему плутонгу сектор обстрела.
Тщетно. Два матроса вылезли вперёд с абордажными топорами – с явным желанием скинуть уже показавших головы французов.
– Ба-бах! – пистолетные выстрелы прервали жизни смелых русских воинов.
– Пли! Бей! Стреляй! – командовал я, быстро перебирая слова, не зная, как в этом времени нужно отдавать приказ на открытие огня.
Каким-нибудь словом, да попаду.
– Бах-ба-бах! – разрядили свои фузеи солдаты.
Дым на некоторое время лишил обзора, но уже вылезавших врагов должны были сбросить в море наши пули.
– Ба-ба-бах! – слышались выстрелы уже и по левому борту.
Лезли французы, упорные – и там шел бой.
– В штыки! – выкрикнул я и добавил уже для матросов, которые пятились к центру фрегата, будто предлагая врагу честный бой. – Бей врага! Не отходить!
Я не сразу извлек шпагу, что пристёгнута у меня слева. Не было привычки, как это быстро делать. Нужно было бы придержать ножны. Но мне было плевать, как там я смотрюсь, да кажусь ли кому неуклюжим – главное принести пользу в бою и спасти фрегат.
Меня увлекал бой, я чувствовал азарт. Но нет, не это важно. Для любого старика важно – чувствовать себя нужным. Я был нужен. Я не допустил позора. Даже если русский фрегат и будет взят французом, то с боя, а это куда как меньшее зло, чем сдача с поднятыми руками и повешенным носом. Да и хрен им!
– Врешь! Не возьмешь! – выкрикнул я, направляя свою шпагу вперед, и словно она меня тянула за собой.
Пусть шпага – это большой нож. Так было проще понимать, как действовать. Немного шашкой я владел, когда-то баловался. Тут же дело было серьёзное.
– На! – выкрикнул я, коля одного из французов, уже на полтуловища вылезшего – он вот-вот собирался перевалиться через борт.
Шпага удивила. Она почти и не встретила сопротивления, быстро вошла во французский череп, проколов заодно и шляпу. Это был французский офицер, все другие французы были в светлых, почти белых мундирах. А этот – в темно-синем с красными огромными обшлагами и отворотами.
Раздавались крики, я не мог остановиться, посмотреть, что происходит на корабле, как там, держится ли левый борт. Я махал шпагой, как поп кадилом. Но, что главное, я отгонял французов, не давал им лезть наверх. По мне, хоть оглоблей можно биться, только бы результат был.
И шпагу приспособим, коли надо.
– Руби, братцы, веревки! – кричал я.
– Бах-ба-бах! – прозвучали очередные выстрелы.
И это была нам помощь. Даже знаю, от кого – скорее всего, сержант поддерживает огнем. Молодец, все правильно.
– Кашин, ко мне! – выкрикнул я.
Шло рубилово, всё больше тел, всё больше криков. Но французы всё равно лезли. Даже перезаряжались – на плаву, в лодках под качку! Они все упорнее работали длинными баграми, доставали гады и кололи ими русских воинов, цеплялись за борт фрегата. Упертые, как черти. Не чета потомкам, оставленных мной в будущем. Но русский дух, он бьет всех!
– А! – вырвалось у меня, когда один из баргов все же уколол меня в руку.
Ничего существенного, даже и левой рукой, получившей укол чуть выше локтя, я мог работать.
– Ваше благородие! Пистоли! Заряженные, – кричал сержант.
Он и ещё трое бойцов несли пистолеты, сколько только получилось взять в одни руки… засунуть за пояс, ещё бы во рту пистоль принесли. Я отошел от борта, схватил у Кашина два пистолета, но не спешил их разряжать во врага.
– Бах! – разрядил свой пистоль Кашин.
Я же заметил последовательность его действий, взвел курок, направил тяжелый пистоль в сторону врага.
– Бах! – вот и я нашел своего француза.
Он картинно расставил руки и, глядя на меня испуганными глазами, плюхнулся в воду, моментально уходя на дно. А нечего лезть в бой в кирасе! А попал я ему в горло. Снайпер? Удача!
– Тонут! Они тонут! – закричали у меня слева.
И, да, некоторые шлюпки французов набирали воду.
– Бах! – разрядил я и второй пистоль, выбрасывая в сторону оружие.
Надо же… промахнулся!
– Пушки! Заряжай! – кричал я, понимая, что выстрелы врага стали редкими, а багры, как и шпаги французов, не мешали канонирам делать их работу. Вот-вот должен произойти выстрел артиллерии.
– На! – с выкриком я парировал немудреный удар шпагой одного из французов.
Раз! Моя шпага сломалась.
Я оглянулся, оценивая обстановку. Все веревки были перерезаны. Французы не отступали только благодаря тому, что держались баграми за наш корабль. Но наша брала, это точно. А еще фрегат разгонялся. Я громко хмыкнул. Этакий экшн был бы отличной сценой в высокобюджетном фильме, какие любила моя внучка.
– Ядра несите! – кричал я. – Кидайте в них!
И уже через полминуты ядра полетели во французов. Их кидали чуть издали, словно спортсмены на соревнованиях, мало кто хотел подходить близко к борту. Да и так ядра падали сверху на французов и ранили их, или заставляли уклоняться да падать.
– Отошли от борта! – выкрикнул я своим солдатам. – Заряжай!
Я понял, что для того, чтобы вновь вылезть на борт, французам нужно снова цепляться. Есть возможность моим оставшимся на ногах солдатам перезарядиться и уже залпом выбить всех ретивых врагов.
– Ба-бах-бах! – выстрелы из корабельных пушек картечью был словно музыка для моих ушей.
– Все… Нынче жа там и костей хранцузы не соберут, – прокомментировал Иван Кашин.
И вправду, решительный мы дали отпор!
– А ну, братцы, надо же трофеями обзавестись! – выкрикнул я, понимая, что из тонувших шлюпок можно было взять и ружья, и шпаги, да и одежда не помешала бы.
А еще деньги. У себя на поясе я ощупал небольшой мешочек с монетами. Думаю, что и у сраженного врага такие имеются.
– Чай не калмыки какие с казаками, мы гвардия! Словно тати… Како же грабить-то, – услышал я бурчание Кашина.
Но приказа он не ослушался.
– Пленных возьми, если есть кто раненый, обменяем на наших! – решил я несколько смягчить обстоятельства.
Ну не укладывалось у меня в голове, как можно отсоединить шлюпку от фрегата, когда там столько добра. Я не алчный человек, но бой прошёл – и у меня, допустим, шпаги уже нет. А так же у нас мало ружей! Я забрал шпагу у того офицера, что так и лежал на палубе русского корабля. На пулубе Фрегата, который никак не сдавался. Ведь русские фрегаты не сдаются!
Закончился бой и у левого борта. И фрегат наш набирал скорость. Несмотря на бой, штЮрман, именно так сейчас говорили, смог и ветер поймать, и корабль выровнять, поставить на курс.
– Они отстают! – ко мне подбежал Спиридов. – Их корабли не могут бить по нам, боятся по своим попасть. А еще… Им с якоря сняться надо, паруса поднять. У нас есть время! Вы ранены?
– Это пустяк. Но в главном вы правы – где доктор, нужно лечить людей!
– Дохтур – сие медикус? Так пользует он уже раненых!
Мичман Григорий Андреевич Спиридов фонтанировал эмоциями. Наверное, это не слишком подходяще качество, быть эмоциональным, для великого флотоводца. Но он еще молод, очень молод. Да и такой бой только что случился, победный для нас бой – как не порадоваться! Хотя это еще не конец.
Экипаж ликовал. Никто и не ждал, что выстоим. Мужчины радовались, и крики счастья заглушали стоны раненых.
А по погибшим и вовсе пока не горевали. Между тем, палуба была вся в крови, так что даже поскользнуться можно, и порой матросы падали, подымались и снова радовались, но уже измызганные в крови.
Я не радовался, а сразу же стал прояснять итоги боя, прежде всего для того отряда, который считал уже своим. Мы потеряли убитыми троих, это если с тем солдатом, которого сбросила в море наша же открепившаяся пушка.
Подсчитывал потери и других матросов, смотрел раненых и то, что к ним никто не подходит. И, думается, тут и мне стоит засучить рукава.
Глава 4
В уставах порядки писаны, а время и случаев нет, а посему не следует держаться устава яко слепой стены.
Петр I
Балтийское море. Район Данцига
25 мая 1734 года
Я работал. Оказывал первую медицинскую помощь всем нуждающимся, сортируя их не по чинам, а по сложности ранений. Как оказалось, такие прогрессивные взгляды разделяли не все – куда это простого матроса поперёд офицера? Но обращать внимание на бурчание я не стал. Если не остановить кровь, вовремя не перевязать, ребята могут умереть, а этого я не допущу.
– Ви знает делат? – корабельный лекарь, вместо того, чтобы заниматься ранеными, стоял у меня над душой и смотрел, как я занимаюсь перевязками.
– Займитесь делом. И если русского не знаете, то говорите уже на своем… Немец! – сказал я, не отвлекаясь от задачи и очищая рану матроса тряпкой, смоченной в водке.
Лекарь ушел, но разве же меня оставили в покое?
– Сударь, разве же вы не видите, что мичман Лаптев ранен? Отчего матроса пользуете, а Харитон Прокофьич в ожидании? – это так меня одернуть хотел тот, к которому обращались, как к лейтенанту.
– Будьте и вы так добры, не вмешивайтесь! У мичмана пустяковое ранение. А этот матрос умрет, если ему рану не прочистить да не перевязать, – говорил я.
Я мог бы услышать слова благодарности от матроса, но тот всё равно меня почти не слышал – он жевал усы, силясь не заорать, в то время как я промакивал водкой кровавую рану.
– Но там же дворянин… И что вы себе мните? – всё ещё возмущался лейтенант.
Я понимал, что он старше званием, но… не стал я ему подчиняться. Мне нужен порядок!
– Я не подчиняюсь вам. А будете мешать, так прикажу своим солдатам вас сбросить в море, – я зло посмотрел на офицера. – И клянусь, сделаю это!
– Бунтарь! – сказал лейтенант, но обострять не стал, на том ему спасибо.
Нужно было работать быстро и аккуратно. Большинство ранений были пустяшными, но это если только смотреть на них глазами человека из будущего. И, что важно, смотреть, находясь в будущем, с развитой медициной. А вот сейчас… пули входили в плоть, забирая с собой частички одежды, да и моряки – не только что из бани. Вероятность заражения крови очень велика.
Конечно, жгутов не было, и я использовал веревки. Бинтов тоже не было, и я рвал на перевязочный материал в том числе и простыни капитана. Дефремери любил спать в чистой постели. Конечно, нужно было прокипятить тряпки, но времени нет. Уже позже буду смотреть, кто в каком состоянии и, если придется, так и чистить заново.
Нет, я не доктор и медицинского не кончал. Но я был военным, а после и чекистом. Что такое первая помощь, я знал, элементарные операции по извлечению пули, если только не из важных внутренних органов, провести мог. Уверен, что сделаю это не хуже, чем здешний корабельный медик и его два помощника.
Да и им работы хватит.
– А гвардеец лихой. Эка все сладил, хранцузского ротмистра в лоб заколол… – краем уха слышал я одного из старых матросов.
– Кабы не казнили гвардейца сего, он жа… И мичманов наших это же… Бунт на корабле – не простят… – доносились до меня обрывочные фразы.
К сведению все это нужно брать, но паниковать и прыгать за борт, чтобы оказаться подальше от фрегата и вероятного судилища, я не собирался. Напротив, если меня арестуют за благое дело, то будет что сказать судьям.
Интересно, а дыба – это сильно больно? Могу скоро узнать.
– Ich danke Ihnen, aber ich werde das schon selbst erledigen, Herr Unterleutnant [нем. я благодарю вас, но дальше уже справлюсь сам, господин унтер-лейтенант], – сказал медик, а я рукой остановил переводчика, который уже набрал воздуха в грудь, чтобы перевести.
– Wenn ich frei bin, werde ich an den Operationen teilnehmen. Und mit Seife, Wodka und Essig auffüllen [нем. по мере того, как я буду свободен, собираюсь присутствовать на операциях. И запаситесь мылом, водкой и уксусом], – ответил я на родном для медика наречии.
Рихард Витольд Гротеволь буркнул что-то вроде, чтобы я не лез не в свое дело. Но нет, я буду лезть. Из семи раненых моих бойцов, я могу вытянуть шестерых, если не будет заражения крови. Да и других… Лаптев Харитон был ранен в плечо, я сам ему перевязку делал. Нужно извлечь пулю, что застряла в теле будущего великого исследователя Русского Севера. И доверять это я никому не хотел. Не с этими грязными руками, что были у Гротеволя. Сам же я руки вымыл, даже с мылом, таким… почти черным, но пенилось оно хорошо.
– Я благодарен вам, Александр Лукич. Вы дрались, как лев. Спасибо! Помогли не только избежать поругания чести, но и добыть викторию в баталии! – когда я уже немного освободился и присел на каком-то ящике, чтобы выпить затхлой воды и передохнуть, ко мне подошел мичман Спиридов.
– Я правильно понимаю, что нас догоняют? И когда догонят, то потопят фрегат? – задал я вопрос.
– Токмо Богу сие ведомо, – устало отвечал будущий адмирал. – Позвольте заметить, что вы словно играете со смертью.
– На Бога надейся, но сам не плошай! Так что, мичман, мы еще повоюем! И нет, я смерти не боюсь. Не боюсь совсем – ни эдак, ни так, – пусть я и был уставшим, но духа не терял и пробовал зарядить верой в хороший исход дела и Григория Андреевича.
– Добрая приказка, сударь… Пойду я, с вашего дозволения!
– Идите, мичман! Выжимайте из ветра, что только можно!
Французы совершили ошибку, когда послали своих матросов и солдат брать на абордаж наш фрегат. Наверняка, они рассчитывали на то, что экипаж уже сдался. Но флаг на «Митаве» так и не был спущен. Тогда на что рассчитывали? Ведь такой десант можно крыть корабельной артиллерией очень лихо. Ну а что пушки не возьмут, то довершат фузеи и даже пистолетные выстрелы. Сверху стрелять по скопившимся и мешающим друг другу солдатам и матросам противника, стесненных малым пространством шлюпок – куда как сподручнее.
А теперь выходит, что и корабли не могут бить по нам, хотя, по словам морских офицеров, у французов должно было что-то быть, что добивает до нас. Ведь в своих попадут. Да и этих самых «своих» теперь спасать им нужно. Один линейный корабль из погони мы, считай, выключили.
– Догонят нас, то верно. Не уйти, но эдак лучше, нежели позор! – сказал Спиридонов и пошел по своим делам.
Мы шли, казалось, очень медленно, хотя офицеры, из тех отказников, что первоначально хотели смолчать и постоять в сторонке, говорили, что ход корабль набрал хороший. У меня же складывалось такое впечатление, что наш фрегат – на секундочку, лучший в русском флоте, построенный по новейшим французским технологиям – вот-вот развалится на части. Все скрипело, трещало, и порой нужно было орать во всю глотку, чтобы через весь этот треск до кого-то докричаться.
– Ваше благородие, так то еще не скрипит, на иных кораблях поболе будет, – с некоторым удивлением сказал мне сержант Кашин, когда я поделился с ним своими наблюдениями.
Один французский линейный корабль отправился-таки в погоню. Это был не флагман «Ахилл», другой, похожий, но корабль скоростной, и он постепенно нагонял нас. Впрочем, шансы вырваться оставались. Туман до конца так и не развеялся, можно было уйти в самую его гущу и оторваться. Вот только уже час погони, а французы не отставали.
Ну не говорить же как есть: «Да, мы обречены!». Думал всегда, что парусные фрегаты должны быть быстрее линейных кораблей. Оказывается, что это не правило.
– Кто ответить за это? Ви? – на палубу, под конвоем, все же вывели помощника капитана.
Француз сам попросился, мол, он готов управлять кораблем и уже не хочет сдаваться. Вот только смотрел он таким гоголем, что лучше бы его снова закрыть, чтобы не портить настроение.
Ладно, поладим. Все хотели отыграть обратно историю с бунтом, хотя бы частично. Вот и вызволили француза. Все же он на русской службе, а в армейской среде, как и во флоте, при поступлении на службу другому государству было принято этой державе и монарху служить верой и правдой.
Так что нередко бывало так, что несколько лет один офицер служит одному государству, воюя с другим. А после меняет место службы, и уже оказывается по другую сторону, всё так же честно сражаясь, только уже против своих вчерашних побратимов.
– Или вы, сударь, делом займетесь, или не трогайте лучше меня. Я решаю, что или кого сбросить за борт, чтобы облегчить фрегат, – без тени того, что шучу, сказал я.
Помощник капитана хмыкнул, зыркнул на меня, но не стал встревать в перепалку, наверное, гад, думает позже отыграться. Было бы это «позже»!
– Это линейный корабль «Флеро», – определил Григорий Андреевич Спиридов, когда я подошел к нему, стоявшему у правого борта, на корме.
Так, так. Это очень плохо. Нет, я не знал характеристик именно этого французского корабля, или того, кто на нем командует. Я вовсе мало теперь понимал, что происходит и почему наш фрегат, как мне казалось, идет зигзагами. Но вот тот факт, что уже можно рассмотреть название вражеского корабля, говорил не в нашу пользу. Французы нагоняли.
– Русские не сдаются! – сказал я.
– На корабле много немцев! – улыбнулся вымученной улыбкой будущий адмирал.
Впрочем, адмиралом он станет, только если нам удастся выбраться из передряги.
* * *
Балтийское море. Район Данцига
25 мая 1734 года
Канат уже был заведен под килем, и концы его были прикреплены к блокам на ноках нижнего рея. Купор Василий Лыков трясся от страха, понимая, что, скорее всего, проживает последние минуты своей жизни [купор – чин на корабле, который отвечает за состояние бочек для воды, продуктов, пороха, осуществляет ремонт бочек].
– За то, что попущением своим воду выдавали затхлую и команда животами маялась, купора Ваську Лыкова приговорить до килевания! – зачитывал приказ капитана боцман фрегата «Россия».
Все оглядывались, выискивали капитана Никласа Шторма, капитана фрегата, но его не было на исполнении наказания. Впервые не было. Обычно датский капитан на русской службе любил подобные зрелища. Иногда даже принимал деятельное участия.
– Братцы, так не дали же деньгу ни на лимон, ни на уксус, кабы воду я… – пытался оправдаться приговоренный, но тщетно.
На этом фрегате уже дело привычное – наказывать.
Лыков был привязан к канату, руки и ноги его также были связаны. На противоположном борту корабля уже стояли два человека, которые должны были тянуть канат.
– Начать! – также датчанин, как и капитан Шторм, выкрикнул капитан-лейтенант, знавший лишь несколько слов на русском языке.
Глаза Лыкова еще больше расширились, канат натянулся, и его швырнуло в море с реи. Василий успел набрать воздуха в легкие и уже даже надеялся на то, что сможет пережить одно килевание.
Он бы закричал, вот только в воде делать этого точно не нужно. Но боль была такой, что без крика пережить ее сложно. Прилипшие к днищу ракушки резали и кромсали тело невинного купора.
– Стой! – последовала команда, когда половина каната была уже перетащена на палубу.
С полминуты длилась пауза, когда последовала команда продолжать. Но Лыкову было уже все равно. Ему повезло, он все-таки открыл рот и быстро захлебнулся. Много ракушек было на фрегате, и тело купора, когда уже доставали его на палубу, казалось теперь просто куском мяса. Лучше смерть, чем мучения от стольких ран, да еще сдобренных соленой водой.
– В назидание! – выкрикнул еще одно знакомое слово датчанин, заместитель капитана на фрегате.
Никлас Шторм в тот момент, когда происходило килевание, пил бренди в своей капитанской каюте. У него вновь случился приступ. Избил ни за что ни про что матроса, стал дерганным и все никак не мог унять глаза, которые моргали втрое чаще, чем когда приступов не было.
– En, to, tre. Få alle på toppen [дат. раз, два, три. свистать всех наверх] – с бутылкой бренди капитан стал расхаживать по каюте.
Но помещение было столь мало, что счета хватало только до трех.
Капитан русского фрегата «Россия» ото всех здесь скрывал, что у него случаются приступы необъяснимой агрессии и даже порой галлюцинации. Датчанин на русской службе понимал, что как только о его состоянии будет известно в Адмиралтействе, то, несмотря на то, что в русском флоте не хватает морских офицеров, Шторма спишут на берег [в реальной истории Никлас Шторм был отстранен от командования большими кораблями по состоянию душевной болезни в 1737 году].
Шторм переживал, от чего и случился приступ, что не выполнил поставленную задачу. Капитан понимал: это его ошибка, это он неправильно разложил лоцию и отстал от фрегата «Митава», с которым должен был двигаться парой, занимаясь, в том числе, и разведкой. Но об этом Никлас Шторм предпочитал молчать, опасаясь того, что может быть списан с русского флота.
Ну а больше его теперь никуда и не примут. В Дании он и даром не нужен.
– Паруса! Я наблюдаю паруса! – закричал вперёдсмотрящий.
Капитан Шторм услышал это и весь было вздрогнул, намереваясь устремиться в бой. Но тут же на него накатила такая апатия, такое безразличие ко всему происходящему… Он сел на краешек своей маленькой кровати и просто смотрел в одну точку, не замечая висящую на стене картинку с изображением датского герба. Так чтимого датчанином… Если бы только у него была возможность закрепиться в датском флоте!..
После вспышки агрессии у Никласа Шторма чаще всего так и бывало – глухой ступор. И он может просидеть без движения, и почти не моргая, час, даже больше. Нет, он не испытывает теперь отвращения ко всему происходящему, он не намеренно игнорирует внешние раздражители. Всё это подразумевает хотя бы какие-то чувства, мысли. Капитан же словно разумом покидает своё тело.
– Господин Шторм, господин капитан! – пытался докричаться до датчанина приставленный к нему русский мичман, более-менее сносно владеющий датским.
Говорят, что капитан на корабле – это Бог, пускай и в ограниченном пространстве. Тогда получалось, что фрегат «Россия» временно Бог покинул.
– Что, снова? – в капитанскую каюту вошёл ундер-лейтенант Сопотов.
Вопрос оказался праздным. Дмитрий Андреевич Сопотов никогда не позволил бы себе зайти в капитанскую каюту, если бы не знал, что капитан даже не вспомнит, когда очнется, что к нему кто-то приходил. Нравы на фрегате были даже не жесткие, а жестокие. Корабельный палач работает на износ.
А сколько уже матросов и даже офицеров подверглись килеванию? На фрегате «Россия» это наказание всегда приводится в исполнение с задержкой, когда тянули провинившегося с паузами. Так что из десяти, может, только и двое выживали. Обращались в Адмиралтейство, говорили, что Шторм вне себе. Но… Арестовывали разве что тех, кто обращался. Видимого несоответствия с должностью у капитана Шторма обнаружено не было.
– Так и есть, ваше благородие, ушли в себя господин капитан, – отвечал мичман, в сожалении разведя руками.
– И что делать? – спросил сам себя Сопотов.
Все знали – когда Никлас Шторм был в сознании, то жесткой рукой карал всякого, кто усомнится в его компетенции. Да и относительно нормальное состояние датского бога на корабле пока ещё бывало чаще, чем эти приступы.
Так что чаще всего команда просто ждала, когда их капитан вновь обретёт рассудок. Не приведи Господь, если что-то важное случится за время, пока датчанин вне себя. Теперь же нужно было отринуть все страхи и действовать. Пробудившийся Никлас Шторм может одинаково осерчать и на действие, и на бездействие. Потому нужно решить, что является меньшим из зол.
– Мичман, обойдите всех офицеров. Обскажите всё, как есть! – сказал ундер-лейтенант.
Яков Иванович Сопотов прекрасно понимал, что терпеть до странности безучастного капитана как-то приходится во время переходов, но не тогда, когда ситуация внештатная, а возможен даже бой. Сопотов теперь горел желанием сразиться с супостатом. Он уже думал о том, что и килевание для него – не такая уж проблема. Офицер тренировался затаивать дыхание и преуспел в этом. Так что мог рассчитывать на выживание.
А сколько было разговоров во флоте о сражении при Гангуте? Ещё служило немало тех, кто принимал участие в том бою, который покрыл славой зарождающейся флот Петра Великого. Или о сражении у острова Эзель? И Сопотов хотел доказать, что и нынешнее поколение достойно великих побед.
Во флоте идеализировали военно-морские силы Петра, и всё больше ругали нынешнее состояние дел – но то так, во хмели. Кто же рискнет в здравом рассудке ругать императрицу? Тайная Концелярия не дремлет и занимается такими вот «крикунами».
– Господа, как третий в чине могу сказать, что мы не можем ничего предпринимать, – высказался лейтенант.
– Паруса фрегата «Митава», а мы уходим прочь, убегая от своего корабля, как от прокаженного! – возмущался Сопотов.
– Не смей поступать супротив воли моей! – разъярился лейтенант, третий человек на корабле.
За столом, но будто бы в сторонке, сидел капитан-лейтенант Кристиан Олсан, датчанин, которого капитан Шторм брал с собой на корабль, как помощника. Мало того, что Олсан не понимал, о чем идет речь, так как не знал русского языка, но здесь знали главное – он являлся всегда только исполнителем воли капитана и никогда не принимал решения. Вот и сейчас он решил просто молчать, даже отослал переводчика, чтобы и не вникать в то, о чем говорится. Придет в себя капитан, он и скажет, что и как делать.
– Это преступление! – настаивал Сопотов, решив идти до конца. – Я сам отдам приказ на сближение с союзным фрегатом.
– За «Митавой» следует французский линейный корабль. Может, и не один. Вступать в бой? Почить в сей баталии и отдать неприятелю наш фрегат? Мы должны передать вести командующему и соединиться со всем флотом, – настаивал лейтенант.
– Уйдите с дороги и дайте выполнить долг! – прорычал Сопотов.
– Я был против! – решил умыть руки лейтенант.
– Бах! – прогремело вдали.
– Они уже начали бой! Разворачивай! Тревогу на фрегате! – прокричал Сопотов.
* * *
– Чего они убегают от нас? – спросил я лейтенанта Воронина, одного из отказников.
Пусть в этом молодчике до конца совесть и не проснулась, но он решил выступать консультантом.
Жалкая позиция. Мол, если все хорошо, то это из-за моих советов. Ну а плохо… Так это был бунт на корабле, и я был вынужден под угрозой смерти… Эх, стыдоба. Нужно трясти русский флот, искать выходы из ущербной кадровой политики. Во флоте должны служить отчаянные люди, готовые на всё, решительные. Но не те, кто просто хотел бы отсидеться в теплом местечке.
Ведь это первый поход русского флота, считая с великих дел Петра Великого. А после смерти первого императора корабли разве что гнили в гаванях. И моряки привыкли, что хоть и без плаваний, а жалование худо-бедно, но платили.
– Верно ли понял, что нас настигают? Еще полчаса-час и придется давать бой? – спрашивал я.
– Уже подрывайте фрегат тогда, токмо лодке дайте уйти. Помирать ни за полушку не буду, – высказался лейтенант.
– Тогда пошел ты…
Я сплюнул в сердцах под ноги трусу.
– Дуэлировать со мной решили? – спросил с опаской лейтенант Воронин.
– Много чести для вас, – сказал я и направился на верхнюю палубу.
Если бы Воронин действительно хотел дуэлировать, то нашел бы повод. Я сказал более чем достаточно даже для двадцать первого века, чтобы в морду дать. А этот разве что взгляд отвёл. Так что и есть – трус.
На верхней палубе уже более надежно была прикреплена пушка, с учетом неудачного опыта. Вот на это орудие я и рассчитывал. Вражеский корабль все равно будет подходить к нам носом, где у линейного корабля противника нет пушек. Да и осадное орудие бьет куда как дальше, чем корабельная артиллерия. Значит, можно произвести три-четыре выстрела, пока враг не подойдет сильно близко, чтобы размочалить нас своим множеством орудий.
– Кашин, что там? Уже добьет? – спросил я, рассматривая в зрительную трубу врага.
– То неведомо, ваше благородие. Пущай подойдет еще чутка! – деловито всматриваясь в сторону погони, отвечал сержант. – Могу спросить, ваше благородие?
Я кивнул.
– А их благородия, господа морские офицеры, драки ужо не желают?
– Не все…
– Я с вами, ваше благородие. Арестуют, так чести своей не уроним. Мы же гвардия! – гордо сказал сержант Иван Кашин.
– И то верно! – усмехнулся я.
Уже через минут десять сержант подтвердил мои догадки, что противника можно было бить.
– Бей! – приказал я.
– Бах! – прогремело орудие, пуская в полет увесистое ядро.
Мы выигрывали в дальности еще и потому, что находились на верхней палубе, так что ядро, не задев врага, ушло в сторону и с перелетом.
– Заряжай! – выкрикнул я, а рядом материализовался Спиридонов.
– Дозвольте, господин унтер-лейтенант, мне наводить орудия. Морских канониров научают по-особому. Тут своя сноровка нужна, – попросился Григорий Андреевич.
Отказывать не было смысла. В моем отряде артиллеристов не было. Так, знали, как заряжать да в какую сторону стрелять.
– Бах! – прозвучал выстрел, и я увидел в подзорную трубу, как ядро устремилось к парусам вражеского вымпела.
– Есть! Паруса подбили. Было бы ядро каленым, так и сожгли бы. Но и так ход супостат потеряет, – обрадовался мичман.
– Фрегат «Россия» разворачивается! Носом к нам! – прокричал впередсмотрящий.
На нашем фрегате вновь началось ликование, как будто мы уже выиграли войну. Впрочем, два фрегата – не один, уже могут почти на равных бодаться с линейным кораблем.
– Бах! – в третий раз прозвучал от нас выстрел, одновременно выпустили ядра и три мортиры.
– Есть! Есть попадание! – выкрикнул я.
Ядро из моей пушки ударило по нижней палубе вражеского корабля. И, как видно, без людских потерь лягушатники не обошлись. Да, чтобы потопить такой большой корабль, как наш преследователь, нужно может пару десятков подобных попаданий. Но я рад был и этому, тем более, когда противник еще не имеет возможности отвечать.
– Француз разворачивается! «Россия» подходит к нам! – кричала уже вся команда на нашем фрегате, может, только за редким исключением.
Уже через час было получено приглашение на «Россию», причем с формулировкой «все причастные». Вот она, минута славы. Сейчас меня и других будут чествовать. Ну как же? Такое великое дело сделали. Фрегат «Митава» не только не сдался, но и вышел победителем из боя. А французского десанта полегло при неудачном для противника абордаже, так и под сотню, наверное.
Так что я спешно, как мог, привел себя в порядок, с трудом вспомнив куда я бросил такую ненужную вещь, свой парик, и в числе других, считая и Лаптева со Спиридоновым, отправился получать порцию похвалы.
* * *
Капитан Шторм «вернулся» в себя внезапно. Сознание рывком заняло свое место, а мозг начал работать. Датчанин пришел в ужас от того, что произошло. Война с Францией? Нет, то, что именно против французов действовал русский флот, есть факт. И против французов отправлялся флот. Но Шторм рассчитывал, что не придется воевать вовсе. Чего там… Все на это надеялись.
Датчанин, когда поступал на русскую службу, был уверен, что если и придется воевать, то против османов или персов. И был готов именно к этому. Но драться с Францией, у которой на данный момент один из сильнейших европейских флотов? Особенно после последней англо-голландской войны, когда обе стороны повыдергивали друг другу немало перьев?
Так что воевать Шторм не хотел вовсе.
– Hvem besluttede at angribe det franske skib? [датск. кто принял решение идти в атаку на французский корабль?] – кричал разъяренный капитан Никлас Шторм.
– Ундер-лейтенант Сопотов арестован, ваше высокоблагородие! – быстро отчитался лейтенант, как только мичман перевел суть криков датского капитана.
Последовала еще череда ругательств и угроз со стороны капитана, мичман не все уловил, а потому перевел приблизительно:
– Они требуют узнать, почему «Митава» воевала, и лично поговорить с капитаном Пьером Дефремери.
Через полчаса перекличек с фрегатом «Митава» стало понятно, что произошло. А еще через полчаса некоторые офицеры с «Митавы» уже были на фрегате «Россия». Их вызвал Никлас Шторм с такой формулировкой, что можно было подумать и о награждении.
– Арестовать. Запереть. Бить! – приказал датский капитан, едва четверо офицеров переправились с «Митавы» на «Россию».
И эти слова, как и другие – «казнь» и «высечь» – Шторм знал по-русски и даже произносил без акцента. Бить офицеров? Не должно быть такого приказа. Не положено это на флоте. Но гвардейский унтер-лейтенант с «Митавы» смотрел на Никласа Шторма столь вызывающе, без пиетета, что датчанин вновь стал впадать в неистовство. Раньше по два приступа за день с ним еще не водилось. И, чувствуя это, Шторм был готов даже и казнить бунтарей [По морским законам, какими бы мотивами ни руководствовались те, кто ослушался приказа капитана, они должны быть осуждены и наказаны (вплоть до казни)].
Глава 5
Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной.
Лао-Цзы
Балтийское море. Район Данцига
27 мая 1734 года
Адмирал Гордон читал присланную от капитана Никласа Шторма реляцию. Читал и был в замешательстве – как именно со всем этим поступить? «Судить нельзя помиловать» – вот над чем размышлял адмирал, не понимая, где нужно расставить знаки препинания. Впрочем, Гордон очень скверно писал по-русски, почти этого и не делал. Да и Михайло Ломоносов еще не издал свою «Грамматику», так что специалиста по запятым в империи не было.
Более всего Гордон думал о том, чтобы не оказаться будь в каких интригах при дворе. Финансирование на флот в последнее время идет справно. Из более чем миллиона рублей в год, что тратится на поддержание флота, как и на строительство новых кораблей, всегда можно чуточку отщипнуть, на том и жить. А тут еще флот вышел в море… Дойти бы хоть куда.
Так что не хотелось огласки Томасу Гордону, тишины и молитвы он желал. И не боя, а лишь просил у Бога, дабы не потерять флот при переходах. А то, что случилось с фрегатом Митава, нельзя утаить, государыня точно узнает.
– Вызовите ко мне контр-адмирала Синявина! – выкрикнул из своей каюты адмирал Томас Гордон.
Шотландец улыбнулся своим мыслям. Принятое решение показалось элегантным. Правда, в голову пришло сразу же сравнение с Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи, который допустил распятие Христа. Этот римский деятель решил «умыть руки» и переложить груз ответственности на фарисеев. Так и Гордон перекладывал груз ответственности за принятие решения на контр-адмирала Синявина.
– Тот гвардеец и младшие чины фрегата «Митава» – не Иисус Христос с апостолами, – сам себе сказал Томас Гордон, окончательно убедившись в своей правоте.
В конце концов можно ведь перепоручить принятие решение и армейским, это если выставлять того гвардейца, что бунт возглавил за главного виновника.
– Сэмюэль! – выкрикнул Гордон своего секретаря.
В каюту вошёл молодой человек в идеальном красном платье и в сером парике.
– Синявина призови ко мне! – распорядился командующий русским флотом.
– Сэр, контр-адмирал Синявин пребывает на своём корабле «Святой Александр», – доложил личный секретарь адмирала Сэмюэль Прайд.
– Прайд, разве я спрашивал тебя, где находится Синявин? Я приказал ему передать, чтобы прибыл! – Гордон наставительно поднял указательный палец кверху. – Письмо от моих дальних родственников из Шотландии с мольбой принять тебя на службу не предоставляет индульгенцию на какие бы то ни было ошибки!
– Прошу, простите меня, сэр, – сказал секретарь и спешно отправился самолично доставить послание контр-адмиралу Науму Акимовичу Синявину.
Гордон улыбнулся. Ему откровенно нравилось издеваться над молодым человеком, не так давно, только два года назад прибывшим на русскую службу. Если бы Сэмюэль не был исполнительным секретарём, то никакие письма от родственников, которых Гордон и не помнил вовсе, не помогли бы молодому человеку занять сразу же перспективное место у адмирала русского флота.
– Вот, и я не буду палачом, – проговорил сам себе Томас Гордон и вновь уставился на разложенные на столе карты. – Ссориться с Бироном? Нет! Увольте. Если я казню зачинщика-гвардейца, что герцог будет вне себя от злости. Да и флотские не поймут, если гвардейца отпустить, а морских офицеров казнить. И казнь… Императрица может и не подписать указ. Русские не сдаются! Экий плут, прикрыл свое злодеяние красными словами!
Адмирал Гордон прекрасно понимал, что судить по морским непреложным законам произошедшее на фрегате «Митава» – это навлечь на себя лишние проблемы. Да, капитан на корабле – царь и Бог. Его приказы обязательны к исполнению, хоть бы капитан и приказал офицеру убить себя.
С другой же стороны, приказ капитана фрегата Пьера Дефремери можно счесть и преступным. Ведь ещё не бывало такого, чтобы русский корабль сдавался. Это же позор не только на корабль и его команду, но и на Гордона, как командующего русским флотом на Балтике. Но и не поймут же капитаны, если не карать за бунт.
Мало того, адмирал имел счастье уже дважды лицезреть Её Величество императрицу Анну Иоанновну. Мало кто решится предугадать реакцию этой женщины. Только самые приближённые к императрице вельможи могут влиять на государыню. Если она скажет, что команда бунтовщиков действовала правильно, то найдутся те люди, которые посоветуют Гордону порвать и выкинуть Морской устав, даже если этот документ написан при участии самого Петра Великого.
– Вот и пусть Синявин сам решает, что делать с этими русскими. Ни один иностранец на русской службе в том бунте не участвовал. И они говорят о засилье немцев? – бурчал себе под нос адмирал, наливая разбавленного водой вина.
Прислушавшись к крикам боцмана, удовлетворенно хмыкнув, Гордон всмотрелся в карту, пытаясь сформировать какое-либо решение по действию флота. Он всем своим шотландским предчувствием понимал, что русский флот, в том состоянии, в котором он нынче пребывает, тягаться с французской эскадрой не может.
Адмирал поймал себя на мысли, что-то же самое он думал и предчувствовал перед Гангутским сражением, да и перед сражением у Эзеля тоже. Однако во всех случаях русский флот Петра Великого побеждал.
– Есть в русских что-то непредсказуемое, что не поддается измышлению. Тем они и берут… Тем мы берем… Или они? – проговорив вслух мысль, Гордон на некоторое время задумался, насколько он сам русский, уже так давно служа России.
И всё равно терять корабли, которые не факт, что скоро отстроятся снова, – для Гордона смерти подобно. Он перестанет быть нужным России, потеряет и положение, и достаток. В Англии устроиться так, как и в Московии, будет невозможно.
– Головин, этот морской министр, доложит царице, если я буду стоять у Пилау, – размышлял вслух Гордон. – Всё равно придётся идти к Данцигу.
Томас еще раз посмотрел на карту, выбирая южный путь к Данцигу, одновременно размышляя, что еще придумать, чтобы только не спешить к городу.
* * *
Контр-адмирал Наум Акимович Синявин, если не считать главу морского ведомства Николая Федоровича Головина, был единственным русским в высоком морском чине. Калмыков, если только еще…
И пусть явного противостояния между русской и немецкой партией во флоте и не было, соперничество всё равно оставалось. И Синявину после смерти Апраксина приходилось доказывать, что и русские могут быть флотоводцами.
Гордон и Синявин недолюбливали друг друга. Томас Гордон был больше тихим, уже усталым от активной жизни человеком. Любителем поговорить с сами собой А вот Наум Акимович с годами не терял живость.
Синявин будто стремился еще что-то успеть, словно забыл дописать важную строку в книге своей жизни. Да и не нравилось ему то, что командующий всеми силами пытается затягивать переходы. Вот зачем было вызывать его, Синявина, на разговор? Ведь в целом это не менее трех часов убитых напрочь.
– Вот же окаём басурманский! – усмехнулся Синявин, когда уже плыл на лодке, после посещения командующего Томаса Гордона.
Восемь матросов споро работали вёслами, морские брызги ударяли в лицо контр-адмирала, и он морщился. Синявин злился на то, что адмирал Гордон мог бы посыльным передать свой приказ, а не дёргать с места контр-адмирала.
– Вот Наум Акьимовьч, берьи сие дело до себя! Поступай по совестьи! – сказал Гордон и махнул своему помощнику, чтобы тот объяснил суть дела.
Самюэль не так давно в России, но был удивительно упорным юношей, а еще и со светлой головой. Он за полгода почти что освоил русский язык. Да, акцент еще даже хуже, чем у Гордона, но… Всего полгода изучения! Может потому и разговаривает молодой шотландец на русском вполне сносно, что начинает все чаще это говорить за командующего.
Наум Акимович Синявин слушал внимательно. А после и бумаги помял в руках. Обладая природной смекалкой, будучи, может, и не высоко образованным человеком, но точно не обделённым умом, контр-адмирал Синявин прекрасно понял, что Гордон не решился принимать сам это крайне непростое решение. Теперь адмирал может выйти сухим из воды при любом решении Синявина.
– Раберьитесь! – после того, как секретарь Прайд объяснил суть дела, потребовал адмирал Гордон.
– Зачинщик гвардеец и он, как оказалось, в старшем чине, нежели иные бунтовщики? А где были иные офицеры? – с улыбкой переспросил Синявин.
– Так и есть! Сами разбьярьете… – подтвердил адмирал, так же догадавшись, куда именно клонит контр-адмирал.
Синявин поспешил на свой корабль. Ему было некомфортно находится рядом с адмиралом. Была все же зависть у бывшего мужика, Наума Акимовича, показавшего один из значимых карьерных взлетов, если не считать Меньшикова. Завидовал Синявин Гордону, был грешок.
– Ха! Зачинщик бунта – гвардеец, отчего же я стану решать участь бунтовщиков? – высказал вслух мысль контр-адмирал.
Волны швыряли лодку с контр-адмиралом, но Синявин принципиально не собирался садиться, показывая, какой он морской волк. Удержаться получилось, но был на грани того, чтобы свалиться в пучину морскую.
– Простите, ваше превосходительство, вы нешта повелели? – спросил денщик Синявина.
– Молчи, Потапка, нрав у меня нынче суровый – в море скину, так и знай! – пробурчал контр-адмирал на своего денщика Потапа. – А, нет… плыви до фрегата «России» да разузнай там все, как и что. Бунтовщиков на наш корабль привезешь, токмо не сразу.
– Будет сделано в наилучшем выгляде, ваше превосходительство! – радостно отрапортовал Потап, бывший в чине лейтенанта.
Хотя… какой из Потапа лейтенант! Но Синявину такой денщик удобен. Простой, исполнительный, въедливый, изворотливый, как змея. Казалось, что мужик мужиком, безграмотный и без царя в голове. Но что ни поручи – вывернется, и сделает. А ещё, что для Синявина, любителя поесть, было важным, Потап, словно баба-стряпуха, пироги умел печь, а рыбу да мясо запекал так, что и на императорском столе такой смак не встретишь.
* * *
Выражение «как сельди в бочке» должно быть понятно селёдке, которую заключили в деревянную тару. А для человека я бы, наверное, ввёл какое-нибудь другое красочное описание, определяющее тесноту. Подошло бы… «как на гауптвахте русского фрегата».
Помещение, в котором приходилось находиться трём зачинщикам бунта – мне, Лаптеву и Спиридову, а еще и лейтенанту фрегата «Россия» Сопотову – представляло собой огороженное пространство меньше чем полутора метров в длину и ещё меньше в ширину. Мало того, так здесь ещё стояли какие-то ящики до потолка. Так что нам троим ничего не оставалось, как-либо стоять, либо по очереди сидеть. Спать одновременно хотя бы двоим не получалось.
И я молчу про необходимость справлять нужду Впервые думаю, что даже хорошо, когда кормят минимально. Если такое заточение продлится долго, так могут и атрофироваться мышцы. А главное, как бы с ума не сойти. И этот запах… отвык я от подобных ароматов.
– Александр Лукич, – обратился ко мне Спиридов. – Ваша очередь сидеть.
– Благодарю, – сказал я, присаживаясь и приподнимая ноги на стену, чтобы кровь немного отошла от усталых нижних конечностей.
– Как думаете, Харитон Прокофьевич, казнят нас или под килем пропустят? – без намёка на страх спрашивал Спиридов у Лаптева.
Он не опасался, он именно что осведомился – мол, вы какой вариант считаете наиболее вероятным.
– Знамо быть, что под килем. Но три раза, не меньше, кабы наверняка убить. Так что правы вы, Григорий Андреевич, дважды правы: казнят казнью – килеванием, – с какой-то неестественной ухмылкой, не означающей радость, но и без видимой грусти ответил Лаптев.
– Господа не извольте беспокоится. Нас убьют! – емко и не без доли юмора заметил лейтенант Сопотов.
Мы рассмеялись. Тут не было паникеров и трусов. Рядом, даже ближе, чем можно представить, были сильные люди Так шутит человек, обречённый, но не сломленный. Тот, кто ждёт неминуемой смерти, насмехаясь над несуразностью вида старухи с косой.
Я не знал о судьбе своих солдат, сержанта Кашина. Капитан Шторм имеет, судя по всему, разногласия со своей головой, но все же понял, что гвардию дергать лишний раз не стоит. Кашин исполнял приказ, значит, виновен только тот, кто приказ отдавал. Всё логично. Думаю, что меня бы даже могли отпустить. Ведь и я приказ выполнял. Должен был доставить осадные орудия? Так не доставил, а почти что сохранил вверенное мне важное имущество.
– Господа, я понимаю, что мои слова прозвучат даже где-то и оскорбительно, но я готов взять на себя всю вину, – сказал я. – Это же я принял на себя командование боем, и я отдал приказ солдатам, что и послужило началом вооружённого сопротивления приказу капитана.
– Вину на одного себя взять хотите? Не хотите оскорбить – вот и не возводите хулу на нас. Чай, не трусы, и за поступки свои ответ держать намерены! – за себя и Спиридонова ответил Лаптев.
На самом деле, я думал о том, что эти двое, пусть трое, которые сейчас со мной томятся в трюме фрегата, на данный момент для России намного важнее, чем я. Нет, я не принижаю свои возможности. Но как Россия может лишиться будущего адмирала Спиридова? А будущего великого исследователя русского Севера – Лаптева? Сопотова я не знаю, но есть убеждение, что и он, особенно при дефиците кадров, нужен России. Их судьбы во многом предопределены, моя же жизнь ломает устоявшуюся историю.
И потом, есть такое правило: не навреди! Изменять историю своими действиями я, наверное, могу. Но вредить России – никогда. Так что очень осторожно нужно подходить к выбору пути.
– Я, господа, ни о чём не сожалею! – произнёс Спиридонов.
Лаптев на его слова лишь только кивнул, соглашаясь. Поспешил согласиться и я. Согласительно хмыкнул Сопотов. Лучше уж смерть, чем если бы мы сдали фрегат французам.
И всё равно, я считал, что наше заточение – это своего рода задача со звёздочкой для командования русским флотом. Одно дело, если бы мы учинили бунт по какой-то низкой причине, например по недовольству питанием. Или же, напротив, желали сдаться врагу, вопреки решению капитана корабля.
Но нет. Мы нарушили решение капитана корабля, потому что оно было преступным. И ошибочность этого решения уже очевидна: фрегат «Митава» цел, он в составе русского флота, команда пусть и лишилась некоторых людей, но в целом осталась жива и вышла с победой после столкновения с французами.
– Как думаете, господа, а сколько дней мы уже здесь находимся? – спросил Спиридонов.
– Пошёл второй день, – ответил я.
– Словно что и к неделе катят часы пребывания тут, – высказался Лаптев словно в поэтической манере.
И всё время, что мы были заперты в этом так называемом карцере, я прислушивался к звукам. Корабельная рында была пусть и плохо, но слышна даже нам. Я расспросил своих коллег по заточению, сколько раз на корабле кормят команду и когда должен быть утренний подъём.
Хотя действительно ощущалось так, как будто мы здесь уже чуть ли не неделю. А всего лишь прошло часов тридцать.
– Эй, болезные, благородия – откушать не желаете? – послышалось за стеной.
Мы не отвечали. У каждого накопилось презрение, если даже не ненависть к тому матросу, что приносил нам изредка еду, чуть чаще – воду. Я даже дал себе зарок, что когда выйду отсюда, то почищу свой кулак о зубы этого весельчака.
Голод не тетка. И когда в окошко передали еду, мы жадно стали её поедать. Тому человеку, которого не мучил истинный голод, не понять, что порой и чуть протухшее мясо, плохо разваренная овсяная каша и два сухаря могут быть столь вкусными.
Главное в этом деле – не нюхать. Впрочем, запахи внутри нашего карцера были ещё те… Перебивали вонь от еды. Ведро, в которое мы вынуждены были справлять свою нужду, ещё ни разу не выносили.
– Не сдается наш грозный «Митава», пощады к себе не желает… – в который раз напевал я песню, лишь немного переделанную под существующие реалии.
Не мог сдержаться – уж больно сравнение напрашивалось. Если бы наш фрегат всё-таки французы нагнали и мы не стали бы биться, то я настаивал бы на потоплении корабля. Даже если бы мне пришлось перессориться со всеми. Так что судьба крейсера «Варяг» могла бы повториться и сейчас.
– Господа, если нас будут здесь долго держать, то в какой-то момент мы с вами завалимся друг на друга – без чувств. Ведь, согласитесь, ноги, руки… Утомились мы. Поэтому предлагаю делать вот так… – после того как мы съели еду и отдали обратно деревянные тарелки, я решил, что нужно бы размяться.
Тут, конечно, не размахнёшься, потому единственный способ, как можно провести разминку – это напрягать мышцы. А ещё можно прислоняться к стене, отжиматься от неё, когда сидишь, обязательно поднимать ноги, прижимать колени к груди. Главное, чтобы не происходил отёк мышц. Да и холодно было изрядно, поэтому таким образом мы могли бы хоть немного, но согреться.
Прошло ещё не менее пяти часов. Мы уже мало разговаривали между собой. Хотя как раз-таки мне этих разговоров более всего хотелось. Новое время для меня, новая жизнь. Я молод и даже бодр, вопреки положению. Это, может, мои сокамерники считают, что я такой жизнерадостный напоказ. Нет, я радуюсь тому, что мне предоставлена возможность прожить ещё одну жизнь.
Да, безусловно, мне жаль того, что я покинул жизнь прошлую. Не себя, старика, который уже чуть ходил, жаль. Всё же я расстался с семьёй. Но были бы маленькие дети, неустроенные – а так… Им есть на кого опереться, да и сами твёрдо стоят на ногах. Моё племя!
Жизнь – она сама по себе величайшая ценность. Может быть, чуть менее ценная, чем честь и достоинство. Но ценная. И это богатство я получил. До конца так и непонятно – за что, но дар я принимаю.
– Господин унтер-лейтенант, вас просят на выход! – уже предельно вежливым голосом произнёс тот матрос, который так и норовил над нами поиздеваться, принося плошки.
– Господа, что бы ни произошло, я был рад с вами служить. И не забуду вас – честных русских офицеров! – произнёс я, выходя из заточения.
Промелькнула мысль, что теперь, если немного потесниться, то оставшиеся трое сокамерников могли бы поместиться и присесть одновременно, может, даже и немного поспать.
– Хе! – на выдохе, без замаха я пробил тюремщику в печень. Не настолько сильно, чтобы уложить его, но чувствительно, дабы впредь был поуважительнее. – Получай, пустозвон!
