Вселенная Достоевского. Книги, которые вдохновляли великого мыслителя
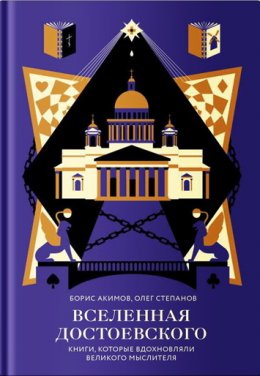
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
Серия «Русское пространство-2062»
© ООО ТД «Никея», 2025
© АНО Центр «Никея», 2025
© Акимов Б.А., Степанов О.В., 2025
В книге сохранены точность и полнота информации по цитируемой литературе, предоставленные издательству авторами. Частные мнения авторов и их респондентов могут не совпадать с позицией редакции.
Введение
О чем эта книга?
Достоевский – величайший русский мыслитель. Он символ русской литературы, наполненной особой мыслью. Это та литература, которая в России была вместо философии – если именно за философией видеть фундаментальную роль осмысления самого бытия. У нас хороший писатель – всегда философ. А величайший писатель – и величайший философ.
В русской истории XX и XXI века не было такого периода, чтобы мы не восхищались гением Достоевского, который, кажется, предвидел все. И уже случившиеся, и, видимо, все то, что нас только ждет.
Меня зовут Борис Акимов, я один из основателей проекта «Россия 2062», мы называем наш проект «практической утопией», а 2062 – год, когда России исполнится 1200 лет. Работая над образами и стратегиями будущего, мы всегда опираемся на традицию русской мысли. Именно так и родилась наша совместная с издательством «Никея» идея выпустить серию книг «Русское пространство 2062», частью которой является и «Вселенная Достоевского».
Вместе с философом и специалистом по Достоевскому Никитой Сюндюковым мы выбрали несколько основных текстов, которые сформировали великого писателя именно как мыслителя. Это Николай Данилевский и его «Россия и Европа», курс Владимира Соловьева «Чтения о Богочеловечестве», несколько текстов Алексея Хомякова, «Слова подвижнические» Исаака Сирина, «Возлюбим покаяние» Тихона Задонского и апокриф «Хождение Богородицы по мукам». Все эти тексты мы приводим в значительно сокращенном варианте.
Кроме того, в книгу вошли наши с Никитой Сюндюковым тематические беседы и статья Никиты о споре Достоевского и Соловьева.
Цель книги – показать основы того интеллектуального и духовного контекста, который сформировал гениального русского писателя. И через вневременную актуальность самого Достоевского «воскресить» в пространстве настоящего и будущего важнейшие для писателя тексты.
Достоевский – самый русский писатель
Акимов – Сюндюков. Беседа первая
Борис Акимов: Почему именно Достоевский? Если спросить: «Кто, по-вашему, главный мыслитель России, кто русского человека осмыслял больше всего, свою жизнь положил на это?», наверное, большинство людей скажет: «Достоевский».
Никита Сюндюков: Мне кажется, в разных культурах Достоевский воспринимается в разных, что ли, аспектах. Например, когда западный человек говорит о загадочной русской душе – это стереотип, который мы и сами переняли, – он прежде всего Достоевского вспоминает с теми треволнениями, противоречиями, сложностями, безднами, которые обнаруживают в себе его герои.
Борис Акимов: Солоневич в «Народной монархии» тоже писал о том, что когда немцы входили на территорию Советской России в ходе Великой Отечественной войны, они считали, что знают хорошо Россию, потому что читали «Братьев Карамазовых», «Преступление и наказание». И русские люди – это такие, которые там у Достоевского встречаются. И поэтому они смогут быстро победить, овладеть народом, потому что он такой: парадоксальный, странный. Не такой, который проявляет волю и может маршировать победоносно.
А когда столкнулись с тем уровнем сопротивления и волей к победе, это для них был шок. Потому что они считали, что типичный русский – это, условно говоря, Раскольников.
Никита Сюндкжов: Я думаю, да, здесь немножко есть сбой оптики. Нам трудно увидеть самих себя, но мы все равно остаемся самими собой. А немцам, которые видят вроде как внешнее выражение нас в книгах Достоевского, – они внутреннюю сторону этого внешнего видеть не могут. Если для нас, по Достоевскому, некоторое бессилие и эта чрезмерная рефлексивность, самопоедание может обернуться силой, реальной силой, то есть когда, например, мы чувствуем, что все пропало, только тогда и мобилизуется наш героизм, то для немца бессилие значит бессилие. Рефлексия раскольниковская значит бездействие. Не может бездействие вести к действию.
А для Достоевского, например, сила русского человека именно в покаянии. Что это значит – каяться? Признать себя бесконечно малым перед бесконечно большим. Только тогда ты обнаружишь свою подлинную силу.
Достоевский ближе всего подошел к сущности русской души, к мистике русской души. Если бы мы его самого спросили, почему это так, он бы ответил вполне однозначно: «Потому что я по-настоящему встретил русский народ». А встретил он его на каторге.
Достоевский до каторги – это юноша-социалист, увлеченный идеями Фурье, Сен-Симона, всеобщим равенством, благоденствием, зараженный утопическим миросозерцанием.
А затем, уже рефлексируя над своим каторжным опытом в «Записках из Мертвого дома», Достоевский говорит, что он там умер и воскрес, обрел новую жизнь, новый шанс. И это произошло именно благодаря знакомству с русским народом. Оно дало ему понять, что социализм – выдумка, пшик, мечтательство. А реально русский народ совершенно иной. Он не хочет равенства. Равенство для него не тождественно, не равно справедливости. Русский народ хочет справедливости, но равенство ему не нужно.
И вот как Достоевский это понял: каторжане, даже разделяя с ним общий быт и труд, все равно не воспринимали его как своего. Между ними пролегала очень четкая, пускай и невидимая, грань. Каторжане всегда стремились ему как-то услужить. Парадоксально. Знаменитая сцена в бане, где каторжане Достоевского сразу пропускают на престижный верхний ряд, хотя с чего, с какого права? С другой стороны, они никогда не пускали его в свои внутренние дела. Они чувствовали, что он иной.
Много таких откровений у Достоевского происходит именно благодаря – он постоянно это подчеркивает – знакомству с русским народом, и уже после каторги, где он видит русский народ в его полноте. Достоевский считает, что именно в страдающих людях, оступившихся, ярче всего проявляется русское начало.
Борис Акимов: Есть такое ощущение, что вся великая русская культура XIX и XX века, литература в том числе, родилась в результате национальной рефлексии. Дворянство к концу XVIII века осознало, что 95 % людей думают по-русски, разговаривают по-русски, носят одни одежды и едят одну еду, а они, 5 % населения, говорят, думают на французском, одеваются иначе, едят другую еду. То есть вроде бы одна нация, один народ, живем на одной территории, называем себя русскими, но мы совершенно разные. И это стремление осознать, отрефлексировать и, наверное, преодолеть порождает все то, что обычно называется русской классической литературой.
Парадокс Достоевского и вообще парадокс русской культуры: с одной стороны, это продукт рефлексии, порожденный расколом, но в результате ведущий к чему-то позитивному, созидательному. Достоевский и возможен только потому, что территория социально-культурная, в которой он рос и формировался, была драматичная, небезопасная, была порождением глубокого раскола.
Никита Сюндюков: Я думаю, что ценность Достоевского в отношении того, о чем вы говорите, еще и в том, что он не торопится с конкретными политическими рецептами. «Сказанное слово – серебряное, а несказанное – золотое». Он стремится сохранить это свое несказанное слово. Поэтому он предлагает не конкретные программы политических реформ, а, скорее, задуматься о природе человека на метафизическом уровне.
У него есть произведение «Золотой век в кармане», в котором сказано вообще все о том, что надо делать человеку. Достоевский обозревает бал, сначала детский, и видит, что дети очень хороши и добры по природе своей. Такой руссоистский взгляд: человек от создания хороший, только цивилизация его портит. Потом он смотрит на взрослый бал, где люди уже цивилизованные, и видит, что там все отвратительны. И рецепт, который он предлагает, – это вспомнить, что мы все хороши. Что все бесконечные конвенции, приличия, согласия, компромиссы с совестью – это все наносное и может быть снесено в один миг. Мы в один миг можем вернуться в свое детство. В золотой век.
Это не конкретная политическая программа, а в некоторой степени мечта. Но такая, которая, по Достоевскому, несет себе гораздо больший динамический заряд изменений, нежели любые конкретные политические манифестации, всю тлетворность которых мы видим на примере «Бесов».
Достоевский говорил: «Послушайте, как бытует русский народ. Услышьте его, не говорите за него.
Вы увидите в нем стремление к той самой всемирной отзывчивости». А что такое всемирная отзывчивость? Это принятие сложности мира, того, что люди, исходя из своего происхождения, из своей среды, могут смотреть на реальность совершенно по-разному и по-разному представлять свое место в ней. Такой платонический, что ли, взгляд, когда справедливость – не равенство. Справедливость – это когда каждый человек занимает свое твердо определенное и освященное традицией место.
Конечный идеал, который провозглашает Достоевский, – идеал русского социализма, реализуемый в Церкви. Он не имеет ничего общего с тем позитивистски-материалистическим социализмом, который требует просто всеобщей материальной уравниловки и исходит из одного-единственного принципа: все хотят есть, и все хотят есть одинаково.
А что такое Русская Церковь? Недавно читал статью католического автора, который рассуждает о понятии соборности. Для него соборность – это, прежде всего, демократия. А в сочинениях Хомякова критики иерархии мы не увидим. Да, он говорит, что Церковь не авторитет и Христос не авторитет, но не потому, что у каждого должно быть свое мнение на тот или иной счет. И не потому, что отрицается учительство и послушание. А потому, что Церковь и Христос есть некоторое чаяние, исходящее изнутри человека. Христос не авторитет не потому, что Он не важен для человека, не потому, что Его никто не слушает, а потому, что Он отвечает самым внутренним стремлениям нашей души.
Христос – ответ на все наши стремления, с которыми мы свободно соглашаемся. И в этом отношении Церковь, по Достоевскому, и русский социализм – это платоническая структура, где каждый занимает строго отведенное ему в богочеловеческом организме место.
Борис Акимов: Кроме каторги, я не припомню, чтобы у него были какие-то попытки пойти к народу и что-то послушать.
Никита Сюндюков: Достоевский часто рефлексировал по поводу своего детства, в котором тоже участвовали крепостные. Есть небольшой рассказ, как маленький Федя встретился с мужиком Мареем, тот увидел, что мальчик испугался волка, прижал его к себе. И Федя почувствовал, что Марей проявил почти материнскую заботу о нем, и что крестьянство в некотором смысле относится к дворянству как к детям, о которых нужно заботиться.
Борис Акимов: С другой стороны, принято считать, что это дворяне должны заботиться о крестьянах, они как отцы.
Никита Сюндюков: Да! То есть здесь истинно семейные отношения, при этом никто не выпячивает эту свою заботу. Это по-настоящему органические отношения. Дворяне должны заботиться о своих крепостных крестьянах, как о детях, и помещик – это батюшка, и царь – батюшка. Но при этом и у крестьян есть такое нежное, материнское отношение к своим помещикам. Мы в русской литературе постоянно это видим, когда какой-нибудь мужик, приставленный к молодому барину, заботится о нем практически как о своем собственном ребенке. При этом во всем ему послушен и почитает его безусловный авторитет. Тут очень тонкие социальные взаимосвязи.
Когда мы смотрим внешним взглядом, нам кажется – вот, крепостной, его барин замучил, лишил всякой свободы, он тиран над ним. Но в живой жизни русского крестьянства, русского дворянства – говорит Достоевский – совсем не так.
Борис Акимов: Есть ли способ жить по Достоевскому? Я считаю, что Достоевский – это главный мыслитель России, значит, он ее осмыслил. Я хочу это осмысление понять и применить конкретно на свою жизнь и построить ее по Достоевскому.
Никита Сюндюков: У Достоевского раннего, еще до каторги, возникает образ мечтателя. Человека, оторванного от реального дела. К сожалению, русский быт, городской прежде всего, ввиду особенностей госуправления, которые возникли после подавления декабристского восстания, бюрократизированный, чиновничий, – не поощряет никакую гражданскую инициативу. Гражданское своеволие вводится в очень узкие рамки.
И поэтому русская душа, по природе своей стремящаяся к деятельности, ввиду отсутствия реальной возможности перенаправляет свою энергию в мечтательство. Может быть, из-за этой чрезмерной бюрократизированности государственного устройства. А может быть, потому, что слишком амбициозные мечты у русского человека и их достаточно трудно ввести в реальную практику. Получается такой Обломов, который лежит на диване, спорит со Штольцем.
Достоевский часто говорит о том, что русскому человеку нужно дело, а дело не получается, получается одна мечтательность, одни грезы. Поэтому от этой темы писатель несколько отходит уже после каторги. Хотя и в Раскольникове мы слышим отзвуки – он тоже мечтатель, который пытается мечту свою в дело реализовать.
Вспоминается учительский мотив Достоевского в «Сне смешного человека», где человек, увидев идеальную реальность, утопию, рай, возвращается на землю и начинает этот рай проповедовать. В конце оговаривается, что «я знаю, что это несбыточно, что это мечта, греза, неправда, а все-таки я буду дальше проповедовать».
Здесь Достоевский возвращается к своему юношескому романтизму, но уже с пониманием, что, может быть, это мечтательство и есть сама реальность. Поэтому не надо его стесняться, боясь, что другие люди посмеются. Надо смело идти, проповедовать эту мечту вокруг, и тогда она вдруг может обернуться действительностью. Эта сильная личность, которая начинает творить вокруг себя, – она, конечно, не считает себя высшей личностью, как Раскольников, она не ставит себя выше других людей, но она понимает свою невероятную ответственность за то, что ее окружает, и своим творческим усилием то, что другим людям кажется – «да пустое, столько людей до тебя делали, ни у кого не получалось, мечтательство, глупость, греза», – он все равно своим упорством и энергией верит. И люди вокруг начинают к этому тянуться, втягиваться в орбиту его мечты, которая, постепенно приращивая к себе все большую и большую активность, становится реальностью.
Этот трагический разрыв между мечтой и реальностью, который у раннего Достоевского, скорее, сказывался в бесплодии, запирании себя комнатке и мечтании там, у позднего Достоевского начинает претворяться в реальное дело сильных личностей, которые энергией своей мечты начинают творить реальность, творить действительность.
Глава первая
Достоевский и геополитическое
Николай Данилевский
«Россия и Европа»
Фрагменты
Главы книги публиковались в 1869 году в журнале «Заря». Откликаясь на содержание первых глав книги, Достоевский выражал надежду, что в будущем труд Данилевского станет «настольной книгой для всех русских надолго».
«Она до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями… Какое же радостное изумление мое, когда встречаю теперь почти то же самое, что я жаждал осуществить в будущем, – уже осуществленным – стройно, гармонически, с необыкновенной силой логики!» (из письма к Н. Страхову от 18 (30) марта 1869 г.).
В наше издание помещена последняя глава книги Данилевского, в которой автор выражает свои надежды на будущность славянского культурно-цивилизационного типа.
В библиотеке Достоевского хранился следующий экземпляр: Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к Германо-Романскому. – Изд. испр. и доп. – СПб.: Т-во «Обществ, польза», 1871.
Глава XVII
Славянский культурно-исторический тип
Обращаюсь теперь к миру славянскому, и преимущественно к России как единственной независимой представительнице его, с тем, чтобы рассмотреть результаты и задатки еще начинающейся только его культурно-исторической жизни, с четырех принятых точек зрения: религии, культуры, политики и общественно-экономического строя, дабы таким образом уяснить, хотя бы в самых общих чертах, чего вправе мы ожидать и надеяться от славянского культурно-исторического типа, в чем может заключаться особая славянская цивилизация, если она пойдет по пути самобытного развития?
Религия составляла самое существенное, господствующее (почти исключительно) содержание древней русской жизни, и в настоящее время в ней же заключается преобладающий духовный интерес простых русских людей; и поистине нельзя не удивляться невежеству и дерзости тех, которые могли утверждать (в угоду своим фантазиям) религиозный индифферентизм русского народа.
Со стороны объективной, фактической русскому и большинству прочих славянских народов достался исторический жребий быть вместе с греками главными хранителями живого предания религиозной истины – православия и, таким образом, быть продолжателями великого дела, выпавшего на долю Израиля и Византии, быть народами богоизбранными. Со стороны субъективной, психической русские и прочие славяне одарены жаждою религиозной истины, что подтверждается как нормальными проявлениями, так и самыми искажениями этого духовного стремления.
Самый характер русских, и вообще славян, чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом. С другой стороны, религиозные уклонения, болезни русского народа – раскол старообрядства и секты – указывают: первый – на настойчивую охранительность, не допускающую ни малейших перемен в самой внешности, в оболочке святыни; вторые же, особенно духоборство, – на способность к религиозно-философскому мышлению.
Правда, что религиозная деятельность русского народа была по преимуществу охранительно-консервативною, и это ставится ему некоторыми в вину. Но религиозная деятельность есть охранительная по самому существу своему, как это вытекает из самого значения религии, которая или действительное откровение, или, по крайней мере, почитается таковым верующими. На самом деле, или, по крайней мере, во мнении своих поклонников, религия непременно происходит с неба и потому только и достигает своей цели – быть твердою, незыблемою основою практической нравственности, сущность которой состоит не в ином чем, как в самоотверженности, в самопожертвовании, возможных лишь при полной достоверности тех начал, во имя которых они требуются. Всякая же другая достоверность, философская, метафизическая и даже положительно научная, недостижима: для немногих избранных, умственно развитых, потому, что им известно, что наука и мышление незавершимы, что они не сказали и никогда не скажут своего последнего слова, что, следовательно, к результатам их всегда примешано сомнение, возможность и необходимость пересмотра, переисследования, и притом в совершенно неопределенной пропорции; для массы же – по той еще более простой причине, что для нее она недоступна.
Поэтому, как только религия теряет свой откровенный характер, она обращается (смотря по взгляду на достоинство ее догматическо-нравственного содержания) или в философскую систему, или в грубый предрассудок.
Но если религия есть откровение, то очевидно, что развитие ее может состоять в раскрытии истин, изначально в ней содержавшихся, точнейшим их формулированием, по поводу особого обращения внимания на ту или другую сторону, ту или другую часть религиозного учения в известное время. Вот внутренняя причина строго охранительного характера религиозной деятельности всех тех народов, которым религиозная истина была вверена для хранения и передачи в неприкосновенной чистоте другим народам и грядущим поколениям.
С этой точки зрения само русское старообрядчество получает значение как живое свидетельство того, как строго проводилась эта охранительность. Где незначительная перемена обряда могла показаться новшеством, возмутившим совесть миллионов верующих, там, конечно, были осторожны в этом отношении; и кто знает, от скольких неблагоразумных шагов удержало нас старообрядчество после того, как европейничанье охватило русскую жизнь!
Если обратимся к политической стороне вопроса, к тому, насколько славянские народы выказали способности к устройству своей государственности, мы встречаем явление, весьма не ободрительное с первого взгляда. Именно, все славянские народы, за исключением русского, или не успели основать самостоятельных государств, или, по крайней мере, не сумели сохранить своей самостоятельности и независимости. Недоброжелатели славянства выводят из этого их политическую несостоятельность. Такое заключение не выдерживает ни малейшей критики, если даже не обращать внимания на те причины, которые препятствовали доселе славянам образоваться в независимые политические тела, а принять факт, как он существует. Факт этот говорит, что огромное большинство славянских племен (по меньшей мере, две трети их, если не более) образовали огромное, сплошное государство, просуществовавшее уже тысячу лет и все возраставшее и возраставшее в силе и могуществе, несмотря на все бури, которые ему пришлось выносить во время его долгой исторической жизни. Одним этим фактом первой величины доказан политический смысл славян, по крайней мере, значительного большинства их.
В этом суждении о политической неспособности славян сказывается та же недобросовестность или в лучшем случае тот же оптический обман, как и в суждениях о мнимом недостатке единства Русского государства, потому-де, что в состав его входит, может быть, около сотни народов разных наименований. При этом забывается, что все это разнообразие исчезает перед перевесом русского племени, если к качественному анализу явления присоединить и количественный. Если бы все западные и юго-восточные славянские народы были бы действительно неспособны к политической жизни, то все-таки за славянским племенем вообще должен быть бы признан высокий политический смысл ввиду одного лишь Русского государства.
Если поэтому из всех славян один русский народ успел устроиться в крепкое государство, то обязан этим столько же внутренним свойствам своим, сколько и тому обстоятельству, что по географическому положению занимаемых им стран ему дано было пройти первые формы своего развития в отдалении от возмущающего влияния чуждой западной жизни.
