Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину
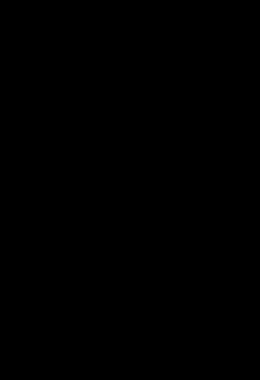
Полный текст в современном написании имён и понятий с приложениями и справочной информацией
На обложке картины Томаса Дэниэла:
лицо: «Западные врата Соборной мечети Дели» (1795) оборот: «Соборная мечеть, Дели» (1811)
На форзацах литографии из книги Джеймса Фергюссона «Иллюстрации скальных храмов Индии» (1845)
первый: «Аджанта: Внешний вид пещеры Чайтья № 19» второй: «Карли: Вход в Великую пещеру Чайтья»
© Колокол, 2024, редактура, макет
Предисловие редакции
Письма Елены Петровны Блаватской из Индии первоначально публиковались под псевдонимом “Радда-Бай” в двух частях или сериях. Первая серия состояла из 29 писем и издавалась в газете Московского университета “Московские ведомости” с 30 ноября 1879 года по 2 января 1883 года под названием “Изъ пещеръ и дебрей Индостана”. Затем эти письма были переизданы в журнале “Русский вестник” (1883, № 1–7, Приложение) и напечатаны в этом же году отдельной книгой в 411 страниц как приложение к журналу. Вторая часть книги (7 глав) была опубликована в “Русском вестнике” в 1885 (№ 11) и 1886 (№ 2, 3, 8) годах с подзаголовком “Письма на родину. Вторая серия” и составила 173 страницы. Вторая серия имела собственную нумерацию от 1 до 7. В этом издании мы придерживаемся устоявшейся сквозной нумерации. Начало второй части (1885, № 11, стр. 270–299) ранее печаталось в “Русском вестнике” за 1883 г. (№ 8, Приложение). Продолжая публикацию писем, редакция журнала сделала следующее пояснение:
«В 1883 году было начато печатание второй части этих писем. По обстоятельствам, не зависящим ни от автора, ни от редакции, продолжение их не последовало и печатание приостановилось на двух листах. Получив продолжение писем, мы возобновляем печатание, но не в особом непрерывном приложении, а отдельными статьями, которые впоследствии и составят в совокупности вторую часть сочинения: Из пещер и дебрей Индостана. Первое письмо, прерванное на полуслове, перепечатывается для связи вполне».
В 1892 году вышел английский перевод писем, сделанный племянницей Елены Петровны, Верой Владимировной Джон-стон (урождённой Желиховской) под заголовком “From the Caves and Jungles of Hindostan” (London: Theosophical Publishing Society, 1892, 318 p.). Верой Владимировной были переведены 22 с половиной письма и собраны в книгу с тематическим разбиением на главы и добавлением названий к ним. Перевод был сделан с некоторыми, порой значительными, сокращениями оригинального текста, касавшимися отрицательных высказываний автора об англичанах Индии (англо-индийцах). Но, несмотря даже на этот «облегчённый» для восприятия англичан вариант, окружение В.В. Джонстон приняло книгу довольно прохладно, из-за чего она, вероятно, и прекратила работу над переводом. Выдержки из её писем по этому поводу приведены в приложении.
Однако проделанная Верой Владимировной работа над текстом коснулась не только английского варианта книги, но удивительным образом отразилась и на последующих русских изданиях. Её сёстры Елена и Надежда Желиховские опубликовали в 1912 году подготовленный ею русский текст книги, прошедший такую же обработку и утерявший большое количество фрагментов. Этот сокращённый вариант составил 438 страниц из 584 изначальных, то есть меньше на четверть. Он был издан в Санкт-Петербурге в типографии А.С. Суворина. Именно он и был взят современными издательствами в работу и переиздаётся до сих пор. Первое полное и тщательно выверенное издание было подготовлено Александром Дмитриевичем Тюриковым и опубликовано на сайте Бахмутского Рериховского общества (https://art-roerich.org.ua). В нём отмечены все несовпадения между двумя редакциями: в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике», а также добавлен обширный справочный материал. А.Д. Тюриков старался предоставить читателю текст наиболее близкий к оригиналу, поэтому все имена и названия, а также устаревшие формы слов оставлены в авторском написании.
Конечно, со времени выхода писем в свет многое изменилось и в русском языке, и в географических названиях, и в способе передачи иноязычных слов. Для санскритских терминов, например, сейчас принято писать букву “х” (h), которая практически не произносится: Брама теперь пишется Брахма, садду → садху, сикки → сикхи и т. п. Также некоторые понятия и имена сейчас пишутся по-другому: Азока → Ашока, бёнглоу → бунгало, вёдантины → ведантисты, деван → диван, суами → свами и т. д. Елена Петровна пояснила в сноске 23-го письма: «Придерживаясь фонетической системы, пишу имена так, как они выговариваются, а не пишутся». В этом издании большинство слов приведено к современному написанию (см. приложение «Внесённые изменения» в конце книги, с. 654). Также мы сверили текст с первоначальными изданиями и восстановили все пропущенные и изменённые части.
В некоторых случаях существует разница между написанием слов в первом издании в “Московских ведомостях” и переиздании в “Русском вестнике”. Значимые исправления помечены в сносках, а для основного текста преимущественно использован вариант из второго издания, поскольку, судя по комментариям, Елена Петровна, прочитала издание своих писем в “Московских ведомостях” и отослала правки и дополнения редактору журнала “Русский вестник” Михаилу Никифоровичу Каткову (1818–1887), которые он учёл при переиздании. К сожалению, эти письма с поправками пока нами не обнаружены, поэтому остаётся вероятность, что часть правок сделана редактором журнала, а не самой Е.П. Блаватской.
Для традиционных русских мер длины, площади и веса добавлены метрические величины в квадратных скобках. Величины округлены, если в оригинале даётся приблизительное значение. Номинальные значения следующие:
1 вершок = 4,45 см
1 аршин = 71,12 см
1 сажень = 2,13 м
1 верста = 1,07 км
1 десятина[1] = 2400 кв. сажен = 1,09 гектар
1 пуд = 16 кг
Елена Петровна использовала в тексте следующие псевдонимы и замены реальных имён основных действующих лиц:
• Бабу – Бабула, также Валла Булла (Babula, Vallah Bulla), гуджаратский 15-летний юноша, нанятый Е.П. Блаватской сразу по приезду в Индию, который сопровождал её во всех поездках.
• Гулаб Лал Сингх, такур – Учитель Морья (Могуа), духовный учитель или гуру Е.П. Блаватской.
• Леди К*** – настоящее имя выяснить пока не удалось.
• Мисс Б*** – Роза Бейтс (Rosa Bates), английская школьная учительница, вступившая в ТО в 1878 году и исключённая в 1880.
• Мистер С*** – Альфред Перси Синнетт (Alfred Percy Sinnett), редактор ежедневной газеты «Пионер», ведущего периодического издания Великобритании в Индии, активный участник теософского движения.
• Мистер У*** – Эдвард Уимбридж (Edward Wimbridge), английский архитектор, вступивший в ТО в 1877 году и добровольно вышедший в 1880 для поддержки Р. Бейтс.
• Мистрисс С*** – Пейшенс Эденсор Синнетт, супруга А.П. Синнетта.
• Полковник О*** – Генри Стил Олкотт (Henry Steel Olcott), близкий друг и сотрудник Е.П. Блаватской, сооснователь ТО, его первый и пожизненный президент.
• Сеид М*** – Саид Махмуд (Syed Mahmood), окружной судья в Рай-Барели, затем в высшем суде Аллахабада, сын Саида Ахмад-хана, мусульманского реформатора.
Также в письмах упоминаются под своими именами:
• Мульджи – Мульджи Текерси (Mooljee Thackersey), один из первых индийских друзей Е.П. Блаватской, называемый в письмах также «молчаливый генерал».
• И ещё огромное количество исторических лиц, описание некоторых можно найти в приложении «Упоминаемые лица».
Почему Елена Петровна выбрала псевдоним Радда-Бай, нам неизвестно. Можно только сказать, что имя Радда или Раддха распространено в Индии и по сей день, в мифологии это имя носила жена Кришны, олицетворяющая совершенство. Бай означает сестра. Толкование обеих частей псевдонима можно найти в этих письмах: Радда – в письме 9, бай – в письме 19 и 21.
В письмах Елена Петровна высмеивает подозрительность англо-индийцев, следящих за ней с целью выяснить не является ли она шпионкой. Однако, нужно отметить, что такое отношение к ней является совершенно не удивительным и связано не с личностью самой Елены Петровны, а с общей геополитической обстановкой. Российская и Британская империи на то время уже несколько десятилетий находились в серьёзном противостоянии, называющемся в историографии «Большой игрой». К началу 19-го века Великобритания прочно обосновалась в Индии, сделав её своей колонией, а Россия весь 19-й век расширяла свои границы на юг, присоединяя всё новые и новые территории, приблизившись (на момент прибытия Е.П. Блаватской в Индию) вплотную к Афганистану, граничащему с Индией. Россия в то время постоянно усиливала своё военное присутствие в регионе и вела военные действия. В связи с этим, подозрительность Британского правительства к русским в то время вполне понятна и не безосновательна.
Мы бы хотели, чтобы работы Е.П. Блаватской распространялись без ограничений, поэтому эта книга передаётся в общественное достояние. Сами тексты перешли в статус общественного достояния, поскольку после смерти автора прошло более 70 лет, свой вклад в подготовке материала мы не обременяем авторским правом.
Электронный вариант книги снабжён множеством гиперссылок. Он распространяется бесплатно как в формате PDF, удобном для чтения и распечатки, так и в исходном формате ODT с редакторскими пометками и дополнительной информацией. Вместе с книгой можно скачать дополнительный материал, среди которого скан-копии газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник» с оригинальным текстом писем в первоначальном издании. Книга также доступна для чтения в онлайн библиотеке Теопедии. Проект двуязычный и развивается на русском и английском языках одновременно. Ресурсы: на русском:
– читать: https://ru.teopedia.org/lib/EnB-nHCbMa из пещер
– скачать: Яндекс (основной), Гугл (резервный)
на английском:
– читать: https://en.teopedia.org/lib/HPB-Caves
– скачать: Яндекс (основной), Гугл (резервный)
Несмотря на то, что мы тщательно выверяли текст по имеющимся скан-копиям первых изданий и приложили немало усилий по сверке всех имён и названий, предоставляя справочную информацию, тем не менее внимательный читатель наверняка обнаружит, как можно ещё улучшить полученный текст. Если у вас возникли подобные предложения, просим направлять их на электронный адрес редакции: [email protected].
Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке этой книги:
Батлер М. (Morry Butler)
Базюкин В.В. (Vladimir Baziukin)
Джонстон В.В. (Vera Johnston)
Касади М. (Mark Casady)
Кёршнёр Дж. (Janet Kerschner)
Краснопёров В.А. (Vladimir Krasnoperov)
Кузнецова Л.В. (Ludmila Kuznetsova)
Ли Э. (Eunice Lee)
Малахов П.Н. (Pavel Malakhov)
Можаров С.С. (Sergey Mozharov)
Мутусами Ш. (Sivasubramanian Muthusamy)
Уикс Н. (Nicholas Weeks)
Фёдорова О.А. (Olga Fyodorova)
Цами A. (Alena Tsami)
Редакция
издательства «Колокол»
Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину
Письмо I[2]
Приезд в Бомбей[3]
Поздно вечером 16 февраля 1879 года, после тяжёлого тридцатидвухдневного плавания из Ливерпуля, раздались с пассажирской палубы радостные восклицания: “Маяк, Бомбейский маяк!..” И вот все, кто ни был чем занят, побросали карты, книги, музыку и кинулись наверх. Луна ещё не всходила и, невзирая на звёздное тропическое небо, на верхней палубе было совершенно темно. Звёзды блистали так ярко, что трудно было сразу разглядеть между ними земной огонёк: точно громадные глазища навыкате, моргали они на вас с чёрного неба, на склоне которого тихо сиял Южный Крест… Но вот, наконец, ещё ниже на далёком горизонте заблистал и маяк, ныряя огненною точкой в волнах словно из растопленного фосфора. Горячо приветствовали измученные путешественники давно желанное явление. Все развеселились…
Недолго пришлось нам, однако, любоваться маяком; раздался звонок, и в главной каюте потушили огни. Было десять часов вечера, и в приятных мечтах о будущем дне все разошлись по каютам. Зато в эту ночь никто не ложился спать. Все суетливо укладывались, приготовляясь на другое утро как можно ранее распроститься с нашею дырявою, заливаемою водой кадушкой, величаемой “океанским стимером”[4] Ливерпульского общества, и с её вечно пьяным, грубым капитаном, который, между прочим, чуть было не утопил нас, а по воскресным дням запрещал пассажирам не только что играть в карты или шашки, но даже заниматься музыкой.
К четырём часам утра все пассажиры были уже на палубе, даже дамы. Такое раннее появление прекрасного пола не входило в расчёт группы англо-индийских офицеров и очень было их переконфузило. Одна партия бравых воинов, при помощи матросов, весело обливалась водой под палубною помпой, в то время как товарищи их, ожидая очереди, расхаживали кругом в национальных костюмах индусов, т. е. безо всякого костюма. Но скромные леди тоже возвращались, а не ехали в Индию. Видимо, успев уже попривыкнуть к подобной пластической обстановке, они остались совершенно хладнокровными, тем более, что теперь вся разница заключалась в одном колорите. К тому же, едва светало…
Но, что это был за рассвет!.. Пароход уж больше не качало… Под искусным управлением только что прибывшего туземного лоцмана в костюме Геркулеса, бронзовый силуэт которого резко отделялся на бледном небе, наш стимер, тяжело пыхтя испорченною машиной, тихо скользил по спокойным прозрачным водам Индийского океана прямо по направлению к гавани. Приближались к заливу, и до Бомбея оставалось всего несколько миль; и тому, кто, подобно нам, за четыре недели до того дрожал от пронзительного холода и снежной бури, застигшей нас у входа во много воспеваемый поэтами, но ещё более проклинаемый моряками Бискайский залив [5], окружавшая нас обстановка казалась просто волшебным сном!..
После тропических ночей на Красном море и невероятно знойных дней, промучивших всех от самого Адена[6], на нас, северян, веяло чем-то непривычным, тяжело обаятельным в этой чудно-мягкой предрассветной свежести воздуха. Ни одного облачка не виднелось на густо усеянном потухавшими звёздами небе… Догорающий свет луны, дотоль серебряною пеленой застилавший небеса, стал мало-помалу исчезать; и по мере того как прямо перед нами, на востоке, над далёким островом постепенно загоралось первое зарево рассвета, последнее лунное сияние всё более и более сосредоточивалось на западе, обрызгивая золотыми искрами прорезаемую кильватером и далеко оставляемую за нами тёмную водную полосу: словно с вами, людьми из Америки, прощалось сияние запада, и свет востока приветствовал пришельцев из далёких стран. Всё сильнее голубело небо, быстро поглощая одну за другою последние еле мерцавшие звёзды; и чудилось нечто трогательное в кротком достоинстве, с каким царица ночи передавала свои верховные права могучему узурпатору. Наконец, она стала тихо погружаться в волны и – исчезла…
И вдруг, почти без малейшего перехода от тьмы к свету, багрово-огненный шар вынырнул с противоположной стороны из-за мыса, упёрся на несколько мгновений золотым подбородком в нижний ярус скал острова и, как бы оглядывая нас, на минуту приостановился… Затем одним могучим взмахом очутилось дневное светило высоко над морем и победоносно поплыло вверх по тропе своей, мгновенно рассеяв мрак и разом захватывая в пламенные объятия и посиневшие воды залива, и прибрежные дачи, и острова с их скалами и лесами кокосовых пальм… Не забыли золотые лучи поласкать и толпу благочестивых поклонников своих, парсов-гебров, простиравших руки с берега моря к могучему “Оку Ормузда”. Картина была до того великолепна, что на минуту всё примолкло на палубе; даже красноносый старый матрос, суетившийся возле нас с канатом, приостановил работу и, крякнув, одобрительно кивнул солнцу головой.
Пробираясь тихо и осторожно вдоль столь же прелестного, как и коварного залива, мы имели ещё довольно времени любоваться его окрестностями. Направо от нас виднелась группа островов, во главе которой высится головообразный Гхарапури, или Элефанта, со своим глубокой древности храмом. Тхарапури” в переводе означает “город пещер” – по мнению ориенталистов, “город очищения” – коли верить туземным санскритологам. Этот высеченный неизвестною рукой в самой сердцевине скалы храм из камня, похожего на порфир, давно уже служит яблоком раздора для археологов, из коих ни один не был доселе в состоянии определить даже приблизительно его древность. Высоко вздымается скалистое чело Элефанты; густо обросло оно вековым кактусом, а под челом, у самого подножия скалы, высечены два придела и главный храм… Словно сказочный Змей Горыныч, широко разинул он чёрную зияющую пасть, как бы готовясь поглотить дерзновенного, пришедшего выведать сокровенную тайну, титана; и скалит он на пришельца два уцелевшие, потемневшие от времени длинные зуба, – две громадные колонны, поддерживающие при входе нёбо чудовища…
Сколько поколений индусов, сколько рас простиралось во прахе пред Тримурти, тройным божеством твоим, о Элефанта!.. Сколько веков понадобилось слабому человечеству, дабы прорыть в порфирном чреве твоём весь этот город пещерных храмов и мраморных пагод и изваять твои гигантские идолы? Кто может это знать теперь! Много лет прошло с тех пор, как виделись мы с тобою в последний раз, древний и таинственный храм! А всё те же беспокойные мысли, те же неотвязные вопросы волнуют меня теперь, как и тогда, и остаются всё же безответными… Через несколько дней опять увидимся мы с тобой; снова взгляну я на твоё суровое изображение, на твой гранитный тройной лик в 19 футов [5,8 м] вышины, чувствуя столь же мало надежды когда-либо проникнуть тайну бытия твоего!.. Эта тайна попала в верные руки ещё за три века до нашего столетия. Недаром старый португальский летописец дон-Диего де Кута похваляется (8 декада, книга III, глава XI) тем, что “большой квадратный камень, вделанный над аркой пагоды с чёткою и крупною на нём надписью, был выломан и послан королю донжуану III, а затем таинственно исчез…” и добавляет далее: “Возле этой большой пагоды стояла другая… и даже третья… самое изумительное строение на острове как по красоте, так и по неимоверно громадным размерам своим и богатству материала. Все эти пагоды и пещеры были выстроены царями Канадскими (?), главным из коих был один, по имени Боназур, и на эти-то постройки сатаны наши (португальские) солдаты накинулись с такою яростью, что в несколько лет не осталось от них камня на камне”.
А главное, не осталось надписей, кои могли бы дать ключ ко многому. Вследствие этого фанатизма португальских вандалов[7], хронология пещерных храмов Индии должна остаться для археологического мира навеки загадкой, начиная от браминов, которые уверяют туристов, будто элефантскому храму 374 000 лет, и кончая Фёргюссоном, доказывающим, что этот храм был высечен чуть ли не в XII веке по Р. Х. [8] Куда ни загляни в историю, всюду одни гипотезы, мрак. И, однако же, о Гхарапури упоминается в эпической поэме Махабхарата, написанной, по мнению Колбрука и Уилсона, задолго до царствования Кира[9]. В другой древней легенде говорится, будто храм Тримурти на Элефанте построен ещё сыновьями Панду, изгнанными по окончании войны, воспетой в Махабхарате – между династиями Солнца и Луны – восторжествовавшею расой Солнца: раджпуты (потомки последнего) воспевают ещё до сей поры победу свою над врагами. Но и в их народных песнях нет ничего положительного. Прошли и ещё пройдут столетия, а вековая тайна так и умрёт в скалистой груди пещеры…
Налево, как раз против Элефанты, через залив и как бы в контраст всей этой древности и величию, растянулся Малабарский холм, жилище современных европейцев и богачей туземцев. Их ярко расписанные бунгало утопают в зелени индийской смоквы, баньяновых и других дерев, а прямые высокие стволы кокосовых пальм покрывают бахромой верхушек своих весь гребень холмистого мыса. Вон, на самой юго-западной оконечности скалы, окружённой с трёх сторон океаном, возвышается прозрачное, словно кружевное, строение правительственного дома (Government House). Это самое прохладное и удобное место Бомбея, обвеваемое с трёх сторон морскими ветрами: это резиденция сэра Ричарда Темпля, губернатора и повелителя Бомбейского президентства.[10] Развевающийся на высокой мачте флаг оповещает правоверных как и неверных, что его превосходительство находится в то время “у себя”. Место столь же прелестное, как и подходящее для досточтимого баронета, сильно страдающего, между прочим, от разгорячённого воображения. Только прохлада оного спасает его от постоянно угрожающего ему удара вследствие мучительной мономании, центральная точка коей “русские шпионы” и коварная “русская интрига”…
Остров Бомбей, называемый туземцами “Мамбе”, получил своё название от богини Мамба – на маратхском языке Махима, или “амба”, “мама” и “амма”, смотря по диалекту – слово, означающее буквально: “Великая Матерь”. Едва сто лет назад, там, где теперь городская эспланада[11], стоял храм, посвящённый “Мамбе Дэви”. С невероятными затруднениями и издержками перенесли его ближе к берегу, близ крепости, и поставили против храма Болешвара, Владыки Невинных, – одно из названий бога Сивы или, вернее, Шивы. Бомбей составляет часть значительной группы островов; самые замечательные из них своими древностями: Сальсета “перевязанная” с Бомбеем плотиной; Элефанта, так названная португальцами вследствие громадной на острове скалы, высеченной наподобие слона[12] в 35 футов [11 м] длины, и в-третьих, остров Тромбай, одинокая скала коего возвышается на 900 футов [274 м] над морем. Бомбей, похожий на картах на большого морского рака, расположен впереди всех других островов. Далеко протянув в море обе клешни, он как бы стоит несменным часовым и стережёт меньших, менее защищённых братьев… Между ним и материком немного узкий при входе рукав реки постоянно расширяется; затем, снова суживаясь, далеко впивается между вогнутыми боками обоих берегов, составляя таким образом бесподобнейшую в мире гавань. Недаром изгнанные англичанами португальцы прозвали её “Buon Bahia”, т. е. хорошим заливом.
В припадке туристского восторга некоторые путешественники сравнивали бомбейский порт с неаполитанским. Но оба, в сущности, столь же похожи друг на друга, как лаццарони похож на кули;[13] всё сходство между последними в цвете кожи, а между портами – в воде. В Бомбее, как и в его гавани, всё оригинально и самобытно, ничто не напоминает даже южной Европы. Взгляните на эти каботажные суда и рыбачьи лодки: оба построены наподобие птицы, и обоим служила моделью морская птица cam, нечто вроде рыболова. Такая лодка, особенно на ходу, олицетворение грации с её длинным, совершенно наподобие птичьего, носом и тупою округлённою кормой; в движении она словно плывёт задом, а странной формы косой треугольный (латинский) парус прикреплён к высокому шесту острою вершиной вверх, словно два крыла. С широко раздутыми на обе стороны крыльями, такое туземное судно, при попутном ветре и пригнувшись носом почти в уровень с водой, летит с изумительною быстротой. Но оно не прорезает волн, как наши лодки, а ныряет по ним, как чайка, представляя собою совершенное подобие морского рыболова…
Окрестности залива перенесли в то утро наше воображение в одну из волшебных стран “Арабских сказок”[14]. Далеко тянулась вдоль восточной стороны города горная цепь Гхат, с перемежающими её почти столь же высокими холмами. От подножия до скалистых, фантастически торчащих верхушек своих, эти холмы обросли дремучим лесом и непроходимыми джунглями, где живут хищные звери, а народное воображение одарило каждую скалу своей особенной легендой. Весь скат усеян пагодами, минаретами и храмами всевозможных сект. Там и сям, горячо обливаемая утренним солнцем, торчала древняя крепость, когда-то грозная и неприступная, теперь же полуразрушенная и обросшая непроницаемым кактусом. Что ни шаг, то чья-либо святыня. Здесь – далеко уходящая внутрь горы “вихара”, келья буддийского бикшу; там скала, осенённая символом бога Шивы; далее – капище джайнов; заросший тиной священный танк (пруд, наполненный благословлённою брамином и поэтому очищающею ото всякого греха водой), непременная принадлежность каждой пагоды. Все окрестности, вся страна усеяна символами богов и богинь; каждое из 33 миллионов божеств индийского пантеона имеет в чём-нибудь своего представителя или что-нибудь посвящённое себе: кусок камня, цветок, дерево, птицу. Вот на западной стороне Малабарского холма выглядывает “Валукешвара”, храм Владыки из песка.
Толпы индусов обоего пола, блистая на солнце золотыми кольцами на пальцах ног и рук, браслетами от кисти рук до локтей и от щиколотки до икр ног, со свеже разрисованными красною, жёлтою и белою красками священными сектантскими знаками на лбах, в ярких тюрбанах и белоснежных одеяниях, тянутся длинною вереницей к знаменитому храму. Предание гласит, что Рама на пути из Айодьи (Ауд) в Ланку (Цейлон) за женою своею Ситою, похищенною злым царём Раваной, провёл тут ночь. Брат его Лакшман, на коем лежала обязанность снабжать Раму каждый вечер новым лингамом из Бернареса, запоздал в тот день присылкой. В припадке нетерпения Рама соорудил себе лингам из песка. Когда, наконец, явился символ из Бернареса, его поставили в храм, а лингам, сооружённый Рамой, остался на берегу. Тут он пребывал в продолжение долгих столетий; но с прибытием португальцев “Владыка из песка” почувствовал такое сильное отвращение к феринге (чужестранцам), что прыгнул в море и уже не появлялся более. Далее прелестный бассейн (танк), называемый Ванатирхта или “Пруд Стрелы”. Здесь Рама (любимый герой, обоготворённый индусами) пожелал напиться и, не находя воды под рукой, выстрелил из лука в землю. И вот в этом месте тот час же появился пруд, хрустальные воды коего обнесли высокою стеной, выстроили ведущую вниз каменную лестницу, окружили рядом белокаменных пагод и обителями двиджа (дважды рождённых) браминов.
Индия – страна легенд и таинственных уголков. Нет в ней развалины, нет памятника или леска, чтобы не было у него своей истории. А главное, как обыкновенно ни опутана последняя паутиной народной фантазии, всё гуще свиваемой с каждым последующим поколением, но трудно, однако, указать хоть на одну такую, которая не была бы основана на каком-нибудь историческом факте. С терпением, а главное, с помощью учёных браминов, раз войдя в их доверие и дружбу, всегда возможно докопаться до истины. Но уж, конечно, не англичанам, с их высокомерием и явно выказываемым презрением к “побеждённой расе”, ожидать чего-либо подобного. Поэтому-то между официально расследованною Индией и (если дозволено так выразиться) подземною, настоящею Индией такая же разница, как между Россией в романах Дюма-père[15] и настоящей русскою Россией.
Ещё далее по той же дороге стоит парсийский храм огнепоклонников. У алтаря его горит неугасаемый огонь, ежедневно пожирающий пуды [16] сандалового дерева и ароматических трав. Зажжённый триста лет тому назад священный огонь ещё ни разу не потухал, невзирая на беспорядки, сектантские распри, ни даже на войну. Парсы весьма гордятся этим храмом Заратушты, как они называют Зороастра. Рядом с этим – храмы индусов, разукрашены как красная писанка[17]. То капища, чаще всего посвящённые Хануману, богу-обезьяне и верному союзнику бога Рамы, или же какому другому божеству, как, например, слоноголовому Ганеше (бог тайной мудрости), или одной из дэви. Подобные храмы встречаются на всех улицах. Пред каждым ряд столетних пипал (ficus religiosd)[18], без которых не обойдётся ни один храм, так как эти деревья служат любимым жилищем для стихийных духов и грешных душ. Всё это перемешано, спутано и разбросано, являясь пред глазами внезапно, как картина во сне… Тридцать столетий оставили своих представителей на этих островах. Природная лень и сильно присущее Индии чувство консерватизма сохранили ещё до европейского вторжения эти памятники буддистов и других неприязненных браминам сект даже от разрушительного мщения фанатиков. По природе индус неспособен на бессмысленный вандализм, и френолог напрасно отыскивал бы на его черепе шишку разрушения. Если столько древностей и незаменимых памятников старины, пощажённых рукой времени, теперь искажены, разрушены и даже совсем попорчены, то разрушителями их постоянно являлись если не мусульмане, то португальцы, под руководством иезуитов.
Красота Бомбейского залива далеко, однако, не искупает, со стратегической точки зрения, слабостей его порта. Эта слабость, которую, впрочем, никто кроме специалиста никогда бы и не заметил, странно указывается самими же англичанами. И с чужестранцами толкуют они о ней, и рассуждают об этом в газетах, и даже горько жалуются на неё в своих “гидах”[19]. Так, например, в “Дорожнике Индии” (Hand-Book of India, 1858, by Captain E. Eastweeck) автор пускается в длинное рассуждение об опасности, угрожающей Англии в случае неприятельского вторжения в Бомбей со стороны моря. Этот изъян, давно замеченный ревнивыми обладателями страны, словно мешает им спать. Неужели же то самое, что проделал с португальцами могульский адмирал Сиди в 1690 году, взявший у них бомбейскую крепость в несколько часов, может ещё повториться в 1880? И ей ли, великой непобедимой нации, с более чем тысячью пушками на Адмиралтейском бастионе, на Мандави-Бандарской и других батареях, пугаться вторжения? И однако, если судить по собственному сознанию её сынов и по их приёмам, то они не только горюют, но и постоянно трусят чего-то. “Что у кого болит, тот о том и говорит”. Поэтому должно полагать, что эта заноза крепко засела и таки побаливает в бедре Великобританского льва. Не угодно ли послушать, что они сами рассказывают. Не отъехали мы сто миль [185 км] от Ливерпуля, как уже были посвящены, за общим столом, во все слабости Бомбейского порта. “Форт наш со стороны материка может быть и силён, – рассуждал один капитан, – только вот со стороны моря он совсем подгулял. Беззащитнее этого форта трудно себе что и представить… К тому же, пролив своею узковатостью способен затруднить неприятельский флот разве что в самом устье; а замок форта Сент-Джорджа, построенный ещё португальцами, напоминает одностенные плоские замки на оперной сцене: на нём не имеется даже порядочного парапета. Самая же крепость (коммерческая часть города) не защищена даже простою стеною. Зато она загромождена до самого берега старыми, полусгнившими фабриками, заводами и на скорую руку построенными амбарами и частными жилищами… При первом пушечном выстреле наш знаменитый форт развалится как карточный дом” и проч.
А теперь заглянем в Hand-Book и посмотрим, что об этом говорит Иствик, посвящая книгу брату своему, капитану Бомбейской армии. “Если бы, – пишет он, – наша злополучная крепость, даже когда и изъявила претензию на защиту, то неприятелю не стоило бы обращать на неё внимания. Ему следовало бы только, совсем не заходя в гавань, обогнуть остров и высадить войска с северной, совершенно не защищённой, стороны его. Только во время монсуна (сезона дождей) Бек-бей бывает опасен своими бурями, а главное, – подводными скалами, которыми так густо усеяно всё пространство кругом Пронгского маяка (Prong). Во все же остальные восемь месяцев пароходы могут с полною безопасностью бросать якорь вне залива”.
Не правда ли, как откровенно? Поэтому и злорадное замечание одного известного англо-индийского писателя, напоминающего, что в случае либо войны, либо затеваемого вторжения, “Бек-бей представляет столь же заманчивую, сколько и коварно-опасную приманку угрожающему неприятелю” – теряет всё своё значение. Эта опасность, как нам объявляет и “Guide-Book”, существует лишь во время четырёхмесячного монсуна, а в остальные времена года – милости просим!
А между тем, описывая так подробно свои слабейшие пункты, англо-индийцы видят в каждом невинном туристе из других государств – шпиона. Проехала здесь, года два назад, русская артистка, пианистка m-lle Olga Duboin[20], и пожелала прокатиться по Индии; двадцать сыщиков тайной полиции, как тени, следили за ней по пятам. Явился немец-живописец, уроженец Петербурга, но еле говорящий по-русски (г-н Орас фан-Руит), изучать типы Индостана; шпионы переодеваются и являются к нему, предлагая себя в модели. Приехала партия, состоящая из американского полковника, чистейшего янки, двух англичан из Лондона – ярых патриотов, но либералов, и американской гражданки, хотя и русской по рождению,[21] и вот национальность последней подымает на ноги всю полицию! Напрасно было бы доказывать, что эти туристы единственно заняты метафизическими спекуляциями о мирах неведомых, и что они не только не интересуются политикой земного мира, но что их русская спутница даже и “аза в ней не смыслит”[22]. “Коварство России давно вошло в пословицу”, отвечают ей. “России де мы Афганистанскою войной[23] отрезали дорогу через Гималайские горы; вот она и пошла плясать с другой стороны… Подружилась с китайцами, а теперь науськивает их идти на Индию через Рангун. Поэтому нам и необходимо завладеть Бирмой”.[24] Уже и китайцев стали уже бояться с их горшками со смердящей жидкостью! Ну и владейте на здоровье, коли никто не мешает – благо, что предлог нашёлся. Только зачем же нести такой сумбур про Россию?
Эта национальная черта англичан кричать “караул, режут”, когда их никто и не думает трогать, – отвратительна. Она в них особенно развилась со времён биконсфильдского премьерства[25]. Но если эта черта замечательна даже в Англии, то с чем же сравнить её в Индии? Здесь подозрительность перешла в мономанию: англо-индийцы готовы видеть шпионов России даже в собственных сапогах, и они упиваются этой идеей до чёртиков.
– А что, – спрашивает один американский полковник у главного полицейского надзирателя одной из северо-западных провинций, – возможно ли по-Вашему повторение сипайского возмущения 1857 года?[26] Как Вы полагаете, усмирены индусы?
– Пшоу!.. Бояться подобного возмущения было бы столько же основательно, как и падения луны нам на голову! – получает он гордо в ответ.
А между тем, этот же капитан тут же рассказывает за завтраком о превосходстве полицейской организации в их провинциях: ни один индус не прибудет из деревни в город даже на один час без того, чтобы тотчас бы не узнали об этом в тайной полиции. Следят за каждым новоприбывшим из одной провинции в другую, даже если бы то был и англичанин. У народа не только отняли всякое оружие, но даже лишили последнего топора и ножа. Крестьянину нечем ни дров нарубить, ни защититься от тигра. Но англичане всё ещё дрожат. Правда, что их здесь всего 60 000, в то время как туземного населения насчитывают до 245 миллионов. Да и система их, перенятая ими от искусных укротителей зверей, хороша лишь, доколе зверь не почует, что его укротитель, в свою очередь, трусит… Тогда горе ему! Во всяком случае, подобное постоянное выказывание хронического страха обнаруживает лишь сознание собственной слабости.
Наконец, мы бросили якорь, и в одну минуту сотни тощих, голых индусов, могулов, парсов и других народов атаковали как наш багаж, так и нас самих. Вся эта ватага мгновенно выскочила как бы со дна морского; защебетала, зачирикала, залопотала и стала голосить, как умеют голосить одни азиатские народы. Чтобы скорее избавиться от подобного Вавилонского столпотворения, грозившего оглушить нас навеки, мы бросились в первый попавшийся бундер-бот[27] и отчалили.
Когда мы приехали в заранее заготовленный для нас бунгало, первое, что нас поразило в Бомбее, были миллионы ворон и коршунов. Первые – мусорщики города, и убивать их не только воспрещено полицией, но и весьма опасно, так как это навлекло бы на убийцу серьёзное возмездие со стороны индусов, всегда готовых предложить собственную жизнь за воронью. Души грешных прадедов их переселяются в ворон: убивать эту птицу значит мешать закону возмездия и тем[28] обрекать душу на что-нибудь худшее. В этом не только индусы, но и не менее их суеверные парсы (даже самые образованные между ними) вполне уверены. Странные повадки индийских ворон (о которых будет упомянуто далее) до некоторой степени оправдывают такое поверье. А коршуны, всегдашние могильщики парсов, находятся под прямым покровительством Фарварданьи, ангела смерти, который парит над “Башней Молчания”, руководя занятиями пернатых работников. Но и об этом после.
Ужасное карканье ворон, не прерывающееся и по ночам, поражает вновь прибывшего своею странностью, но затем объясняется весьма просто. Всякое дерево из бесчисленного множества кокосовых лесов, окружающих Бомбей на откупе у правительства, и наверху каждого привязана тыква, в которую стекает сок, превращающийся по брожении в крепчайший напиток, называемый здесь “тодди”. Совершенно голые “тоддивала” (обыкновенно португальцы), скромно украшенные, между прочим, коралловым ожерельем, как белки лазят по два раза в день на вершину полуторастафутовых [46 м] стволов, собирая этот напиток. Вороны вьют гнёзда лишь на этих деревьях и постоянно пьют из этих открытых тыкв. В результате является хроническое опьянение этих крикунов.
Едва успели мы войти в густой, заросший сад нашего будущего жилища, как с каждого дерева послетала с пронзительным карканьем стая ворон: птицы эти окружили нас, прыгая на одной ноге. Чудилось нечто положительно человеческое в позе хитро склонённой на бок головы пьяной птицы, и чисто дьявольское выражение светилось в лукавом глазе, оглядывающем нас снизу вверх…
Радда-Бай
Письмо II[29]
Мы занимали три маленькие бунгало, утопающие как гнёзда в зелени сада, с крышами, буквально покрытыми розами, растущими на трёхсаженных [6,4 м] кустах, и с окнами, затянутыми кисеёй[30], вместо обычных рам и стёкол. Эти бунгало находились в туземном квартале. Таким образом мы были разом перенесены в настоящую Индию: мы жили в Индии, и отнюдь не как англичане, лишь издали окружённые Индией; мы могли изучать её нравы, обычаи, религию, суеверия и обряды, знакомиться с её преданиями, словом, жить в одном кругу с индусами, в кругу заколдованном и недоступном англичанам, как вследствие вековых предрассудков туземцев, так и по собственному высокомерию англо-саксонской расы.
Всё в Индии, в стране слона и ядовитой кобры, тигра и неудачного английского миссионера, всё своеобразно, странно; всё кидается в глаза чем-то непривычным и неожиданным даже для того, кто побывал в Турции, Египте, Дамаске и Палестине. В этих тропических странах условия природы до того разнообразны, что делается понятным, почему все формы бытия в животном и растительном царствах должны разниться от тех же форм, к которым мы так привыкли в Европе. Взгляните: вот идут женщины к колодцу через частный, но всем открытый сад, где пасутся чьи-то коровы. Кому не случалось встречать женщин, видеть коров и любоваться садом? Кажется, вещи самые обычные; но стоит лишь вглядеться в них внимательнее, чтобы тотчас же сообразить всю громадную разницу между этими самыми предметами в Европе и Индии. Нигде человек не чувствует так своего ничтожества, своей слабости, как пред этою величественною природой тропиков. Прямые, как стрелы, стволы кокосовых пальм достигают иногда 200 футов [61 м] вышины; эти “принцы растительного царства”, как назвал их Линдли, увенчанные короной длинных ветвей – кормильцы и благодетели бедного народа: пальмы доставляют ему и пищу, и одежду, и кров. Самые высокие наши деревья показались бы карликами пред баньяном и особенно пред кокосовыми и другими пальмами. Наша европейская корова, приняв индусскую свою сестру сперва за телёнка, тотчас же отказалась бы от родства с нею, так как ни мышиный цвет шерсти, ни прямые, как у козла, рога, ни большой на спине её горб (как у американского бизона, но без его гривы) не дозволил бы ей впасть в подобную ошибку. Что же касается женщин, то хотя каждая из них способна привести любого художника в восторг своими движениями, костюмом, грацией, тем не менее от нашей румяной и дебелой какой-нибудь Анны Ивановны ни одна из красавиц Индостана не дождалась бы ни ласки, ни привета: “Ведь экая срамота, прости Господи, глядишь: баба-то совсем голая!” Мнение нашей русской женщины 1879 года вполне согласовалось бы на этот счёт с таковым же мнением знаменитого русского странника XV столетия, “грешного раба Божия Афанасия, сына Никитина, из Твери”. Совершив “грешное странствование” своё по трём морям: морю Дербентскому, сиречь “Дорьи[31] Хвалиской”, морю Индии, “Дорви Иондустанской”, морю Чёрному или “Дорви Стемболвской” (Стамбул), – Афанасий Никитин прибыл в Чаул[32] (или, как он называет его, Чевиль) в 1470 году и описывает Индию в следующих словах:
“Сия есть земля Индейская. Люди в ней ходят голые, с непокрытыми головами и голыми грудями; с волосами заплетёнными в одну косу. Жёны здесь рожают детей каждый год, и ребят у них много; мужи и жёны чёрные. Их князь носит одну фату на голове, а другую обматывает промеж ног; бояре носят её на плечах (т. е. брамины, носящие шарф через плечо), а княгини – на плечах и вокруг поясницы; но все босые. Жёны прохаживаются простоволосые и с голыми грудями. Мальчики и девочки ходят до семи лет совершенно наги и стыда своего не скрывая…”[33]
Всё это описание совершенно верно; только относительно их бескостюмия Афанасий Никитин не совсем-то прав: описание его может относиться лишь к низшим и беднейшим кастам. Эти действительно прохаживаются в одной “фате”; да и фата-то эта до того бедна, что часто представляет собою лишь тесёмку. Но у женщин она состоит из куска материи иногда до 15 аршин [10,7 м] длины; один конец служит короткими шароварами, а другим прикрывается грудь и голова на улице, хотя лица всегда открыты; причёска же напоминает греческий шиньон. Ноги ниже колен, руки до плеч и поясница всегда голые. Да и ни одна здесь честная женщина не согласится надеть башмаки: последние составляют принадлежность и отличительную черту только “нечестных” туземок. В южной Индии, напротив, башмаки дозволены лишь жёнам и дочерям браминов. Когда не так ещё давно жена мадрасского губернатора вздумала, под влиянием миссионеров, хлопотать в пользу закона, обязующего женщин покрывать грудь, то дело дошло почти до революции: ни одна женщина на это не согласилась, так как верхнее платье здесь носят лишь публичные танцовщицы. Проект, к великому горю миссионеров и благородных леди, провалился; правительство скоро поняло всё неблагоразумие восстановлять против себя женщин (которые в иных случаях гораздо опаснее своих мужей и братьев) покушением уничтожить обычай, предписанный законом Ману и освящённый трёхтысячелетнею давностью.
В течение более двух лет до нашего выезда из Америки мы находились в постоянной переписке с одним учёным, известным даже в Европе, брамином, слава которого гремит в настоящее время по всей Индии. Этот брамин, под руководством которого мы приехали изучать древнюю страну ариев, “Веды” и трудный язык её, пандит Дайананда Сарасвати, свами[34]. Он считается величайшим санскритологом современной Индии. Пандит этот составляет для всех непроницаемую загадку: выступив лет пять тому назад на арену реформаторства, он, как древние “гимнософисты” (упоминаемые греческими и римскими писателями), жил до того времени отшельником в “джонгле” [джунглях], а затем, под руководством мистиков и анахоретов,[35] изучал главные философские системы “Арья-варты” [36] и тайный смысл “Вед”. С первых дней своего появления он поразил всех, и его тотчас прозвали Лютером Индии. Странствуя из одного города в другой, сегодня на юге, завтра на севере, переносясь с невероятною быстротой с одного конца страны на другой, он исходил весь полуостров от Коморинского мыса[37] до Гималая и от Калькутты до Бомбея, проповедуя единство Бога[38] и доказывая с “Ведами” в руках, что в этих древних писаниях нет ни одного слова, могущего быть перетолкованным в смысле политеизма. Гремя против идолопоклонства, великий оратор восстаёт всеми силами против каст, раннего брака и суеверия. Карая всё это зло, привитое к Индии столетиями фальшивой казуистики и лжетолкованием “Вед”, он прямо и бесстрашно укоряет в нём браминов, обвиняя их пред массами народа в унижении родины, когда-то великой и независимой, теперь павшей и порабощённой. Но Великобритания имеет в нём не врага, а пожалуй даже и защитника. Он не только не подстрекает народ к бунту, но, напротив, говорит ему прямо: “Прогоните англичан, и завтра и вы, и я, и все мы, восстающие против идолопоклонства браминов и зол мусульманского деспотизма, будем перерезаны как бараны. Мусульмане сильнее идолопоклонников, но последние сильнее нас…” И однако же англичане так мало понимают свою выгоду, что два года тому назад, в Пуне, где народ разделился на две партии: реформаторов и идолопоклонников-консерваторов, когда партия первых развозила своего проповедника с торжеством и ликованиями на слоне, а другая бросала в него камнями и грязью, то, вместо того, чтобы защищать Дайананду, она выслала его из города, запретив ему впредь являться туда.
Много горячих диспутов держал пандит с браминами, этими коварными врагами народа, и всегда выходил победителем. В Бенаресе к нему подослали убийц; но преступление не удалось. В одном местечке Бенгалии, где он особенно резко нападал на фетишизм, какой-то фанатик ловко бросил ему на голые ноги огромную змею кобру-дикапеллу[39], укушение которой причиняет в три минуты смерть и от которого медицина до сих пор не знает спасения. “Да решит наш спор сам бог Васуки![40] воскликнул поклонник Шивы, уверенный, что его воспитанная и дрессированная для таинств змея тут же покончит с оскорбителем её святыни. “Да”, спокойно ответил Дайананда, стряхнув сильным движением ноги обвившуюся вокруг неё кобру, “только твой бог слишком медлил; спор решаю я…” И быстрым, могучим движением пятки раздавил голову змеи. “Идите”, добавил он, обращаясь к народу, “и поведайте всем, как легко погибают фальшивые боги!”
Благодаря превосходному знанию санскритского языка, пандит оказывает великую заслугу как народу, рассеивая его невежество насчёт монотеизма Вед, так и науке, указывая, что такое именно брамины, единственная каста в Индии, имевшая в продолжение столетий право изучать санскритскую литературу и толковать “Веды” и воспользовавшаяся этим правом лишь для собственного интереса. Задолго ещё до появления таких учёных ориенталистов, как Бюрнуф, Колебрук и Макс Мюллер, было немало туземных реформаторов, старавшихся доказать чистый монотеизм учения “Вед”. Являлись и основатели новых религий, отрицавшие откровение этих писаний, как, например, раджа Рамохун Рой [Рам Мохан Рой], а за ним бабу Кешуб-Чендер-Сен [Кешобчондро Сен] – оба калькуттские бенгальцы.[41] Но ни те, ни другие не имели положительного успеха: они только к бесчисленному множеству других сект Индии прибавили новые. Рамохун Рой умер в Англии, не успев ничего сделать, а преемник его, Кешуб-Чендер-Сен, установив “церковь Брахмо-Самадж”, в которой исповедуется религия, извлечённая из глубины собственного воображения бабу, бросился в самый отвлечённый мистицизм и теперь оказывается “одного поля ягодой” со спиритами, которые его считают за медиума и провозглашают калькуттским Сведенборгом.
Таким образом, все попытки возобновить чистый первобытный монотеизм арийской Индии оставались до сей поры более или менее тщетными. Они разбивались, как волны, о неприступную скалу брахманизма и веками вкоренившихся предрассудков. Но вот нежданно-негаданно является пандит Дайананда. Никто даже из самых приближённых к нему учеников не знает, кто он и откуда он. И сам он откровенно сознаётся перед народом, что даже имя, под которым они его знают, ему не принадлежит, а дано ему при посвящении его в йоги.[42] Знают одно: такого учёного санскритолога, глубокого метафизика, удивительного оратора и бесстрашного карателя всякого зла, Индия не видала со времён Шанкарачарьи, знаменитого основателя философии Веданты, самой метафизической изо всех систем Индии, венца пантеистического учения. К тому же наружность Дайананды поразительная: громадный рост, бледная (скорее европейская, нежели индийская) смуглость лица, большие чёрные искромётные глаза и длинные чёрные с проседью волосы[43]. Голос у него чистый, звучный, способный передавать оттенки всякого внутреннего чувства, переходящий от нежного, почти женского шёпота, увещания, до громоподобных раскатов гнева против злоупотреблений и лжи презренного жречества. Всё это взятое вместе неотразимо влияет на нервного, мечтательного индуса. Всюду, где бы ни появился свами Дайананда, толпы падают пред ним ниц и простираются во прахе ног его. Но он не проповедует им, как, например, бабу Кешуб-Чендер-Сен, новой религии, не учит их новым догматам; он только просит их обратиться к санскритскому, почти забытому языку и, сравнив учение праотцов их, арийской Индии, с учениями Индии браминов, вернуться к чистым воззрениям на божество первобытных риши (Rishis): Агни, Вайю, Адитьи и Ангиры[44]. Он даже не учит, как другие, что “Веды” были-де получены откровением свыше; он учит, что “всякое слово в “Ведах” принадлежит к высшему разряду божественного вдохновения, возможного человеку на этой земле, – вдохновению, повторяющемуся в истории всего человечества, в случае надобности, и между другими народами…“
В эти последние пять лет у свами Дайананды насчитывают около двух миллионов новообращённых, большею частью из высших каст. Последние, по-видимому, готовы положить за него все до одного и жизнь, и душу, и даже самое состояние, что для индуса часто бывает драгоценнее самой души. Но Дайананда, как истый йог, до денег не дотрагивается, денежные дела презирает и остаётся довольным несколькими горстями риса в день. Словно заколдована жизнь этого удивительного индуса, так беспечно играет он самыми худшими человеческими страстями, возбуждая во врагах своих самый бешеный и столь опасный в Индии гнев. Мраморное изваяние не оставалось бы спокойнее Дайананды в минуты самой ужасной опасности. Мы один раз видели его на деле: отослав всех приверженцев своих и запретив им следовать за ним либо заступаться за него, он остановился один пред разъярённою толпой и спокойно смотрел в глаза чудовищу, готовому прыгнуть и разорвать его на куски… Два года тому назад он начал переводить с собственными, совершенно новыми комментариями “Веды” с санскритского на язык хинди – самый распространённый здесь диалект. Его Веда Башья[45] служит неисчерпаемым источником учёности самого Макса Мюллера, в переводах немецкого санскритолога, который постоянно переписывается и советуется с Дайанандой. Ему также многим обязано другое светило по части ориентализма – Монье Уильямс, профессор в Оксфорде, который, побывав в Индии, лично познакомился с пандитом Дайанандой и его учениками.[46]
Но здесь необходимо небольшое отступление.
Лет пять тому назад в Нью-Йорке образовалось общество образованных, энергических, решительных людей. Один остроумный учёный прозвал этих людей “членами Общества des Malcontents du spiritisme[47]”. Основатели этого клуба были люди, верившие в феномены спиритуализма, как и в возможность всяких других феноменов в природе, но вместе с тем отвергавшие теорию “о духах”. Люди эти взирали на современную психологию как на науку, стоящую ещё на самой первоначальной ступени развития, находящуюся в совершенном неведении относительно “духовного человека” и, притом, отвергающую в лице многих своих представителей всё то, чего она сама не может разом объяснить по-своему.
С первых же дней основания этого Общества (Теософского) к нему примкнули многие из самых учёных людей Америки. Члены эти разнились в своих понятиях и взглядах не менее членов любого географического или археологического общества, столько лет ссорившихся, например, из-за истоков Нила или египетских иероглифов. Но как в отношении к устьям и иероглифам все единодушно соглашались, что раз существуют воды Нила и пирамиды, то где-нибудь да находятся и эти истоки, и ключ к иероглифам; так точно и в отношении к феноменам спиритизма и магнетизма. Феномены ждали лишь своего Шампольона, а Розетский камень[48] следовало искать не в Америке или Европе, а в странах, где ещё верят в магию, где местным жречеством производятся “чудеса” (в которые общество не верило) и куда ещё не проникал холодный материализм науки, словом – на Востоке. “Ламо-буддисты”, рассуждал совет Общества, не верят ни в Бога, ни в личную индивидуальность человеческой души, но они славятся своими феноменами; а “месмеризм” известен и практикуется в Китае под названием йина и яйна уже много тысяч лет. В Индии боятся и ненавидят столь уважаемых спиритами духов, но их простые, невежественные факиры производят “чудеса”, ставящие в тупик самых учёных исследователей и приводящие в отчаяние известнейших в Европе фокусников. Многие из членов Теософского общества бывали в Индии, многие родились там и самолично неоднократно присутствовали при “колдовствах” её браминов. Основатели этого клуба, глядя на современное невежество относительно духовной стороны человека, рассуждали, что должен же когда-нибудь метод сравнительной анатомии Кювье быть допущенным и в метафизике и перейти из области физической в область психологической науки и на таких же дедуктивных и индуктивных началах, как и в первом случае; иначе психиатрия не сделает ни одного шага вперёд и запрудит даже и другие науки естествознания. Мы уже видим, как физиология мало-помалу захватывает не принадлежащие ей права охотиться во владениях чисто метафизических, абстрактных знаний, притом делая всё время вид, будто бы и знать ничего не хочет о последних, и, втеснив их в неподдающееся её страданиям Прокрустово ложе[49] естествоведения, старается подвести психологию под итог точных наук.
В скором времени Теософское общество стало считать своих членов не сотнями, а тысячами. Все “malcontents”[50] спиритуализма в Америке (а там считается спиритуалистов 12 миллионов) присоединились к упомянутому Обществу. Между тем установились коллятеральные[51] ветви его в Лондоне, Корфу, Австралии, Испании, Кубе, Калифорнии и пр.[52] Производились эксперименты, и всё более приходили к убеждению, что не одни же “духи” производят феномены.
Наконец основалась ветвь Теософского общества и в самой Индии, и на Цейлоне.[53] В числе членов Общества постепенно стало оказываться больше буддистов и брахманистов, нежели европейцев. Составился союз, и к имени общества было добавлено название “Brotherhood of Humanity” (братство человечества). Вступив в деятельную переписку с вождями религиозных и реформаторских партий Арьи Самадж (то есть Общества арийцев), основанной свами Дайанандой, все слились с Теософским обществом. Затем главный совет Нью-Йоркского Общества решил отправить в Индию делегацию с целью изучения на месте, под руководством санскритологов, древнего языка “Вед”, рукописи и “чудес” йогизма. Для этого избраны президент Нью-Йоркского общества, два секретаря и два советника. И вот 17 декабря 1878 года “миссия” отплыла из Нью-Йорка в Лондон и затем в Бомбей, куда и прибыла в феврале 1879 года.
Понятно, что при таких благоприятных обстоятельствах члены помянутой миссии в состоянии изучать страну и производить исследования тщательнее, нежели кто-либо другой, не принадлежащий к Обществу. На них взирают, как на “братьев”, и им помогают самые влиятельные туземцы Индии. Они имеют членов между пандитами Бенареса и Калькутты, между первосвященниками буддистских вихар Цейлона (учёный “Сумангала”[54], между прочим, глава пагоды на Adam’s Peak, о котором упоминает г-н Минаев в своём путешествии), среди лам Тибета, в Бирме, Траванкоре и т. д. Членов миссии допускают в святилища, где ещё не была нога европейца; поэтому они смело могут надеяться, что, несмотря на неохоту представителей точных наук и их недоброжелательство к ним, верующим, они будут в состоянии оказать более одной услуги миру и науке.
Тотчас по приезду в Бомбей мы намеревались ехать лично знакомиться с Дайанандой и поэтому немедля отправили к нему телеграмму. В ответ он нас известил, что ему необходимо ехать в Хардвар (Hurdwar), куда стекалось в этот год несколько сот тысяч пилигримов. Он просил нас вместе с тем не приезжать в Хардвар, так как там непременно должна появиться холера, и назначил нам чрез месяц местом свидания местечко у подножия Гималаев, в Пенджабе.[55] Таким образом нам оставалось довольно времени осмотреть все достопримечательности Бомбея и его окрестностей.
Решив наскоро осмотреть первый, мы согласились ехать потом, не теряя времени, в Декан, на большой храмовой праздник в Карли,[56] старинный пещерный храм буддистов, по уверению одних, – браминов, как доказывают другие. Затем, посетив Танну, на острове Сальсетте, и храм Каннари, мы намерены были отправиться в столь прославленный Афанасием Никитиным Чаул.
А пока поднимемся на вершины Малабарского холма, к “Башне Молчания”, последнему жилищу каждого из сынов Зороастра.
“Башня Молчания”, как сказано, – кладбище парсов. Тут богатый и убогий, набаб[57] и кули[58], мужчины, женщины и дети – все кладутся рядом, и от каждого из них через несколько минут остаются лишь одни скелеты… Странное, тяжёлое впечатление производят на иностранца эти “башни”, где действительно целые века царствует гробовое молчание. Подобные строения рассеяны повсюду, где только живут и умирают парсы, особенно в Сурате. Но в Бомбее из шести таких башен самая большая выстроена 250 лет тому назад, а следующая за ней по величине даже очень недавно. Это круглые, иногда и четырёхугольные строения без крыш, без окон, без дверей, от 20 до 40 футов [6-12 м] вышины и с одним лишь закрытым кустами отверстием на восток, состоящим из толстой железной дверцы. Первый труп, принесённый в новую дакхму (так называются эти башни), должен быть трупом невинного ребёнка и непременно дитяти “мобеда” (жреца). К этим башням, построенным в стороне, на холме и среди уединённого сада, никому не дозволяется подходить, даже главному смотрителю и сторожам, ближе как на тридцать шагов расстояния. Одни нассесалары[59] (носильщики трупов), ремесло коих наследственное и которым закон строго воспрещает заговаривать с живыми, дотрагиваться или даже подходить к ним, входят и выходят из “Башни Молчания”. Входя, они вносят труп, безразлично богатого или бедного человека, завёрнутый в белые и самые старые тряпки; раздев его донага, они кладут его в тот или другой из трёх кругов и, не произнося ни слова, выходят в таком же молчании из башни, запирая её до следующего покойника, а саван – тряпки – тотчас же сжигают.
Смерть у огнепоклонников лишена всего своего величия, и труп возбуждает в них лишь одно омерзение. Коль скоро замечают, что наступает последний час больного, все домашние отделяются от него, как для того, чтоб не помешать душе освободиться от тела, так и затем, чтобы живому не оскверниться прикосновением к мёртвому. Один мобед шепчет на ухо умирающему напутственное из Зенд-Авесты наставление: “Ашем-Воху” и “Ято-ахуварье”, и удаляется, пока отходящий ещё жив. Затем приводят собаку и заставляют её смотреть в лицо умирающему. Эта церемония называется сас-дид (собачий взгляд), так как собака единственное из живых существ, взгляда которого боится друкс-насу (злой демон), сторожащий умирающих, дабы завладеть их телом… Следует однако остерегаться, чтобы чья-нибудь тень не легла между мёртвым и собакой; иначе пропадает вся сила собачьего взгляда, и демон воспользуется благоприятною минутой. Где бы ни умер парс, там он и остаётся, пока за ним не явятся нассесалары, с руками, погружёнными до плеч в старые мешки. Положив покойника в железный закрытый гроб (один для всех), его относят в дакхму. Если б отнесённый в дакхму даже ожил (что нередко случается), он уж не выйдет более на Божий свет: нассесалары в таком случае убивают его. Кто раз осквернился прикосновением к мёртвым телам и побывал в “башне”, тому возвращаться в мир живых уже невозможно: он осквернил бы всё общество.[60] Родные следуют за гробом издали и останавливаются в 90 шагах от “башни”.
У отверстия, после последней молитвы, повторяемой хором носильщиками возле тела, а мобедом издали, ещё раз повторяется церемония с собакой. В Бомбее нарочно для этого дрессированная собака держится на цепи у дверец башни. Затем нассесалары вносят тело внутрь и, вынув его из гроба, кладут на отведённое трупу, смотря по полу или возрасту, место.
Мы два раза присутствовали при церемонии “умирания” и один раз при “погребении”, если позволено употребить подобное не подходящее к делу выражение. На этот счёт парсы гораздо снисходительнее индусов, считающих присутствие европейца осквернением их религиозных обрядов. Хоронили какую-то богатую женщину, и наш знакомый смотритель башни, Н. Байранжи, пригласил нас к себе в дом. Таким образом мы присутствовали при всех обрядах, находясь шагах в сорока от башни, на веранде бунгало нашего любезного хозяина. Сам он, хотя уже много лет служил при “башне”, в неё никогда не входил и даже близко не подходил. Пока собака глазела на покойника, мы, признаться, с тайным чувством отвращения глазели, в свою очередь, на огромную стаю коршунов, летавших над дакхмою. Коршуны влетали в неё и снова вылетали с кусками окровавленного человеческого мяса в клюве… Эти птицы, которые ныне сотнями свили себе гнёзда над “Башней Молчания”, привезены нарочно с этою целью из Персии, так как коршуны Индии оказались и не довольно хищными и слишком слабыми, чтобы справляться с окоченевшими трупами со скоростью, требуемою законом Зороастра. Говорят, будто процесс совершенного очищения костей от мяса требует не более нескольких минут…
По окончании обряда нас повели в другое здание, где на небольшом столе стояла превосходная деревянная модель дакхмы с её внутренним устройством. Таким образом мы могли легко сообразить, что в эту минуту происходило в башне. Представьте себе дымовую четырёхугольную трубу, стоящую на земле, и вы получите верное понятие об устройстве пустой “башни”. В гранитном помосте, в самом центре, чернеет глубокий, безводный колодец, покрытый, как водосток, железною решёткой. Вокруг, на постоянно возвышающейся к стене покатости, окружая колодец тройным кольцом, прорыты три широкие круга; в каждом из них, отделённые одно от другого тонким простенком в два вершка вышины [9 см], находятся гробообразные места для тел. Таких мест 365. В первый круг или выбой (2 фута ширины [61 см]) у колодца кладутся дети; в средний (в 4 фута [1,2 м]) – женщины; в третий (5 футов [1,5 м] ширины), расположенный у самой стены, – мужчины. Этот тройной круг служит типом трёх кардинальных у Зороастра добродетелей: “добрых дел, ласковых слов и чистых помышлений”. Последний круг принадлежит детям, первый мужчинам.
Благодаря стаям голодных коршунов, менее нежели в час времени кости всегда обглоданы до последнего атома, а через две-три недели тропическое солнце сушит скелеты до такой хрупкости, что они при малейшем прикосновении обращаются в прах, а затем их уже сваливают в колодец. Ни малейшего запаха, ни малейшего предлога для чумы или другой эпидемии. Способ этот, пожалуй, ещё вернее сжигания тела, которое всё-таки оставляет за собой в атмосфере гота[61] хотя слабый, но дурной запах. Вместо того, чтобы кормить “мать сырую землю” падалью, парсы отдают Армаити (земле)[62] лишь совершенно очищенный прах. Почитание земли, предписанное им Зороастром, так велико у них, что они принимают всякие меры предосторожности, дабы не осквернить “Коровы-Кормилицы”, дарящей их “стократ золотым зерном за всякое зерно”. Во время муссона, когда дождь льёт в продолжение четырёх месяцев ливнем и, конечно, смывает все оставленные коршунами около трупов нечистоты в колодец, вода, стекая в него, всасывается в землю уже фильтрованная: всё дно колодца, стенки которого выложены гранитными плитами, покрыто с этою целью водоочищения песчаником и углём.
Менее мрачно и гораздо любопытнее зрелище Пинжрапаля, бомбейского “госпиталя для престарелых животных”, существующего, впрочем, в каждом городе, где только живут джайны, о которых кстати здесь сказать несколько слов. По своей бесспорной древности эта секта здесь одна из самых интересных, она много древнее буддизма (появившегося около 543–477 до Р. Х.). Джайны похваляются тем, что религия Будды есть не что иное, как ересь джайнизма, так как Гаутама, основатель буддизма, был учеником и последователем одного из их главных гуру и святых. Обычаи, обрядность и философские воззрения джайнов ставят их чем-то средним между браминами и буддистами; в общественном отношении они походят на первых, в религиозном склоняются более к буддистам. Как и брамины, они придерживаются каст, никогда не едят мясного и не почитают тел святых; но вместе с буддистами они отвергают “Веды” и богов индусов, вместо которых поклоняются своим двадцати четырём тиртанкарам (Tirthankara) или джайнам, причтённым к лику “блаженных”. Опять как у буддистов: духовенство у джайнов сохраняет безбрачие и живёт в уединённых вихарах (кельях) и монастырях, выбирая себе преемников во всех классах общества. Считая священным и употребляя в духовной литературе лишь язык пали (как и на острове Цейлоне), они имеют с буддистами одну общую традиционную хронологию, также не едят после заката солнечного и тщательно подметают место, прежде чем сесть на него, боясь раздавить и малейшую букашку. Обе системы или, скорее, философские школы, следуя в этом древней школе атомиста Канады[63], защищают теорию вечных атомов или элементов и неразрушимости материи. По их понятиям, мир никогда не имел начала и никогда не будет иметь конца. “Всё в мире одна иллюзия, майя”, говорят ведантисты, буддисты и джайны. Но в то время как последователи Шанкарачарьи проповедуют Парабрахму (божество без воли, понимания и без действия)[64] и исходящего от него Ишвару, джайны вместе с буддистами отрицают создателя Мира и учат лишь о существовании свабхавата, пластического, вечного и самосозданного принципа в природе. Зато твёрдо веруют, как и все прочие секты в Индии, в переселение душ; их страх лишить жизни животное или насекомое и этим совершить, быть может, отцеубийство доводит их любовь ко всему животному царству и попечение о нём до невероятно аффектированных[65] крайностей. Не только в каждом городе и деревне устроены больницы и приюты для всех искалеченных и старых животных, но их жрецы ходят не иначе, как с кисейным “намордником” (да простят они мне это непочтительное выражение), прикрывающим им рот и ноздри, дабы дыханием своим нечаянно не истребить какой-нибудь мошки. Поэтому они и воду пьют не иначе, как фильтрованную. Джайнов считают несколько миллионов; они рассеяны в Гуджарате, Бомбее, Конкане и других местностях.
Бомбейский Пинжрапаль занимает целый большой квартал, разделённый на дворы и дворики, на лужайки и рощицы с прудами, большими клетками для опасных животных и загородками для более ручных. Заведение это могло бы служить моделью для Ноева ковчега. На первом дворе, вместо животных, мы увидели несколько сот человеческих живых скелетов: стариков, женщин и детей. То были уцелевшие жители из так называемых famine-districts (голодающих уездов), приползшие в Бомбей молить о куске хлеба. Отеческое правительство, повыгнав их из последних лачужек за недоимки податей, взимающихся во время голодного мора так же, как и в самые урожайные годы,[66] довершило своё христолюбивое попечительство о язычниках, отведя им место при больнице животных. В то время как несколько постоянно находящихся при этой странной богадельне ветеринаров перевязывали перебитые лапы у шакалов, тёрли мазью опрокаженные спины чесоточных собак и приправляли деревянные костыли хромым журавлям, там, в двух шагах, на другом дворе, умирали от голода старики, женщины и дети. Их кормили пока за счёт благотворителей животных, а животных, к счастью, было в то время менее обыкновенного. Наверное, многие из этих страдальцев с радостью согласились бы, не теряя времени, трансмигрировать в любого из зверей, так спокойно доканчивающих жизненное поприще в больнице…
Но и в Пинжрапале розы не без шипов. Если травоядные “субъекты” ничего лучшего не могут себе пожелать, то сомневаюсь, чтобы плотоядные, как, например, тигры, гиены, шакалы и волки, оставались вполне довольны как постановлениями, так и насильно предписанною им диетой. Так как сами джайны не употребляют мясной пищи и с ужасом отворачиваются даже от яиц и рыбы, то и все находящиеся на их попечении животные обязаны поститься. При нас кормили старого, подстреленного английскою пулей тигра. Понюхав рисовую похлёбку, он замахал хвостом и, свирепо скаля жёлтые клыки свои, глухо зарычал и отошёл от непривычной пищи, всё время косясь на толстого надсмотрщика, который ласково уговаривал его “покушать”. Одна решётка спасала джайна от протеста этого ветерана лесов “действием”. Гиена, с окровавленною, повязанною головой и отодранным ухом, бесцеремонно и видимо в знак своего презрения к этому для неё спартанскому соусу, сперва села в лохань с похлёбкой, а затем опрокинула её; волки же и несколько сот собак подняли такой оглушающий вой, что привлекли внимание двух неразлучных друзей, Кастора и Поллукса заведения, старого слона с передней ногой на деревяшке и исхудалого вола с зелёным зонтом над больными глазами. Слон, по своей благородной природе думая лишь о приятеле, покровительственно обвил хоботом шею вола, и оба, подняв головы, с неудовольствием замычали. Зато попугаи, журавли, голуби, фламинго, корольки – всё пернатое царство ликовало, заливаясь на все тоны над завтраком. Охотно отдавали ему честь и обезьяны, прибежавшие первыми на зов. Нам также указали на святого, кормившего в углу насекомых собственною кровью. Совершенно нагой, он неподвижно и с закрытыми глазами лежал на солнце. Всё тело его было буквально покрыто мухами, комарами, муравьями и клопами…
– Все, все они наши братья! – умилённо повторял директор госпиталя, указывая рукой на сотни насекомых и животных. – Как можете вы, европейцы, убивать и даже поедать их?
– А что, – спрашиваю, – сделали бы Вы в случае, если бы вот эта змея подползла к Вам и попыталась укусить Вас? От её укушения ведь неминуемая смерть. Неужели Вы бы не убили её, если б успели?
– Ни за что на свете! Я бы старался осторожно поймать её, а затем отнёс бы за город в пустое место и пустил бы её на свободу.
– А если б она всё-таки укусила Вас?
– Тогда бы я произнёс “мантру”[67]. А если б мантра не помогла, то я счёл бы это за определение судьбы и спокойно оставил бы это тело, чтобы перейти в другое.
Это нам говорил человек по-своему образованный и даже весьма начитанный. На наше возражение, что ничто не даётся природой напрасно, и что если устройство зубов у человека плотоядное, то стало быть ему определено самою судьбой питаться мясом, он отвечал нам чуть ли не целыми главами из Дарвиновской “Теории естественного отбора” и “Происхождения видов”. “Это всё неправда, будто первобытные люди родились с глазными зубами[68]”, рассуждал он. “Лишь впоследствии, с развращением рода человеческого и когда в нём стала развиваться страсть к плотоядной пище, то и челюсти, покоряясь новой потребности, стали изменяться, пока мало-помалу совершенно не изменили своей первобытной формы”…
Подумаешь: ou la science va-t-elle se fourrer?..[69]
Радда-Бай
Письмо III[70]
В тот же день вечером в театре Эльфинстона давалось в честь “американской миссии” (как нас здесь величают) необычайное представление. Туземные актёры играли на гуджератском языке древнюю волшебную драму Сита-Рама, переделанную из Рамаяны, известной эпической поэмы Вальмики. Драма состояла из 14 актов и несчётного множества картин с превращениями. Все женские роли игрались по обыкновению мальчиками и, верные историческому и национальному костюму, все актёры были полунагие и босые. Зато богатство костюмов – какие требовались – декорации, машины, превращения были поистине изумительны. Трудно было бы даже на сцене больших столичных театров представить лучше и вернее природе, например, армию союзников Рамы – обезьян, под предводительством их знаменитого в истории (Индии, s.v.p.[71]) полководца Ханумана: воина, государственного мужа, бога, поэта и драматурга. Древнейшая и лучшая изо всех санскритских драм Хануман-наттек (наттек [натака] – драма) приписывается этому нашему талантливому праотцу… Увы! прошли те времена, когда гордые сознанием своей белой, быть может, apres tout[72] только вылинявшей под северным небом кожи, мы взирали на индусов и других черномазых народов с подобающим нашему величию презрением! Крепко огорчался мягкосердечный сэр Уильям Джонс, переводя с санскритского такие, например, унизительные для европейского самолюбия речи, что “Хануман был-де нашим прародителем”. Коли верить легенде, то за оказанное храброю обезьяньею армией пособие Рама, герой и полубог, даровал в супружество каждому из холостяков этой армии одну из дочерей великанов острова Ланки (Цейлона), бакшазасов,[73] назначив этим “дравидским” красавицам в приданое все западные части света… Тогда, после величайшего в мире торжества бракосочетания, обезьяны-воины, соорудив из собственных хвостов висячий мост, перекинули его из Ланки в Европу и, благополучно перебравшись с супругами на другой берег, зажили счастливо и наплодили кучу детей. Эти дети – мы, европейцы. Найденные в языках Западной Европы (как в наречии басков[74], например) чисто дравидские слова привели браминов в восторг; в благодарность за это важное открытие, так неожиданно подтверждающее их древнее сказание, они чуть было не возвели филологов в сан богов. Дарвин увенчал дело. С распространением в Индии западного образования и её научной литературы, в народе более чем когда-либо утвердилось убеждение, что мы потомки их Ханумана и что притом каждый европеец (если только поискать) украшен хвостом: узкие панталоны и длинные юбки пришельцев с Запада много способствуют к укоренению этого крайне нелестного для нас мнения… что ж? уж если раз наука в лице Дарвина поддерживает в этом мудрость древних ариев, то нам остаётся лишь покориться. И право, в таком случае гораздо приятнее иметь Ханумана – поэта, героя и бога – праотцом, чем какую-либо другую “макашку”, хотя бы даже и бесхвостую…
Но Сита-Рама – пьеса представленная в тот вечер – принадлежит к мифологическим драмам-мистериям вроде Эсхиловых. Глядя на это классическое произведение отдалённейшей древности, зритель невольно переносится в те времена, когда боги, сходя на землю, принимали живое участие во вседневной жизни смертных: ничто не напоминало нам современную драму, хотя внешняя форма сохранилась почти та же. “От великого до смешного (и наоборот) всего один шаг”: от козла (τράγος ὐδή)[75], выбираемого в жертвоприношении Бахусу, мир получил трагедию; предсмертное блеяние и бодание четвероногой жертвы древности вышлифованы рукой времени и цивилизации: в итоге является предсмертный шёпот Рашели[76] в образе Адриенны Лекуврёр[77] и ужас наводящее реалистическое “брыкание” современной Круазет[78] в сцене отравления в “Сфинксе”… Но в то время как потомки Фемистокла[79], в продолжение многих лет рабства, как и независимости, принимали и продолжают с восторгом принимать все изменения, а по современным воззрениям и “улучшения” Запада, как вновь исправленное и дополненное издание гения Эсхила, – индусы, к счастью археологов и любителей древностей (вероятнее всего со времён нашего незабвенного прародителя Ханумана), так и застыли на одном месте…
С живым любопытством готовились мы следить за представлением Сита-Рамы. Кроме здания самого театра, да разве нас самих, всё было здесь туземное и ничто не напоминало нам нашу западную обстановку. Об оркестре не было и помину: вся наличная музыка должна была раздаваться за кулисами или же на самой сцене. Наконец взвился занавес… Тишина, заметная даже в антрактах при таком наплыве зрителей обоего пола, стала ещё заметнее. Видно было, что в глазах публики, по большей части поклонников Вишну[80], шла не обыкновенная пьеса, а религиозная мистерия, представляющая жизнь и приключения их любимых и самых уважаемых богов.
Пролог. Эпоха (ранее которой ещё ни один драматург не рискнул выбрать для своего сюжета) пред сотворением, или скорее пред последним появлением мира[81]: в то время как пралайа приходит к концу Парабрахма просыпается; вместе с его пробуждением вся вселенная, покоящаяся в божестве, то есть бесследно исчезнувшая с предыдущего разрушения мира в субъективной эссенции его, отделяется вновь от божественного принципа и делается видимой. Все боги, умершие вместе со вселенною, начинают медленно возвращаться к жизни. Один “Невидимый” дух – “вечный, безжизненный”, ибо он есть безусловная самобытная жизнь, – парит, окружённый безбрежным хаосом. Священное “присутствие” невидимо: оно проявляется лишь в правильном периодическом колыхании хаоса, представляемого тёмною массой вод, затягивающею всю сцену. Эти воды ещё не отделены от суши, ибо Брахма, творческий дух Нараяна, ещё сам не отделился от Вечного. Но вот колыхнулась вся масса, и воды начинают светлеть: от золотого яйца, лежащего под водами хаоса, пробиваются лучи; оживотворённое духом Нараяны яйцо лопается, и проснувшийся Брахма поднимается над поверхностью вод под видом огромного лотоса. Являются лёгкие облачка; сперва прозрачные и белые, как паутина, они сплачиваются и мало-помалу превращаются в “праджапати” – десять олицетворённых творческих сил Брахмы, владыки всех тварей, поющих хвалебный гимн Творцу. Веяло чем-то наивно поэтическим от этой непривычной нашему уху странной мелодии, без оркестра, в унисон. Пробил час общего пробуждения; конец пралайе: всё ликует, возвращаясь к жизни. На отдалившемся от вод небе являются асуры и гандхарвы[82]. Индра, Яма, Варуна и Кубера, – духи, заведующие четырьмя сторонами света. Из четырёх стихий: воды, огня, воздуха и земли брызжут дождём атомы и зарождают змия Ананду. Чудовище всплывает на поверхность воды и, согнув лебединую шею дугой, является лодкой, на которой покоится Вишну; в ногах бога сидит Лакшми – богиня красоты,[83] его супруга. “Сватха! Сватха! Сватха!”[84] – восклицают хором небесные певцы, приветствуя божество. Вишну в одном из своих будущих воплощений (аватар) будет Рамою, сыном великого царя, а Лакшми воплотится в Сите. Вся поэма Рамаяны вкратце пропета небесными хористами. Кама, бог любви, осеняет божественную чету, и от этого вмиг загоревшегося в их сердцах пламени плодится и размножается весь мир…[85]
Далее идут 14 действий хорошо всем известной поэмы, в которой принимают участие несколько сот лиц. Под конец пролога собравшиеся боги, по примеру лиц древних драм, подходят к рампе и знакомят вкратце публику с сюжетом и развязкой предстоящей пьесы, прося снисхождения зрителей. Словно оставив свои ниши в храмах, сошли с них знакомые нам божества из раскрашенного гранита и мрамора, чтобы напомнить смертным о делах…
- …“давно минувших дней,
- Преданьях старины глубокой”[86]…
Зала была битком набита туземцами. Кроме нас четырёх, не было ни одного европейца. В креслах расстилалась, как огромный цветник, масса женщин в ярких цветных покрывалах. Между прекрасными бронзовыми лицами выглядывали красивые, иногда матово-белые личики парсийских женщин, очень напоминающих красотой грузинок. Все первые ряды были заняты женщинами. От огнепоклонниц с их чистыми лицами и волосами, покрытыми белою косынкой под цветным покрывалом, их сёстры индианки отличались непокрытою головой, роскошью своих блестящих чёрных кос, закрученных греческим шиньоном на затылке, расписанным красками лбом[87]и кольцами в одной ноздре. В этом состоит вся разница их костюма.[88] Как те, так и другие страстно любят яркие, но однообразные материи, покрывают голые руки до локтей браслетами и носят одинаковые сари (покрывала). За ними, в партере, волновалось целое море самых оригинальных, нигде кроме Индии не встречающихся тюрбанов. Тут были и длинноволосые раджпуты с их прямыми, чисто греческими чертами лица, с разделённою на подбородке бородой, концы которой закручиваются за уши, в пагри, тюрбане, состоящем из двадцати аршин [14,2 м] белой тонкой кисеи, обкрученной верёвкой вокруг головы, в серьгах и ожерельях; тут были маратские брамины, с гладко выбритою (кроме центральной длинной космы волос) головой, прикрытой громадным блюдообразным тюрбаном ослепительно красного цвета с золотым, выгибающимся вперёд, словно рог изобилия, украшением наверху оного… Затем баньи[89] в трёхконечных с золотом шлемах и с красным петушиным гребешком; качхи[90] в головных уборах наподобие римских шлемов; бхилли с границ Раджастхана, в белых пирамидальных тюрбанах, концы которых троекратно обматывают им подбородок и щёки, заставляя невинного туриста предполагать, что все они вечно страдают зубною болью; бенгальцы и калькуттские бабу, простоволосые во все времена года, на улице, как и дома, носящие волосы как древние афиняне на статуях и картинах и гордо драпирующиеся в белое покрывало, совершенное подобие римских сенаторских тог. Парсы – в чёрных (архиерейских) митрах. Сикхи – последователи Нанаки[91], монотеисты и мистики в белых, как и бхилли, тюрбанах, но с длинными до пояса волосами, и сотни других племён.
Задавшись было долгом сосчитать, сколько разных форм тюрбанов в одном Бомбее, мы уже через две недели объявили себя побеждёнными: легче сосчитать звёзды на небе. Каждая каста, ремесло, секта, каждое из тысячи подразделений общественной иерархии имеет свой отличительный, блестящий пурпуром и золотом головной убор; золото снимается только в случае траура. Но зато все, даже богачи, советники муниципалитета, купцы, брамины, рао бахадуры[92] и пожалованные правительством баронеты – все до одного ходят босые, голые до колен и в белоснежных балахонах: этой полурубашки-полукафтана нельзя сравнить ни с чем другим. Сидит министр, либо раджа какой на слоне[93] – видали мы их в Бароде даже на жирафах из конюшни зверинца гаеквада[94] в торжественные дни их праздников – сидит и жуёт пансопари (бетель). Голова у него так и клонится вниз под тяжестью драгоценных камней на тюрбане; все пальцы на руках и на ногах украшены перстнями, а ноги браслетами. В тот вечер в зале не было ни слонов, ни жирафов, но зато были и раджи, и министры. С нами приехал красавец-посол и бывший воспитатель юного махараны Удайпурского (Oodeypore [Udaipur]), раджа-пандит, Мохунлал-Вишнулал-Пандиа, в бледно-розовом маленьком тюрбане с бриллиантами, в розовых же барежевых[95] панталонах и белой газовой кофте. Длинные, чёрные, как вороново крыло, волосы падали на янтарную шею, украшенную ожерельем, способным свести с ума парижанку. Бедному раджпуту ужасно хотелось спать; но он геройски выдерживал роль и, задумчиво пощипывая бородку, водил нас по безысходному лабиринту метафизических запутанностей Рамаяны.
В антрактах нас потчевали кофе, щербетами и папиросами, которые мы и курили во всё время представления, сидя напротив сцены, в первом ярусе. Нас, как идолов, обвешали длинными гирляндами из жасмина, а сам директор, дебелый индус в рогообразном малиновом тюрбане и белой прозрачной кисее на смуглом теле, несколько раз окроплял нас розовою водой.
Представление, начавшееся в 8 часов вечера, дошло до 9-го акта только в два с половиной часа пополуночи. Невзирая на стоявшего позади каждого из нас сипая с гигантскою панкой (веером), жара была нестерпимая. Чувствуя себя не в силах выдержать долее, мы отпросились домой. Вследствие этого произошёл большой переполох на сцене, как и в самой зале: воздушная колесница, на которой злой царь Равана увозил Ситу, остановилась на воздухе и застряла над скалами; царь нагов (змей) перестал изрыгать пламя; обезьяны-воины как были, так и повисли на ветвях, а бог Рама в голубом покрове и миниатюрною остроконечною пагодой на голове, вышел на сцену и произнёс нам на чистом английском языке благодарственный спич за сделанную нашим посещением честь. Опять букеты, пансопари и окропление розовою водой, и мы наконец добрались домой в четыре часа пополуночи… На другой день мы узнали, что представление окончилось в половине седьмого утра.
Радда-Бай
Письмо IV[96]
Раннее утро последних мартовских дней; светлое безоблачное небо. Ветерок, нежно ласкающий бархатной рукой заспанные лица пилигримов; по дороге опьяняющий запах тубероз[97] и жасмина в цвету, перемешанный с острыми запахами базара. Толпы голоногих браминок, стройных и величавых, в цветных сари, с блестящими, как золото, медными лоттпи (кувшинами) на головах, направляющихся, как библейская Рахиль, к колодцу. Наполненные тинистою водой священные танки (пруды), на ступенях которых индусы обоих полов совершают своё утреннее религиозное омовение. Под забором сада, под самыми скалами Малабарского холма, чей-то ручной мангуст, величиной с сурка, пожирает голову пойманной им кобры; обезглавленное туловище змеи судорожно, но уж безвредно обвивается вокруг и хлещет худощавого зверька, с видимым наслаждением взирающего на эту операцию. Возле группы животных группа индусов. Совершенно нагой мали (садовник), стоя у безобразного каменного идола Шивы, сыплет ему приношение соли и бетели, дабы отвратить гнев “Разрушителя” за убиение одного из подвластных ему богов, опасной змеи кобры. В нескольких шагах от железнодорожной станции мы встречаем скромную католическую процессию из новообращённых париев и туземных португальцев. Под балдахином, на носилках, раскачивается коричневая мадонна в одеянии туземных богинь и с кольцом в носу (sic). На руках у неё младенец в жёлтых пижамах и красном тюрбане брамина. “Гари! Гари дэваки!” (Слава, слава деве-богине!) восклицают новообращённые, не признавая ни малейшей разницы между Дэваки, матерью Кришны, и мадонной и сознавая лишь тот факт, что изгнанные браминами из пагод вследствие своей низкой касты. Или, скорее, за несостоянием в какой-либо касте, они теперь, благодаря падри[98], впускаются иногда в христианскую пагоду. Надо сказать вдобавок, дабы угодить какому-нибудь новообращённому (в католичество, либо в протестантство, но никак не в христианство) брамину, католические, как и протестантские миссионеры весьма часто не допускают обращённых парий в церковь, “дабы сразу и напрасно не оскорблять чувства касты высокорождённых браминов”. [99]
Наконец наши гарри[100], туземные двухколёсные таратайки с запряжёнными в них двумя сильными волами с громадными прямыми рогами, подкатывают к крыльцу станции. Чиновники-англичане таращат в изумлении глаза при виде европейцев в туземных позолоченных колесницах… Но мы американцы; мы приехали знакомиться с Индией, а не с Европой и её произведениями на здешней почве.
Если турист потрудится бросить взгляд на берег, противоположный бомбейской пристани, то он увидит пред собою тёмно-синюю массу, возвышающуюся, словно стена, между ним и горизонтом. То Парбуль, плоскоголовая гора в 2250 футов [685,8 м] высоты. Правый склон её крепко прижался к двум остроконечным скалам, доверху покрытым густым бором; самая высокая из них – Матаран, цель нашей поездки. Полотно железной дороги расстилается у подножия прелестнейших холмов, пересекает сотни озерков и пронизывает слишком двадцатью тоннелями самую сердцевину скалистых гхат.
Мы ехали с тремя знакомыми индусами. Двое из них – когда-то высокой касты, ныне исключены из неё и “отлучены” от пагоды за сообщничество и сношения с нами, презренными иностранцами. На станции к нам присоединились ещё двое приятелей из туземцев, с которыми мы переписывались из Америки уже несколько лет. Все они члены нашего Общества, реформаторы юной Индии и враги браминов, каст и предрассудков, сговорились отправиться вместе с нами на годичную ярмарку храмового праздника в пещерах Карли, посетив сперва Матаран и Кхандалы. Один из них был брамин из Пуны, другой мудельяр – помещик из Мадраса, третий сингалезец из Кегаллы, четвёртый земиндар – землевладелец из Бенгала, пятый – громадного роста раджпут, независимый такур из провинции Раджастхан[101], которого мы давно знали под именем Гулаб Лал Сингха, а звали просто Гулаб Сингх. Распространяюсь о нём более, нежели о других, потому что об этом странном человеке шли самые удивительные и разнообразные толки. Ходила молва, будто он принадлежит к секте раджа-йогов, посвящённых в таинство магии, алхимии и разных других сокровенных наук Индии. Он был человек богатый и независимый, и молва не смела заподозрить его в обмане, тем более, что если он и занимался этими науками, то старательно скрывал свои познания ото всех, кроме самых близких ему друзей.
Такуры почти все ведут свой род от Сурьи (солнце) и потому называются Сурьявамшами, потомками солнца, в гордости не уступая никому. По их выражению: “земная грязь не может пристать к лучам солнца”, т. е. к раджпутам; поэтому они не признают никакой касты, кроме браминов, отдавая почести лишь одним бардам, воспевающим их военные доблести, которыми они так справедливо гордятся.[102] Англичане страшно боятся их и не решились их обезоружить, как другие народы Индии. Гулаб Сингх приехал со слугами и щитоносцами.
Владея неистощимым запасом легенд и, как видно, хорошо знакомый с древностями своей страны, Гулаб Сингх оказался самым интересным из всех наших собеседников.
– Вон там на лазоревом фоне неба, – рассказывал нам Гулаб Лал Сингх, – рисуется вдали величественный Бхао-Маллин; то бывшая обитель святого отшельника, куда теперь ежегодно стекаются толпы пилигримов и где, по глупому народному преданию, – прибавил он улыбаясь, – происходят разные чудодейные дела… На верху горы в 2000 футов [609,6 м] высоты – платформа крепости, а позади её ещё другая скала в 270 футов [82,3 м]; на самой её остроконечной верхушке находится развалина другой, ещё более древней крепости, служившей в продолжение семидесяти пяти лет обителью одному святому. Чем отшельник питался, останется навсегда неразгаданною тайной; вероятно, кореньями, которых, впрочем, на голой скале никогда не бывало. Единственный доступ к этому отвесному возвышению – это высеченные в скале углубления для носка ноги и верёвочные перила. Казалось бы, одним только акробатам да обезьянам и лазить по ней! И однако же фанатизм придаёт индусам, по-видимому, крылья: ни с одним из них никогда не было ещё несчастного случая. Как на беду, лет сорок тому назад, несколько человек англичан задумали было полезть туда для осмотра развалин. Поднялся ветер, и сильным порывом их снесло в бездну. Тогда генерал Диккинсон приказал разрушить доступ к верхней крепости. А нижняя крепость (осада которой стоила бомбейской армии, в первые времена их нашествия, столько крови и потерь) теперь совершенно брошена и служит логовищем тиграм и орлам…
Между тем англичанин с длинными рыжими усами и по-видимому в разгорячённом состоянии ввалился в нашу карету распространяя сильный запах водки. Он потянул носом воздух, оглядел нас испытующим и немного презрительным взором, приостановился, подумал и вышел из кареты.
– Гей, кондуктор! – раздался его хриплый голос с подножки вагона. – Гей, разве нет здесь другой кареты, где бы можно было сидеть одному без “этих негров”?..
И гордо пошатываясь, пьяный представитель “высшей расы” отправился в другой вагон.
– Пьяная свинья! – брякнул ему вслед американец.
Англичане похваляются и весьма гордятся пред светом цивилизацией, внесённой ими будто бы в страну, и образованием, предоставленным ими “молодой Индии”. Между тем, они устроили всё это таким образом, что ни то, ни другое нейдёт Индии впрок. Индус, будь он семи пядей во лбу и принадлежи он к высшей касте, не смеет, например, брать билет в первом классе железных дорог; всякий англичанин предоставляет себе право вытурить самым бесцеремонным образом не понравившегося ему туземца, сидящего даже во втором классе, а управление железной дороги в свою очередь удерживает всю плату за второй класс, в то время, как оно заставляет ехать в третьем. Не так давно какой-то офицер приказал богато одетому туземцу выйти из кареты II класса, так как офицеру “хотелось спать”. Индус – служивший судьёй в одной из высших инстанций – учтиво отказался, предъявляя билет и замечая, что имеет на своё место полное право. Офицер позвал кондукторов, и судью-индуса вытолкали. Он жаловался, но дело замяли. Две недели тому назад случилось то же. Редактор одной калькуттской газеты был таким же образом изгнан из кареты. Might is right (право сильного) вошло здесь в пословицу. “Kali Jugi”[103] – восклицают с мрачным отчаянием старые индусы консерваторы: “Против Кали Юги (чёрного века) не пойдёшь!” Таким образом, вкоренившийся в них фатализм и уверенность, что во всё продолжение этого века ничего хорошего нельзя ожидать, и что даже самый могучий бог Шива не в состоянии ни являться, ни помочь им до конца Кали Юги, оправдывает в их глазах даже самые кровные обиды. А молодое поколение индусов, получая своё образование в университетах и в лучших высших заведениях, заучив на память Герберта Спенсера, Джона Стюарта Милля, Дарвина, а в добавок всех немецких философов, теряет веру не только в собственную религию, но и во всякую. Молодые и “образованные” индусы все почти без исключения материалисты, часто впадающие в самый крайний атеизм. Вполне уверенные, что, несмотря на весь свой ум и высшее образование, редко кто-либо из них пойдёт выше “старшего помощника младшего клерка”, они делаются либо сикофантами[104], омерзительно пресмыкаясь у ног своих властелинов, либо (что ещё хуже или, по крайней мере, глупее) начинают издавать либеральную газету, мало-помалу переходящую в революционный орган, пока наконец редактор оной не очутится в тюрьме, счастливый ещё, если не окончит в ней своего поприща…
Но всё это лишь к слову. Пред таинственным и грандиозным прошлым Индии, древней Аръяварты, её настоящее естественная тушёвка; чёрная тень на светлом фоне картины, необходимое зло в цикле каждой нации. Индия одряхлела и упала, как падают громадные памятники древности, разбившись вдребезги; но зато каждый из мельчайших кусков этих обломков останется навеки драгоценностью для археолога и артиста[105], и даже со временем может послужить ключом для философа, как и для психолога. “Древние индусы строили как гиганты и заканчивали работу как ювелиры”, – восклицает в восторге епископ Гебер в книге своих путешествий по Индии.
Описывая Тадж-Махал в Агре,[106] это поистине восьмое чудо света, он называет его “целою поэмой из мрамора”. Но он мог бы также добавить, что трудно найти в Индии хотя сколько-нибудь сохранившуюся развалину, которая бы не повествовала красноречивее целых томов о прошлом Индии, о её религиозных стремлениях, верованиях и надеждах.
Нигде в мире древности, не исключая даже фараоновского Египта, переход от субъективного идеала к демонстрации его объективным символом не выражен более отчётливо, искусно и вместе артистически, как в Индии. Весь пантеизм веданты заключается в символе двуполого божества Ардханари [107]. Он окружён двойным треугольником, известным в Индии под именем “знака Вишну”; возле него лежит лев, бык, орёл; в руке у него полный месяц, отражающийся в воде у ног его. Веданта учит несколько тысяч лет уже тому, что некоторые немецкие философы проповедовали в прошлом и настоящем столетиях, а именно, что всё объективное в мире, как и сам мир, не более как иллюзия, майя, призрак нашего воображения, заключающий в себе столь же мало действительности, как отражение луны в воде; как феноменальный мир, так и наша субъективная концепция об ego – одна грёза. Истинный мудрец никогда не поддастся обольщениям иллюзии. Он знает, что человек познаёт самого себя и становится настоящим Ego лишь по окончательном слиянии собственной частички с целым, сделавшись неизменным, вечным, всемирным Брахмой, и поэтому весь цикл рождения, жизни, дряхлости и смерти в его глазах один фантазм[108] воображения…
Вообще говоря, философия Индии, раздробленная на бесчисленное множество метафизических учений, имеет в связи с её онтологическими[109] доктринами столь развитую логику и такой замечательной утончённости психологию, что может поспорить в этом со всеми древними и современными школами, как идеалистов, так и позитивистов, и побить каждую поодиночке. Позитивизм мистера Луиса (Lewes), подымающий дыбом от ужаса каждый волосок на голове оксфордских богословов, является какою-то карикатурной игрушкой пред учением атомистической школы войсешики, с её миром, разделённым, как шахматная доска, на шесть категорий вечных атомов, 9 веществ, 24 качеств и 5 движений. И как ни трудным и даже невозможным кажется верное представление всех этих абстрактных идей, идеалистических, пантеистических и даже чисто материалистических в сжатой форме аллегорических символов, однако ж Индия сумела более или менее успешно выразить все эти учения. Она обессмертила их в уродливых о четырёх головах кумирах, в геометрических формах своих замысловатых храмов и памятников и даже в запутанных линиях и знаках на лбах своих сектантов.
Обо всём этом и о другом рассуждали мы с нашими спутниками индусами. Присевший к нам на одной из станций католический падре, учитель из иезуитской коллегии Св. Ксаверия в Бомбее, не выдержал и вмешался в разговор. Улыбаясь и потирая руки, он полюбопытствовал узнать, в силу каких софизмов мог бы наш спутник доказать что-либо подходящее к философскому объяснению, например, “в основной идее четырёх лиц этого увенчанного змеями уродливого Шивы, что торчит там при входе пагоды”, заключил он, тыкая по направлению идола пальцем.
– Очень просто, – отвечал бенгальский бабу. – Вы видите, что эти четыре лика направлены к четырём сторонам света: к югу, к северу, западу и востоку?.. Но эти лица на одном туловище и принадлежат одному богу…
– Вы прежде объясните нам философскую идею четырёх лиц и восьми рук вашего Шивы, – заметил он.
– С большим удовольствием… Считая нашего великого Рудру[110]вездесущим, мы изображаем его с лицом, повёрнутым в одно и то же время во все четыре стороны, восемь рук указывают на его всемогущество, а одно туловище напоминает, что хотя он везде и всюду, и никто не может избежать как его всевидящего ока, так и карающей его длани, но всё же он един…
Падре хотел было что-то сказать, но поезд остановился: мы приехали в Нарель.
Радда-Бай
Письмо V[111]
Прошло едва 25 лет с тех пор как Матеран, – громадная масса различных родов траппа[112], большею частью сильно кристаллизованного, – был впервые попран ногой белого человека. Под самым боком Бомбея, всего в нескольких милях от Кхандалы (летней резиденции европейцев), грозные вершины этого великана долго считались совершенно неприступными. К северу его гладкая и почти перпендикулярная стена возвышается на 2450 футов [746,7 м] над долиной реки Пен; а ещё выше возносятся до облаков бесчисленные вершины отдельных скал, холмы, покрытые дремучим бором и пересечённые долинами и пропастями. В 1854 году железная дорога пронизала один из боков Матерана и теперь доходит до подножия последней горы, останавливаясь в Нареле, котловине, где ещё недавно была одна только пропасть. Оттуда до верхней площадки остаётся около 8 миль [13 км], и туристу приходится выбирать между пони и паланкином, закрытым либо открытым, смотря по вкусу. Так как мы приехали в Нарель только к шести часам пополудни, то последний способ представлял маленькое неудобство: цивилизация одолела неодушевлённую природу, но до сих пор ещё, невзирая на весь деспотизм властелинов, не могла преодолеть ни тигров, ни змей. Если первые удалились в более непроходимые трущобы, зато змеи всевозможных родов, особенно кобры и коралилло, живущие предпочтительно на деревьях, царствуют в матеранских лесах как и во времена оны, и ведут против узурпаторов настоящую гверильясскую[113] войну. Горе запоздавшему пешеходу или даже всаднику, проезжающему под деревом, на котором засела такая змея! Кобры и другие пресмыкающиеся по земле породы редко нападают на человека, разве только в случае, если неосторожная нога наступит на них; вообще же они бегут и прячутся от людей. Но эти лесные герильясы, tree serpent, кустарные змеи, выжидают жертв. Едва голова человека поравняется с ветвью дерева, на котором приютился “враг человечества”, как, укрепясь за ветку хвостом, змея ныряет всею длиной туловища в пространство и жалит человека в лоб. Этот любопытный факт, долго считавшийся вымыслом, теперь проверен и принадлежит к фактам естественной истории Индии. В подобных случаях туземцы видят в змее посланника смерти и исполнителя воли кровожадной Кали, супруги Шивы.
Но вечер после знойного дня был так обаятелен, а лес манил нас издалека такою прохладой, что мы решились рискнуть. Среди этой дивной природы, где так и тянет стряхнуть с себя земные оковы, обобщиться с нею жизнью беспреградной, и самая смерть в Индии является привлекательною.
К тому же после восьми часов вечера всходила полная луна, и нам предстояло трехчасовое путешествие в гору в одну из тех лунных тропических ночей, за которые туристы готовы приносить всевозможные жертвы и которые одни только истинные великие художники и способны описать. Молва начинает громко произносить имя нашего В.В. Верещагина как одного из тех немногих художников, которые сумели передать на полотне всю прелесть лунной ночи в Индии…
Пообедав на скорую руку в дак-бунгало (почтовой станции), мы потребовали наши кресла-носилки. Нахлобучив покрепче на лбы наши топи с их широкими, крышей спускающимися на глаза и затылок полями, мы отправились в 8 часов вечера в путь. Восемь кули, одетых по обыкновению в “виноградные листья” из тряпок, подхватили каждое кресло и с гиком и криком, бессменными спутниками индусов, пустились в гору. За каждым креслом бежали по восьми человек переменных носильщиков, итого, не считая индусов со слугами верхом, 64 человека: армия, способная спугнуть любого забредшего из джунглей леопарда или тигра, словом всякого зверя, исключая только наших бесстрашных “кузенов” по прадедушке Хануману. Едва мы повернули из аллеи в лесок у подножия горы, как несколько десятков этих родственников присоединились к нашему шествию. Благодаря заслугам союзника Рамы, обезьяны считаются в Индии священными, почти неприкосновенными. Правительство, следуя в этом старинной мудрости Ост-Индской Компании, запрещает трогать их или даже прогонять их из городских садов, а тем менее из принадлежащих им по праву лесов. Перескакивая с одной ветки на другую, стрекоча как сороки и делая страшнейшие рожи, они, как ночные кикиморы, преследовали нас почти всю дорогу. Облитые светом полной луны, они висли как русалки на деревьях и, далеко забегая вперёд, поджидали нас на поворотах дороги, словно указывая нам путь. Один младенец-макашка так и свалился ко мне в ноги на носилки. В одно мгновение ока родительница его, бесцеремонно перескакивая по плечам носильщиков, явилась тут же и, прицепив младенца к груди, скорчила мне самую богопротивную гримасу… и была такова.
– Бандры (обезьяны) всегда приносят своим присутствием счастье, – заметил мне в утешение за измятую топи один из индусов. – К тому же, если мы видим их здесь ночью, то можем оставаться совершенно спокойными: наверное на десять миль [16 км] кругом нет ни одного тигра…
Всё выше и выше подымались мы по крутой извилистой тропе; а лес становился всё гуще, темнее и непроходимее… Под чащей иногда становилось темно, как в могиле; пробираясь под вековыми баньянами, невозможно было различить в двух вершках [9 см] собственный палец. Мне казалось непонятным, чтобы люди шли тут иначе как ощупью; но кули даже ни разу не споткнулись, а, напротив, прибавили шагу. Все, как бы сговорясь, молчали в такие минуты; среди этого тяжёлого, окутывающего нас как флёром мрака, слышалось лишь короткое, прерывистое дыхание носильщиков, да мерная, мелко выбиваемая дробь нервных шажков их босых ног по каменистому грунту тропинки… Делалось больно, стыдно за человечество, или скорее за ту часть человечества, которая способна была превратить другую во вьючных животных. И эти несчастные, с одного конца года до другого, получают за подобную работу по 4 анны[114]в день на человека: 4 анны, то есть менее 8 коп. в сутки за совершение путешествия вверх и вниз на 8 миль [13 км] в конец, не менее двух раз или четырёх концов, что составляет 32 мили [51,5 км] на возвышенности 1500 футов [457,2 м] и к тому же с ношею на шеях в 6 пудов [98,3 кг]!.. Впрочем, в Индии, стране застывшей в вековых обычаях, где всё идёт по одному шаблону, 4 анны – законная плата за день какой угодно работы. Призовите искусного подёнщика-ювелира, и он сядет, поджав ноги, на пол, без всяких инструментов, кроме щипцов и крошечной железной печи, и создаст вам, из вашего золота и по данному рисунку, украшение, достойное мастерской фей. За это, то есть за 10 часов работы, он потребует 4 анны…
Но вот чаще и чаще стали попадаться просеки и открытые площадки, где становилось светло, как днём. Миллионы кузнечиков трещали по лесу, наполняя воздух металлическим звуком, напоминающим гудение губной гармоники; гоготали совы, и стаи испуганных попугаев метались с одного дерева на другое. По временам доносилось до нас издалека, из глубины поросшей дремучим лесом пропасти, долгое, громоподобное рычание тигра, могучий рёв которого, по словам шикари (охотников), можно слышать в тихую ночь за много миль. Освещённая, словно бенгальским огнём, панорама изменялась при каждом повороте. Реки, поля, леса и скалы, расстилаясь у ног наших на необозримом пространстве, волновались, дрожали, облитые серебряным светом, переливались как волны марева… Фантастичность этой картины просто захватывала дух; кружилась голова, когда заглядывали мы в эти глубины на 2000 футов [609,6 м] вниз, при неверном свете луны; а бездна так и тянула к себе… Один из наших спутников (американец), ехавший верхом, принуждён был сойти с лошади и пойти пешком, боясь невольно поддаться влечению и нырнуть в бездну головой вниз. Несколько раз мы встречали спускавшихся с Матерана совершенно одиноких мужчин и даже молодых женщин, возвращавшихся с подённой работы на горе в свои села. Но случается нередко, что ушедший накануне человек не возвращается более и пропадает без вести. Полиция хладнокровно решает, что его унёс тигр или убила змея, и исчезновение предаётся тут же забвению: что может значить одною личностью более или менее среди 240 миллионов народонаселения Индии? Но странно поверье, существующее между племенами Декана, сгруппированными вокруг этой таинственной и доселе во многих местах ещё не исследованной горы. Поселяне уверяют, будто, несмотря на число погибающих в горах, никогда ещё не было найдено в лесу ни одного скелета: покойник, будь он целым или обглоданным тиграми, тотчас же переходит во владение обезьян; они собирают кости и хоронят их в глубоких ямах, зарывая так искусно, что не остаётся и малейшего следа. Англичане смеются над этим поверьем, но полиция не отрицает бесследного исчезновения тел. При прорытии горы для железной дороги найдено, на удивительной глубине, несколько скелетов, сохранивших как бы измятые зубами зверей и переломанные браслеты и серебряные украшения на руках, ногах и шеях. Эти украшения доказывали, что их владельцев зарывали не люди, так как ни религия индусов, ни жадность их не допустила бы их до этого… Неужели же в царстве животных, как и между людьми, рука руку моет?
Переночевав в португальской гостинице, свитой как орлиное гнездо из бамбука и прилипшей к почти перпендикулярно обрывающемуся боку скалы, мы встали с рассветом и, обойдя все знаменитые красотой points de vue[115], тотчас же собрались в обратный путь. Днём панорама являлась ещё великолепнее: недостаточно целых томов для её описания. Не будь горизонт замкнут с трёх сторон истерзанными гребнями горных хребтов – всё плато Декана явилось бы пред глазами. Бомбей – как на ладони; лиман, отделяющий город от Сальсеты, кажется тонкою серебристою струйкой. Как змея извивается он кольцами по направлению к гавани, окружает Канхери и другие острова, разбросанные словно горошинки по светлой скатерти вод, пока наконец не сливается нестерпимо блестящей линией с далёким горизонтом Индийского океана. С другой стороны северный Конкан, замыкаемый хребтом Таль-Гхат; иглообразные верхушки скал Джано-Маоли, и наконец зубчатый кряж Фунелля, грозный силуэт которого, словно замок сказочного великана, обрисовывает свои тёмные линии на далёкой, дымчатой синеве неба. Далее плоскоголовый Парбель – седалище богов, с которого Вишну во времена оные переговаривался, по преданию, со смертными. А там, внизу, где ущелье расширяется в долину, всю испещрённую громадными иглами отдельных скал, из коих каждая полна исторических и мифологических легенд, синеет другая цепь ещё более высоких и странных формой гор. То Кхандала, над которою нависла громадина, известная под именем “Герцогского Носа”. На противоположной стороне, под самою макушкой горы – “Карли” или Курли, по мнению археологов самый древний и лучше всех других сохранившийся пещерный храм Индии.
Тому, кто совершал несколько раз перевал через Кавказские горы и следил за громом и молнией под ногами с Крестовой горы, кто побывал на Альпах и посетил Риги[116], знаком с Андами и Кордельерами и обходил все углы Катскильских гор в Соединённых Штатах, – тому, надеюсь, будет дозволено выразить своё скромное на этот счёт мнение. Быть может, Кавказские горы и величественнее и в отношении красоты нисколько не уступают гхатам Индии, но то красота чисто условная, классическая, если можно так выразиться; она внушает восторг, но вместе с тем и страх: человек чувствует себя пигмеем пред этими титанами природы. Но в Индии, за исключением Гималаев, чувство, возбуждаемое горными видами, совершенно другого рода. Самые высокие вершины нагорной равнины Декана, как и треугольной цепи, обрамляющей северный Индостан, и даже восточных гхат, не превышают 3000 футов [914,4 м]. В одних только западных гхатах, расстилающихся вдоль всего Малабарского берега от мыса Кумари до реки Сурата, найдутся вершины в 7000 футов [2133,6 м] над уровнем моря. Поэтому, не с белым, как лунь, дедушкой Эльбрусом, или Казбеком, вышиной в 15-16000 футов [4572–4876,8 м][117], мы позволим себе сравнить горы Индостана. Главная и совершенно своеобразная прелесть последних состоит в изумительно прихотливой их форме. Эти горы или, скорее, отдельные вулканические скалы, иногда тесно прижатые друг ко другу, тянутся хребтами; но чаще всего, к великому затруднению геологов, разбросаны безо всякой видимой причины в самых неподходящих к ним по грунту местностях. На каждом шагу пространные долины, замкнутые, как стеной, высокими скалами, по кряжу которых часто пролегает железная дорога. Взгляните вниз: вам померещится, будто перед вами мастерская прихотливого титана-ваятеля, наполненная разбросанными полуоконченными группами, статуями, памятниками… Вот невиданная птица, распустив крылья и разинув пасть дракона, сидит на голове чудовища в 600 футов [183 м] вышины; возле неё бюст человека в зубчатом, как стена феодального замка, шлеме; далее сказочные, пожирающие друг друга животные, безрукие статуи, шары, наваленные кучами, одинокие стены с бойницами, переломленные мосты и башни. Всё это перепутано, разбросано; всё с каждым новым шагом изменяет форму, как призрачные видения во время лихорадочного сна… А главное, нет здесь ничего искусственного; всё это чистая игра природы, которою при случае и пользовались древние строители. Человеческое искусство в Индии следует чаще искать внутри, чем на поверхности земли. Как бы стыдясь или считая грехом соперничать с изваяниями природы, индусы редко строили свои древние храмы иначе, как в недрах земли. Выбрав, например, пирамидально заострённую скалу или куполообразный холм, как в Элефанте и Карли, они выдалбливали их, по преданию Пуран, в продолжение веков, по планам, грандиозность которых превышает все понятия современной архитектуры и теперь совершенно ей недоступна. Басни (?) о циклопах оправдываются в Индии ещё более нежели в Египте.
Из Нареля проезд в Кхандалы совершается по железной дороге, напоминающей своею удивительною постройкой такую же дорогу из Генуи вверх через Аппенинские горы. Это путешествие скорее можно назвать “воздушным”, нежели сухопутным. Дорога проходит на возвышении 1400 футов [426,7 м] над Конканом, и в иных местах одна сторона рельсов проложена на острых гребнях скал, в то время как другая опирается на своды арок; один виадук в Мали-Кхинде возвышается на 163 фута [49,7 м]. В продолжение двух часов мы летели между небом и землёй, окружённые с обеих сторон пропастями, густо заросшими цветущими манговыми деревьями и бананами. Надо отдать справедливость английским инженерам: они строят великолепно.
Переезд через Бхор-гхат совершён благополучно, и мы в Кхандалах. Наш бунгало построен на окраине пропасти, глубину которой тщательно скрыла природа самою роскошною растительностью. Всё в цвету, и одной этой бездонной ямы хватило бы на всю жизнь ботаника. Пальмы исчезли; они растут лишь на морских берегах, и их заменили баньяны, манго, пипалы (Ficus religiosa), смоковницы и тысячи других деревьев и кустарников, пород для нас, профанов, неведомых. Флора Индии была не раз оклеветана: её обвиняли в том, что цветы её прекрасны, но без запаха. Быть может, в известные сезоны замечание окажется справедливым; но пока цветёт жасмин и различных родов бальзамины, белая тубероза и золотистая чампа[118] – царь по величине меж цветущими деревьями, – то это совершенная неправда. От одного запаха чампы, растущей обыкновенно на гористых местностях и цветущей, как алоэ, один раз каждые сто лет, может закружиться голова; а в этот год сотни таких деревьев цвели на Матеране и в Кхандалах.
Сидя в тот вечер на веранде отеля над пропастью и невольно залюбовавшись окружающими нас видами, мы заговорились почти до полуночи. Подсевший было к нам англичанин, старый отставной капитан, заметив, что мы не делаем никакой разницы в нашем обращении между ним и индусами и не воскуриваем ему, как представителю “высшей расы”, ни малейшего фимиама, холодно раскланялся и ушёл. Всё вокруг нас спало, и мы остались одни с нашими спутниками, говорившими по-английски не хуже любого оксфордского профессора. Кхандала, большая деревня, построенная на гладкой ровной возвышенности одной из гор хребта Сахьядры[119] (около 2200 футов [670,6 м] над морем), окружена изолированными холмами такой же странной формы, как и прочие. Один из них, прямо пред нами на противоположной стороне пропасти, представлял совершенное подобие длинного одноэтажного строения с плоскою крышей и зубчатым парапетом. Индусы клялись, что в окрестностях этого холма существует потайной вход, ведущий в пространные залы под холмом – целый подземный дворец, и что есть ещё люди, владеющие тайной этой подземной обители. Святой отшельник, йоги и маг, обитающий уже много столетий в подземелье, открыл тайну его знаменитому маратхскому вождю Шиваджи[120]. В этой таинственной обители непобедимый герой, как Тангейзер в опере Вагнера, провёл семь лет своей юности; там он и приобрёл свою необычайную силу и храбрость.
Шиваджи – деканский Илья Муромец XVII столетия, вождь и царь маратхов, основатель их весьма недолгой империи. Ему одному Индия обязана ослаблением, если не совершенным уничтожением мусульманского ига. Маленького, как женщина, роста, с рукой, как у ребёнка, он, однако же, владел необычайною силой, которую, конечно, соотечественники его приписывают колдовству. До сих пор его сохраняющаяся в музее сабля приводит всех в изумление своею величиной и тяжестью, в то время как разве только десятилетний ребёнок в состоянии просунуть руку в узкую рукоятку. Основанием славы нашего героя, сына бедного офицера на службе у могульского императора, послужило умерщвление этим новым Давидом мусульманского Голиафа – Афзал-хана. Но он убил его не пращей, а страшным маратхским орудием вагхнакх, состоящим из пяти длинных стальных, заострённых, как иглы, и крепких, как железо, когтей, которые публичные бойцы надевают на пальцы правой руки и затем рвут друг друга как дикие звери на куски. Декан полон преданиями о Шиваджи, и даже английские историки упоминают о нём с большим уважением. Как в легенде о Карле Великом, одно из местных преданий уверяет, что он не умер, а обитает до поры до времени в одном из многих подземелий горных хребтов Сахьядры. Когда пробьёт час освобождения (по исчислению астрологов он недалёк), Шиваджи явится и снова освободит свою любимую родину.
Хитрые и учёные брамины, настоящие иезуиты Индии, пользуются этими глубоко вкоренившимися в народе преданиями, чтобы выманивать у них деньги, часто даже последнюю корову, кормилицу целых семей. Привожу курьёзный пример случившегося всего месяца два тому назад происшествия. В последних числах июля 1879 года появилось послание, таинственно ходившее по рукам в Бомбее. Перевожу буквально с мараттского оригинала[121]:
”Шри!” (Приветствие – непереводимое).
“Да будет всем известно, что это послание, начертанное на оригинале золотыми буквами, снизошло в присутствии святых браминов с “Индралока” (небо Индры) на алтарь храма Вишвешвара, что во святом граде Бенаресе.
Внимайте и помните, народы Индостана, Раджастхана, Пенджаба и пр. и пр. В субботу, на второй день первой половины месяца магха[122], эры Шаливагана 1809 года (то есть 1887 года), ровно через восемь лет, во время Ашвини Накшатра[123], когда солнце войдёт в знак Козерога, а время дня станет приближаться к созвездию Рыб, то есть ровно один час и 36 минут по восходу солнца, пробьёт конец кали-юги и восстановится столь желанная сатья-юга.[124] На этот раз сатья-юга продлится 1100 лет. Во всё продолжение этого периода сроком человеческой жизни будет 128 лет. Дни удлинятся и будут состоять из 20 часов 48 минут, а ночи из 13 часов и 12 минут, то есть сутки станут длиться ровно 34 часа и 1 минуту. В тот знаменательный для нас первый день сатья-юги, в четыре часа и 24 минуты после восхода солнца, к нам прибудет с далёкого севера новый царь, с белым лицом и златыми кудрями. Он сделается самодержавным владыкой Индии. Майя (иллюзия) человеческого неверия со всеми ей подвластными ересями будет низвергнута в Паталу[125], а майя достойных и благочестивых людей поселится с ними и поможет им наслаждаться жизнью в Мрётин-локе[126]. Да будет также всем и каждому известно, что тому, кто поможет в распространении сей божественной рукописи, за каждую отпустится столько грехов, сколько обыкновенно отпускается набожному человеку за пожертвование брамину ста коров. Что же касается неверующих и непомогающих нам, то они будут отправлены в Нараку (ад).
Передано и переписано рабою бога Вишну, во храме Вишвешвара, в Бенаресе – Мадлау Шрирам, в субботу, 7-го дня, первой половины шравана[127] 1801 года, эры Шаливагана…” (то есть 26 июля 1879 года).
Дальнейшая судьба этого невежественно-хитрого послания мне неизвестна; остановила ли полиция распространение его или нет – дело мудрых правителей. Но оно превосходно характеризует как легковерие погрязшего в фанатизме народа, так и бессовестность браминов, эксплуатирующих свою несчастную паству.
Чрезвычайно интересно в отношении названия Патала, буквально означающего “преисподняя”, одно открытие, сделанное санскритским учёным (свами Дайанандой Сарасвати, о котором мы говорили во втором письме), особенно если оно подтвердится филологами, как это обещано фактами. Дай-ананда доказывает, что древние арийцы знали и даже посещали Америку, которая и называется в древних рукописях Паталой – преисподней страной, из имени которой позднее народная фантазия создала ад вроде греческого ϊδής ἀ[аида]. Он подтверждает своё открытие изобильными цитатами из старейших писаний, особенно из легенд о Кришне и его любимом ученике Арджуне. В истории о последнем говорится, что Арджуна, один из пяти Пандавов, потомков династии луны, отправившись путешествовать, посетил Паталу, где и женился на вдовствующей дочери царя “Нагуала”[128], по имени Иллупль [Улупи]. Сравнив эти имена отца и дочери, мы находим следующие выводы, сильно говорящие в пользу предположения свами Дайананды.
1) Нагуалами зовутся до сей поры колдуны мексиканских индейцев, аборигенов Америки. Как ассирийские и халдейские наргалы – главы магов, так нагуаль Мексики соединяет в своей особе должности священника и колдуна, держащего при себе демона в виде какого-либо животного, обыкновенно змеи или крокодила. Они считаются потомками Нагуа, царя змей. Аббат Брассёр де-Бурбург в своём сочинении о Мексике[129] очень распространяется о них, называя нагуалов слугами нечистой силы, которая в свою очередь служит им до поры до времени. На санскритском языке змея тоже называется нага (пада), и “Царь-наг” играет большую роль в истории Будды и Пуранах. По преданию, сам Арджуна ввёл это поклонение змеям в Патале. Стечение обстоятельств и тождественность имён до того поразительны, особенно, когда мы находим их в двух совершенно противоположных сторонах света, что, право, стоило бы нашим учёным обратить на это внимание.
2) Имя жены Арджуны Иллупль [Улупи] чисто древнемексиканское, и если мы отбросим в сторону гипотезу свами, то станет совершенно невозможным объяснить себе присутствие подобного названия в санскритских рукописях задолго до христианских времён. Изо всех древних языков и диалектов только между языками аборигенов Америки постоянно встречаются подобные комбинации согласных букв как тль, пль и т. д. Особенно изобилует ими язык тольтеков (или науатль). В то время как ни в санскритском, ни в древне-греческом языках их совсем нет. Слова “Атлас” и “Атланта” не представляют удовлетворительной этимологии ни на каком языке Европы; откуда бы Платон ни взял его, сочинил название Атланты не он. А на языке тольтеков мы находим коренной слог а, атль – означающий воду и войну: к тому же по открытии Колумбом Америки, был найден у входа в залив Ураба город по имени Атлан[130]. В одной только Америке мы встречаем такие названия как Ицкоатль[131], Цемпоалтекатль, Попокатепетль[132]. Приходится требовать уж слишком многого от слепого случая, чтобы найти в нём такие странные совпадения. Вследствие этого, до удовлетворительного опровержения наукой этого предположения, которого она пока не в состоянии нам предъявить, мы позволяем себе принять гипотезу Дайананды Свами как самую благоразумную, хотя бы вследствие аксиомы, что “одна гипотеза равняется другой”. Дайананда указывает, между прочим, на Сибирь и Берингов пролив, как на путь, пройденный Арджуной 5000 лет тому назад и приводивший его в Америку.
Далеко за полночь просидели бы мы, слушая подобные легенды, если бы содержатель гостиницы не прислал предупредить нас об опасностях, угрожающих нам на балконе, ночью, особенно в лунные ночи. Программа этих опасностей состояла из трёх отделений: (1) змеи; (2) дикие звери; (3) дакоиты[133]. Кроме кобры и “скалистой змеи”, здешние горы изобилуют породой маленьких горных змей, известных под именем фурзен, самой опасной изо всех пород; укушение их убивает человека с быстротою молнии. Луна привлекает их, и целые компании этих непрошеных гостей залезают на веранды домов “греться”; им тут, во всяком случае, теплее, нежели на земле. Цветущая же и благоуханная пропасть у подножия веранды оказывалась любимым местом прогулки тигров и леопардов, приходящих туда по ночам “напиться” у протекающего внизу широкого ручья, и бродящих иногда до самого рассвета под окнами бунгало. Наконец шальные дакоиты, притоны которых рассеяны по этим неприступным для полиции горам, часто стреляют в европейцев из одного лишь удовольствия отправить к праотцам ненавистного им белляти (иностранца). За три дня до нашего приезда жена одного брамина была унесена тигром в пропасть, а две любимые собаки коменданта, спавшие на дворе, были убиты змеями. Не дожидаясь дальнейших объяснений, мы немедленно разошлись по своим комнатам. На рассвете нам предстояло ехать за 6 миль [10 км] в Карли.
Радда-Бай
Письмо VI[134]
В пять часов утра мы уже были у подножия горы, доехав в нашей колымаге на волах до последних пределов не только экипажного, но и верхового тракта. Последнюю полмилю мы ехали по настоящему взбаломученному морю камней, а теперь оставалось лишь взлезать или скорее карабкаться на четвереньках по тропе, идущей зигзагами вверх по перпендикулярному почти склону в 900 футов [274,3 м] высоты. Совершенно растерявшись, посматривали мы на эту историческую громадину, не зная, что делать далее. Почти на самом верху горы, под далеко нависшими скалами, зияло с дюжину чёрных отверстий; сотни пилигримов в праздничных одеждах ползли по склону, как разноцветные муравьи. Но тут выручили нас наши преданные друзья индусы. Один из них, приложив ладонь ко рту, закричал громким, пронзительным не то криком, не то свистом. По первому зову раздался ответный сигнал сверху; вслед за тем несколько полуголых браминов – наследственные сторожа храма, – с быстротой и ловкостью диких кошек запрыгали по скалам сверху вниз. В пять минут они уже были около нас, опутали нас ремнями и затем скорее поволокли, нежели повели, вверх. Через полчаса, измученные, но целые, мы уже стояли пред входным портиком главного храма, до той поры сокрытого со всех сторон гигантскими липами и кактусами.
Величественный, весь покрытый скульптурой портик храма (в 52 фута [15,85 м] ширины), на четырёх массивных колоннах, образующих четырёхугольник, покрыт вековым мхом. Впереди портика стоит “колонна льва”, так названная от четырёх изваянных в натуральную величину львов, сидящих спиной к спине на четырёх сторонах капители. Над главною дверью проведена огромная арка, а стены по обе стороны фасадной двери покрыты изваяниями мужских и женских фигур гигантских размеров; впереди этих фигур далеко выдвигаются из стены три колоссальные слона en relief[135] с головами и хоботами. Самый храм овальной формы в 128 футов [39 м] длины и 46 [14 м] ширины; среднее его пространство отделено от правого и левого крыла 42 колоннами, поддерживающими круглый куполообразный потолок; за ним, отделённый от первого алтарём, находится другой купол, поменее, над комнатой вроде потаённого святилища, служившего внутренним алтарём для древних первосвященников арийского племени. Оба ведущие к ней боковые коридора, не доходя до главного алтаря, обрываются, заставляя предполагать, что в древности здесь были или двери, или стена, которых теперь уже не существует. Все 42 колонны на высоких подножиях, восьмиугольных стержнях и богатой лепной работы на капителях, изображающей на каждой двух коленопреклонённых слонов с двумя сидящими на них фигурами, бога и богини, “самой изящной работы”,[136] – говорит Фёргюссон. По его мнению, храм этот, или чаитъя[137], сохранился лучше всех других и древнее прочих. Он может быть отнесён к эпохе за 200 лет до Р. Х., так как надпись, разобранная Принсепом на колонне Силастамбы,[138] гласит, что колонна льва есть жертвоприношение храму от Аджмитры Указа, сына Сахы Равизобхоти, а другая надпись указывает на посещение храма Датхамой Харой (он же и Даттагамини[139]) царём цейлонским на 20 году его царствования, то есть 163 года до нашей эры. Д-р Стивенсон[140] почему-то в этом случае настаивает на 70 годах до Р. Х., уверяя, будто Карлен (Карли) построен императором Девобхути, под надзором Ксенократа (Дханукаката). Но как могло бы это быть ввиду предыдущей и, как доказано, совершенно подлинной надписи? Даже Фёргюссон, этот известный защитник египетских древностей и враг древностей Индии, положительно доказывает, что Карли принадлежит к постройкам III века до Р. Х., добавляя при том, что «расположение отдельных частей архитектуры его совершенно тождественно с архитектурой хоров готического круглого, или со многоугольными апсидами собора».
Поперёк фасада и над главным входом находится галерея, напоминающая вполне хоры, где в католических церквях стоит орган. С паперти, кроме главных дверей, две другие двери ведут в боковые отделы, а над галереей одно, но во всю ширину среднего пространства, окно в виде подковы. Таким образом весь свет падает сверху на дагобу (алтарь), оставляя оба крыла густо заслонёнными колоннадой и в полумраке, который всё усиливается по мере приближения к задней части здания. Для зрителя, стоящего у дверей храма, дагоба должна была таким образом казаться окружённою сиянием, за которою чернела непроницаемая тьма, куда не допускался никто из непосвящённых. Фигура на дагобе, с возвышения которой “раджи-первосвя-щенники” судили в древние времена народ, носит название “Дхармы Раджи”, индостанского Миноса. Над главным храмом ещё два выдолбленные в скале яруса; в каждом из них открытая во всю ширину галерея с толстыми резными колоннами, а из галереи идут внутрь горы большие залы-кельи и внезапно оканчивающиеся по-видимому глухою стеной коридоры, иногда очень длинные, но теперь бесполезные. Сторожа и хранители святилища либо сами утратили тайну входов, ведущих далее, либо ревниво скрывают её от европейцев. Старик брамин и его два сына горько жаловались, что теперь правительство даёт им всего 600 рупий субсидий на расходы двух храмовых праздников Шивы, тогда как Ост-Индская компания давала им 2000. Сочувствуя их горю, мы не могли однако же не удивиться такому великодушию: христиане-правители выдающие субсидии на языческие празднества и поклонение идолам! Черта редкая! Только, в таком случае, зачем же тратить миллионы на миссионеров вместо того, чтобы обращать в христианство своих же многочисленных нехристей у себя дома?..
Кроме главной, есть множество меньших вихар, или храмов-монастырей, ещё древнее первой, как полагают археологи, рассеянных по склону горы; но какому именно веку или эпохе принадлежат они, о том не знает никто, кроме немногих браминов, да и те молчат. Вообще говоря, положение археологов в Индии весьма грустное: массы народа, погружённые в невежество, не могут, конечно, оказать им какой-либо помощи, а учёные брамины, посвящённые во все тайны потаённых библиотек в пагодах, молчат и стараются всеми силами препятствовать разысканиям археологов. Да и трудно и даже несправедливо было бы обвинять в этом браминов после всего случившегося. Горький опыт в продолжение долгих столетий научил их, что их единственное спасение – в осторожности и недоверчивости, иначе и национальная история и драгоценнейшие их святыни давно пропали бы бесследно. Политические перевороты, мусульманские нашествия, столько веков терзавшие Индию и потрясшие эту страну до самого основания, всеразрушающий фанатизм мусульманских вандалов, католические падре, пускающиеся на всякие хитрости, лишь бы завладеть рукописями, а затем уничтожить их, – всё это более чем оправдывает браминов. Несмотря, однако же, на вековые разрушения, до сих пор в разных местах Индии имеются обширные библиотеки, доступ куда пролил бы яркий свет не только на древнюю историю самой страны, но и на самые тёмные гипотезы всемирной истории. Некоторые из этих наполненных драгоценными рукописями библиотек находятся во владении туземных принцев и подвластных им пагод; но большая часть в руках джайнов (самой древней секты) и такуров Раджпутаны,[141]старинные, наследственные замки которых разбросаны по всему Раджастхану, как орлиные гнёзда, на вершинах скал. Знаменитые коллекции в Джайсалмере и Патане известны, но недоступны правительству. Рукописи написаны на древнем и давно забытом языке, понятном лишь великому первосвященнику и его посвящённым библиотекарям. Один толстый фолиант считается до того священным и неприкосновенным, что он повешен на тяжёлой золотой цепи среди храма Чинтамуна[142] в Джайсалмере (столице Раджпутанской пустыни) и снимается только для обчистки и нового переплёта с каждым восшествием нового понтифа. Это сочинение известного в истории Сомадитьи Суру Ачарьи, великого первосвященника до мусульманского нашествия. Мантия его сохраняется до сих пор в храме, и в неё облачается при посвящении каждый новый первосвященник. Тод[143], живший столько лет в Индии и приобретший любовь народа и браминов, какой ни один англичанин не добился и не добьётся, человек, привязавшийся к этому народу всеми силами души и написавший об Индии единственную правдивую историю,[144] не мог получить дозволения даже дотронуться до фолианта. Молва идёт, что ему предложили принять веру этой секты, обещая в таком случае посвятить его во все таинства. Страстный археолог, он чуть было не решился на это, но, принуждённый по болезни ехать в Англию, умер, не успев вернуться в своё второе отечество. Таким образом тайна этого нового тома Сивиллы[145] остаётся доселе неразгаданной.
То же рассказывают и о Карли, его библиотеках и подземных ходах. А между тем археологи даже не в состоянии определить, кем построен этот древний храм, буддистами или браминами. Огромная дагоба (алтарь), закрывающая от взоров прихожан находящееся за нею святилище, похожая на низкий минарет с куполом, осенена грибообразною крышей, называемою археологами зонтиком, как фигуры Будды и китайских мудрецов. Но шиваиты, во владении коих находится теперь Карли, уверяют, будто это приземистое здание, похожее на барабан с куполом, есть лингам Шивы. К тому же и лепная работа, и вырезанные в скале изваяния богов и богинь не допускают мысли, что этот храм есть произведение буддистов.
«Моё замечание, что пещеры чаитьи как бы мгновенно достигли высшего совершенства в архитектурном и скульптурном смысле, относится в особенности к этому пещерному храму (Карли), – пишет Фёргюссон – Возьмём ли мы нашим путеводителем Махавамсу[146] или надписи царя Ашоки, как тот, так и другой выбор приводит нас к одному и тому же результату. Очевидно, что эта страна (Декан) под именем Махараштханы (в рукописях – Махавамсы, а в надписях – Питеники) есть та самая необращённая земля, куда Ашока на десятом году своего царствования посылал миссионеров Будды; поэтому, если допустить это исчисление, то между обращением страны и сооружением этого великолепного памятника прошло не более одного века. В вихарах Карли, как и в других таких же, принадлежащих к той же эпохе, нет ничего такого, что не могло бы быть изваяно из натуральной пещеры того же времени; но в храме Карли мы видим такое смешение стилей и такое совершенство работы, что находимся более чем когда-либо в затруднении – что такое этот памятник древности? Храм ли то браминов или буддистов? Выстроен ли он по плану, начертанному после смерти шакьи Синги[147], или это есть принадлежность ещё более древней религии? Наконец, если мы правы, полагая, что рытьё пещер началось только после царствования Ашоки (в III веке до Р. Х.)[148], то для чего же, в то время как другие вихары (за исключением, впрочем, десятков иных, как Элефанта, Аджунта, Каннери и пр., которые Фёргюссон старается придвинуть по возможности ближе к нашим временам) так малы и ничтожны, был предпринят подобный громадный труд прорытия скалы и сооружения именно этого храма?»
“That is the question”.[149] Если Фёргюссон, вынужденный фактическими доказательствами надписей допустить древность Карли, всё-таки станет утверждать, что Элефанта гораздо современнее, то ему едва ли когда-либо удастся выпутаться из этой дилеммы, так как стиль архитектуры тот же, а скульптурная работа ещё грандиознее. Приписывать храмы Элефанты и Каннери буддистам, а затем относить их постройку к IV и V, а другую к X столетиям нашей эры, значит навязывать истории странный и ни на чём не основанный анахронизм. После I века по Р. Х. в Индии не оставалось ни одного влиятельного буддиста; разбитые и преследуемые браминами, они бежали тысячами на Цейлон и за Гималаи. Со смертью царя Ашоки буддизм стал быстро распадаться, и в Индии его совершенно вытеснил теократический брахманизм. Гипотеза Фёргюссона, что изгоняемые с материка последователи Шакьи Синги, вероятно, искали убежища на окружающих Бомбей островах, также едва ли может выдержать критический анализ. Элефанта и Сальсета под боком Бомбея (всего в двух и пяти милях [3,2 и 8 км]) наполнены древними храмами индусов. Возможно ли предположить, чтобы брамины, более чем когда-либо в силе пред периодом, предшествовавшим мусульманскому нашествию, фанатики и смертельные в ту эпоху враги буддистов, дозволили ненавистным им еретикам строить буддистские пагоды не только в своих владениях вообще, но в “Харипури” в особенности, на острове их священного “города пещерных храмов”? Не нужно быть ни специалистом-архитектором, ни великим археологом, чтобы с первого же взгляда убедиться в том, что храм Элефанты, например, есть работа циклопов, требующая столетий, а не годов. В то время как в Карли всё выстроено и высечено по строго обдуманному плану, в Элефанте как бы тысячи разных рук, задаваясь каждая своим планом и следуя собственной идее, созидали каждая в своё время. Все три пещеры, например, выдолблены внутри твёрдой порфировой скалы: как средний большой, так и два боковые храма. Первый храм, почти квадратный (130 1/2 ф. длины и 130 ширины [39,8 х 39,6 м]), имеет 26 толстейших колонн и 16 пилястр. Некоторые колонны отстоят друг от друга на 12 [3,66 м], другие на 16 футов [4,88 м], на 15 и три вершка [4,7 м], на 13 и два вершка [4,05 м] и так далее. Такую же разницу мы находим в пьедесталах колонн, где каждая разнится украшениями и чистотой работы от другой. Так почему же, спрашивается, не обратить внимания на объяснения браминов? Они говорят, что храм был задуман и начат сыновьями Панду, после “великой войны” Махабхараты, и что они завещали всем верующим продолжать работу по своему усмотрению. Затем храм строился целые три века. Желающий искупить свои грехи приносил резец и работал; часто многие из членов царских фамилий и сами цари лично принимали участие в труде…[150] Если храм был мало-помалу заброшен, то это потому, что люди предыдущих и нынешнего поколения сделались слишком недостойными посещать подобное святилище.
Что касается Каннери (или Канхари) и многих других пещерных храмов, то не подлежит ни малейшему сомнению, что все они сооружены буддистами. Во многих найдены превосходно сохранившиеся надписи, и стиль ничем не напоминает символические постройки браминов. Епископ Гебер относит древность Каннери к I или II веку до Р. Х. Но Элефанта гораздо древнее и принадлежит к доисторическим памятникам, то есть к эпохе, следовавшей непосредственно за “великою войной” Махабхарата – время которой именитый и учёный д-р Мартин Хауг отодвигает чуть ли не до Потопа, а столь же именитый и не менее учёный Макс Мюллер придвигает почти к первому веку христианства.
Радда-Бай
Письмо VII[151]
Ярмарка была в самом разгаре, когда мы, окончив наши визиты в кельи, облазив все ярусы и осмотрев знаменитую «залу бойцов», спустились вниз не по лестницам, от которых не осталось и следа, а как спускаются вёдра в колодцы – на верёвках. До трёх тысяч народа собралось из соседних сёл и городов. Женщины, разукрашенные до пояса, в блестящих сари, с кольцами в ноздрях, ушах, губах и всюду, где только можно их прицепить, с гладко зачёсанными назад блестящими от кокосового масла волосами, цвета воронова крыла, с синим оттенком, косы коих были украшены пурпуровыми цветами, посвящёнными Шиве и Бхавани, женской половине бога. Перед храмом образовались ряды лавочек и палаток, где продавались все принадлежности обычных жертвоприношений: ладан, ароматические травы, сандаловое дерево, рис и гулаб, красная краска в порошке, которым они мажут идолов и затем собственные физиономии. Факиры, байраги, госсейны, весь штат нищенствующей братии прохаживались в толпе; обвитые чётками, с обмазанными синеватою сажей лицами и телом, с их длинными, всклоченными волосами, собранными на макушке в чисто женский шиньон, они со своими бородатыми физиономиями представляли пресмешное подобие голых обезьян. Некоторые из них, вследствие самобичевания, были страшно изранены. Были тут и буни – змее-чародеи, с целыми десятками кобр, фурзенов и змей вокруг пояса, шеи, рук и ног – модель, достойная кисти художника, желающего изобразить мужскую “фурию”. Особенно отличался между ними один джадугар (колдун), обвивший себе голову кобрами как чалмой; раздув капюшоны и подняв свои зелёные, листообразные головы, кобры безостановочно шипели – шипением, напоминающим тяжёлое дыхание умирающего; оно слышно за сто шагов. Быстро высовывая тонкое жало[152], они сверкали маленькими злыми глазками на всех проходящих… Между прочим, вот что случилось: передаю факт так точно, как происходил, безо всяких объяснений и собственных гипотез, а прямо предоставляя разгадку проблемы натуралистам.
Надеясь, вероятно, на заработок, буни в змеиной чалме прислал к нам мальчика, предлагая показать, как он очаровывает змей. Не желая терять случая, мы согласились, с условием установить между нами и его питомцами то, что Дизраэли назвал бы “учёною границей”; поэтому с начала представления мы сидели шагах в пятнадцати от “магического круга”. Не стану распространяться обо всех штуках и фокусах, какие нам удалось видеть; перейду прямо к главному факту. Вынув вагуду (род дудки из бамбука), буни сперва погрузил змей в каталептический сон. Наигрываемая им мелодия, тихая, медленная и чрезвычайно оригинальная, усыпила было и нас самих: по крайней мере, всех нас вдруг стало непреодолимо клонить ко сну безо всякой видимой причины. Из этого полулетаргического состояния мы были вырваны нашим приятелем Гулаб Сингхом, который, нарвав какой-то травы, советовал нам натереть ею крепко виски и веки. Затем буни вынул из грязного мешка что-то вроде круглого камешка, похожего на рыбий глаз или чёрный оникс с белою крапинкой посредине, величиной с наш гривенник[153]. Он уверял, что кто купит этот камень, тот “очарует” им какую угодно кобру (на других змей камень не действует), мигом парализуя и под конец усыпляя её: к тому же это единственное, по его словам, спасение против укушения кобры; следует только немедленно приложить этот талисман к ране, к которой он тут же и пристанет так крепко, что его нельзя будет оторвать; затем, высосав весь яд, камень отпадает сам собою, и тогда минует всякая опасность…
