Вниз по течению
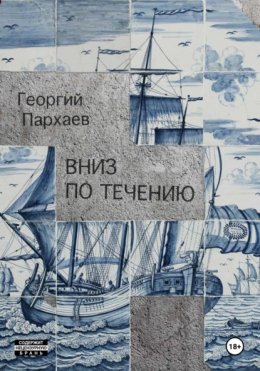
Глава 1.
Они встретились в темном стекле вагонной двери. Фоном стремительно проносились бесконечные внутренности тоннеля. Она смотрела на него из пространства между потрескавшимся желтоватым «не прислоняться» и экспрессивно нацарапанной похабной надписью. Смотрела прямо ему в глаза. В этом не было никаких сомнений.
Поначалу он поглядывал искоса, подсознательно повинуясь неписанному правилу, не допускающему просто так смотреть в глаза посторонним людям, то и дело отдергивал взгляд, словно его неожиданно застали за чем-то постыдным. А отдернув, тут же суетливо прикидывал в уме, как это выглядит со стороны, и искал нелепые и ненужные оправдания своему поведению перед окружающими и главное – перед ней. Он то просто отворачивался, то, придав лицу сонное выражение, притворялся задремавшим, а один раз так старательно стал изображать заинтересованность надписью «не прислоняться», что даже поковырял ее ногтем, отшелушив кусочек мягкого знака. Устыдившись мелочности и глупости этого своего маневра, быстро отдернул палец и до хруста сжал кулак. Однако постепенно, как бы получив разрешение у неподвижного взгляда в поцарапанном темном стекле, он все реже стал отводить свой и в конце концов зафиксировал его окончательно.
Зрительные контакты между ними случались и раньше, но этот был самым долгим. Павел Резумцев уже давно отметил для себя симпатичную девушку, которая почти каждое утро садилась в пригородную электричку через две остановки после него. Потом они попутно пересаживались на метро, где, проезжая несколько станций, он выходил раньше.
Павел вообще любил рассматривать встречающихся людей – прохожих на улице, попутчиков в транспорте и посетителей общественных заведений. Упражнения в физиогномике он считал для себя, начинающего писателя, занятием весьма полезным. Встречая человека, он старался сразу охарактеризовать его, подобрать ему подходящее имя или, что чаще случалось, прозвище, и даже снабдить его краткой биографией. К этой забаве он проникся еще в детстве, когда подобными же упражнениями занимался, гуляя с отцом. Позже, в старших классах, он привил ее школьным товарищам, что не составило особого труда, поскольку данное занятие имело долю потенциального цинизма, столь притягательного в их трепетном возрасте. Какое-то время существовал даже клуб «Юный киник» имени Диогена Синопского, председательствовал в котором, разумеется, Резумцев. Связь с древнегреческой философией была весьма натянута, но Павел объяснил ее стремлением к новым идеям вразрез с общепринятыми устоями. Приятели поверили на слово. Чтобы удостоиться посвящения в киники, нужно было пройти следующее испытание: в присутствии нескольких членов клуба рассказать о случайном, незнакомом человеке какую-нибудь историю, подтверждая ее реальными деталями его облика. Или исходя из внешнего вида двух или большего количества людей, предлагалось воспроизвести всю сюжетную линию их отношений. Особенно ценилось, если история содержала эпатирующие моменты, но в то же время не скатывалась в откровенную похабщину – ведь клуб, как-никак, считался интеллектуальным. После этого экспромта комиссия по зачислению высказывалась и голосовала. Деятельность клуба, помимо подобных очерков, заключалась в литературных пробах, философских изысканиях, а также в саботировании школьных правил, что особенно манило новых участников. Учителя относились к деятельности юных киников разнообразно: некоторые одобрительно (порой по глухоте или невежеству принимая общество за химических исследователей), другие – с опаской, третьи – с открытой враждебностью, чем еще больше раззадоривали острословов. Среди однокашников также не было однозначного восприятия. Большинству деятельность клуба нравилась – всегда было какое-нибудь развлечение. Членов же антиинтеллектуального сообщества, которые, по выражению Павла, ограничивались физиологическим познанием мира и погрязли в косноязычии, Резумцев и его сподвижники откровенно раздражали. Время от времени происходили столкновения, перевес в которых обычно бывал на стороне грубой силы, хотя иногда доводилось и отшутиться. Подобные контакты Резумцев воспринимал очень болезненно – он всегда чувствовал себя крайне некомфортно с людьми примитивными и агрессивными. С одной стороны, они были для него понятны и предсказуемы, но с другой, вызывали психологическую и телесную скованность.
Но в какой-то момент отношение вдруг переменилось. Недавние недруги зауважали киников и, разумеется, Резумцева как их предводителя, и некоторые даже стали проситься в их ряды. Дело оказалось во внимании женского пола, которые проявляли явный интерес к интеллектуальной элите. Физическое воздействие тут оказалось неэффективным, пришлось приобщаться. Но случилось так, что этот факт и положил конец клубу имени Диогена Синопского. Напор поступающих возрос. Многим из них, несмотря на нижайший уровень экзаменационного выступления, отказывать было неудобно –слишком свежо еще в памяти было время вражды. Так что через некоторое время экзамены были вовсе упразднены. Прочное отсутствие мысли во взгляде в сочетании с внушительными дельтовидными мышцами и прочими габаритами делало фразу «ты не принят» труднопроизносимой. Началось разложение: неофиты под знаменем «Юного киника» творили всяческие безобразия, у старых заслуженных членов в этом соседстве начисто пропал весь энтузиазм, интеллектуальная планка безвозвратно рухнула. Школьные годы, тем временем, подходили к концу – клубу и так оставалось жить недолго, поэтому Павел, без особого сожаления, принял решение о его роспуске и ушел в одиночное плавание.
Своей будущей профессией Резумцев, к тому моменту, избрал литературу. Привычку детства и юности он понес с собой дальше, со временем обогащая ее профессионально, наращивая, так сказать, на скелет своих творческих данных мясо опыта. Некоторые истории, казавшиеся особенно удачными, он записывал в надежде вставить их в одно из своих будущих грандиозных произведений. Благо, материал был неиссякаем.
Критерии, по которым Павел раздавал прозвища и жизнеописания, были самыми разными: особенности анатомии лиц и тел, названия читаемых книг, цвета и фасоны одежды, наличие домашних животных или какой-нибудь особенной ноши, оригинальные голоса, дикции и произношения, если представлялся случай их услышать. Так появились Скрупулезный (депрессивный сотрудник секретной лаборатории, страдающий рядом невротических и венерических заболеваний и живущий под гнетом постоянной опасности разоблачения в промышленном шпионаже в пользу Парагвая, – Асунсьон не дремлет), Доярка (лауреат Тридцать Пятого Международного Чемпионата по синхронному доению крупного и мелкого рогатого скота в Сызрани, автор методического пособия «Повышаем надой. Теория и практика» и разработчица оригинальной системы упражнений для повышения скорости доения «Вымя и время», а также бессменный председатель общества профилактики и борьбы со скотоложеством), Атлетический Дед (потомок белоэмигранта, под видом участия в марафоне «Бегуны без границ», пробирающийся в Читу для завладения фамильным кладом, спрятанным в 1919 году, который, в свою очередь, еще в 70-х случайно обнаружил бамовец Василий Типичных и добросовестно пропил свои законные двадцать пять процентов), а также Досрочно Освобожденный, Инноваторша, Вольный Каменщик, Весна-210, Конкистадор, Оптимистичный Могильщик, Дуче, Заклинательница Гиббонов и еще целая армия разнообразных персонажей.
В своей электричке за время учебы в Институте литературы и языкознания и, вот теперь, в аспирантуре Павел успел изучить многих постоянных попутчиков. Он знал, кто когда войдет и выйдет, на какое место постарается сесть или встать, в какой момент включит плеер или откроет книгу, и даже какого примерно она будет содержания. Однако при том, что многие были ему уже хорошо знакомы, можно сказать, как родные, в контакт Резумцев ни с кем не вступал. И хотя это не считалось зазорным в электрическом обществе, – многие тут знакомились, занимали друг другу места, ехали общаясь и, судя по всему, продолжали это общение и во внешней жизни, – Павел предпочитал оставаться созерцателем. Этой жизненной позиции он придерживался, нужно заметить, не вполне осознанно. На словах, наоборот, он всегда настаивал на необходимости активной социальной роли для всякого мыслящего человека. Но, тем не менее, наблюдателем он чувствовал себя гораздо гармоничнее, чем в гуще событий и действий.
Очередная яркая станция, родившаяся из чрева тоннеля, свела на нет содержание вагонного стекла.
Жалко…
Она, та с которой Павел сейчас играл в эйфорические гляделки, тоже имела свой алгоритм действий в электричке. Обычно к ее платформе состав подъезжал уже плотно наполненный людьми. С ручейком одноперронников она просачивалась через тамбур и, пройдя в вагон, вставала по левую сторону. Иногда приятельница по электричке, ездившая с какой-то отдаленной станции (Павел не знал, откуда именно – она садилась раньше него), занимала ей место и без умолку рассказывала о своих хлопотах: проблемах с сожителем, сдаче экзамена на водительские права, устройстве на работу, недугах матери и так далее. Павел не старался специально вслушиваться в эти монологи, но обрывки фраз за многократные встречи не раз долетали, тем более, что голос был густой и зычный, под стать внешности – крупная девушка, на вид чуть постарше своей попутчицы, скульптурная монументальность носа и подбородка, некоторая величавость во взгляде и движениях придают сходство с древней римлянкой, почтенной матроной – женой какого-нибудь префекта или приора. Павел прозвал ее Гекубой. Поначалу его несколько смущала историко-географическая неточность, но потом решив: «А, плевать – античность она и есть античность», – окончательно остановился на этом именовании, тем более, что фонетически оно ей ну очень шло.
Но Гекуба ездила не каждый день, видимо, работа у нее была посменная. В отсутствие вагонной подруги, Она просматривала конспекты или читала книги, чаще всего профессиональные – учебные – что-то с вычислениями (Занятая… Старательная…), но иногда мелькали названия и художественных произведений, и совсем уж нечасто она слушала плеер или просто задумчиво смотрела в окно. Был ли примечен сам Павел, определенно сказать он себе не мог. Да, конечно, она смотрела в его сторону и даже встречалась с ним глазами, время от времени (он-то на нее смотрел весьма часто), но сказать, что существовало что-то отличительное в ее взгляде на него, от взгляда на всех остальных, было бы весьма самонадеянно и беспочвенно. Кроме того, Павел обычно был расположен таким образом (ведь и у него было свое любимое место в вагоне), что незнакомка (незнакомка… Какое пошлое слово…) была видна ему в профиль, так, что он мог ей любоваться сколько угодно без каких бы то ни было лишних телодвижений, а ей, если бы у нее вдруг возникло желание взглянуть на него, нужно было бы специально поворачивать голову.
Резумцева то и дело одолевали мысли примерно следующего содержания: «Вот лучше бы я занимал ей место, а не эта… Гекуба. Она бы входила, улыбалась мне… И вокруг все бы отмечали это… с завистью.... хм… Такая девушка, мол. Целовала бы… в щеку… или… ну да, так даже трогательнее…».
Иногда Павел ездил вместе со своим приятелем Ильей Крыжовиным, который работал то ли инженером, то ли каким-то компьютерщиком (запомнить его скучную должность никак не удавалось) на одном из городских предприятий и несколько раз в месяц совпадал с ним в своем утреннем расписании. При нем Резумцев никак не обнаруживал своего интереса к незнакомке (опять это слово). Однако размещаясь в вагонном пространстве, делал такой маневр, чтобы Илья оказывался к девушке спиной. Этим он убивал двух зайцев: получал возможность во время дружеской беседы иногда бросать взгляд на ее профиль и избегал возможного интереса со стороны своего попутчика, а то и какого-нибудь похабного высказывания, способного нарушить сакральность созданного им образа. Ведь Крыжовин отличался своим мизантропическим взглядом на человечество и постоянно отзывался об окружающих резко и ядовито. Обычно он это проделывал громогласно, сопровождая свои остроты размашистой жестикуляцией, так что быть его собеседником среди незнакомых людей порой было весьма неловко. Да и среди знакомых тоже.
Желтый кафель станционной стены отъехал, восстановив изображение. Глаза на месте.
Черт… а захватывает… что же дальше будет? Ё! Мне ж на следующей выходить!
Когда электричка подъезжала к платформе, смежной со станцией метро, вагон освобождался почти полностью. Здесь поток пассажиров разделялся: доcтопочтеннаяная часть общества толпилась, поднимаясь на мост через пути, менее же сознательные пассажиры прыгали с перрона и следовали напрямик к бреши в станционном заборе. Павел обычно причислял себя ко второй категории. Незнакомка (тьфу ты!)действовала когда как. Когда она спрыгивала с платформы, Павел (он, благодаря правильно занятому месту, выходил из вагона одним из первых) специально приостанавливался посмотреть, как она это делает, – ему вообще было любопытно наблюдать за женщинами, преодолевающими некие препятствия (как-то это возбуждало, что ли… бодрило), а уж за ней, понятное дело, особенно. Часто ее легкий прыжок заставал Резумцева как раз в заборном проеме, и, чтоб понаблюдать за ее ловкостью, ему какое-то время приходилось провести в затейливо-скрюченной позе, вызывая волну негодования, окриков и даже толчков вереницы нетерпеливых пассажиров, стремящихся поскорее проникнуть в ту же дырку и через нее и начать свой трудовой день.
Или дальше поехать? А когда ж она выходит? До конца, наверное… Так, что у меня сегодня?.. А, ладно…
Через некоторое время оба потока вновь сливались, чтобы в едином порыве погрузиться в недра подземки и быть развезенными по местам своей будничной деятельности. В частности, Павел был увлекаем либо в институт, где, помимо учебы в аспирантуре, он уже преподавал на кафедре Прозы малой формы, либо в редакцию еженедельной газеты «Наш город», где он подрабатывал внештатным сотрудником, а вернее, был одновременно редактором, корректором, репортером и критиком, поскольку это место являлось основным источником его дохода. В обязанности его на данном поприще входила корректура статей местных журналистов, проверка интервью городских властителей на предмет грамматических и прочих ошибок, сочинение небольших очерков местного уровня и обзор культурных событий.
Исчезая бурном пассажиропотоке, она терялась из поля зрения Павла до следующей утренней электрички. Но сегодня случилось иначе.
Резумцев даже не заметил, как они вошли в одну дверь вагона (поезд сегодня подъехал быстро, и посмотреть по сторонам, праздно коротая его ожидание, возможности не представилось). Павел, как всегда старался делать, вошел в вагон последним, одновременно и выказывая галантность, и питая корыстный интерес прислониться к закрытым дверям, которые в следующий раз разомкнутся только через пять станций.
Был понедельник и население, застоявшееся-залежавшееся за выходные, с повышенной энергией перемещалось по своим делам. Вагон был наполнен до упора. Павла сплюснуло и распластало по закрывшимся за ним дверям. Чтобы по возможности дистанцироваться от вошедшего прямо перед ним крупного смуглого мужчины, как раз намеревавшегося потеть прямо сквозь пиджак (Бай! Крупнейший скотовладелец Уйгур-Чагатайского района, четыре жены, полторы тысячи овец, пятьдесят верблюдов, потомок знатных манапов и батыров. Вот только шайтан его знает, зачем он тут-то оказался), он произвел всей мускулатурой усилие и, отжавшись от двери, резко перекрутился лицом к стеклу, надписи «не прислоняться» и матерному слову. И к Ней!
– Уважаемые пассажиры, уступайте места пожилым людям…
Неприятный голос… с удовольствием бы уступил свое… пожилым… хм, пожилым… по живым… хе, уступайте места по живым людям и инвалидам… какие-то призывы к немотивированной агрессии… мерещатся… хотя, почему немотиви…
На этой мысли Резумцев рассосредоточенным взглядом уловил, что из бурой глубины мелькающего тоннеля на него кто-то смотрит. После внезапности этого открытия и первоначального неверия настал этап, когда, пытаясь истолковать значение этого взгляда и льстя себе, Павел мучительно пытался обнаружить в нем признаки восхищения, чувственности и даже сладострастия. При этом сам он старался придать своему ответному взору как можно больше глубокомысленности и пронзительности, для чего подергивал то правым, то левым нижними веками и напрягал надбровные дуги с такой силой, что немного шевелились даже уши. Но глаза над «не прислоняться» были внимательны и очень просты. Пожалуй, главным определяющим их качеством была именно простота. И Резумцев через пару станций осознал глупость своих претензий на таинственность и сложность и вернулся к своему естественному виду. Спустя некоторое время в вагоне стало немного просторнее, но визуальный контакт не прервался. Бай переместился от него почти на целый метр вглубь вагона, и у Павла появилась возможность повернуться и взглянуть прямо, без посредничества стекла. В какой-то момент такая мысль промелькнула в его голове, но была тут же отвергнута, поскольку это нарушило бы уже сложившиеся иллюзорные правила игры, состоящие в том, чтобы вновь и вновь встречаться после слепых плиточных станций и засветов тоннельных фонарей. Сколько расставаний, столько и новых встреч. Еще и еще. Резумцев продолжал смотреть в стекло и оттуда получал немую, но несомненную поддержку этого своего решения. В уме его, между тем, мелькали мысли о литературных аналогах текущей ситуации. Примеров не находилось. Это вызвало еще большее удовольствие от осознания нового слова во взаимоотношении полов и той исключительности, что выпала на его долю. На лицо выползла блаженная улыбка.
Убрать! Принять серьезный вид! А… все начистоту… пусть… плывем по течению!
По лицу пробежала мимическая судорога, улыбка сохранилась. В ответ в стеклянной поцарапанной темноте между сырым плечом Бая и профилем тщедушного школьника в гигантских наушниках возникла ответная улыбка, окончательно лишившая Павла желания усложнять или приукрашивать свою наружность.
– Kapituliуren! – прокричал невесть откуда взявшийся какой-то кинематографический германец в голове Резумцева и выкинул белый флаг.
Павел отер вспотевшую ладонь о стекло рядом с тревожным приказом. Мысль о неэстетичности мокрого пятипалого следа, волочащегося за его рукой, заставила его на миг потерять глаза в стекле, перебросив фокусировку. Дернув по следу рукавом куртки, он, испуганный, что контакт может прерваться, вернулся в, уже ставший родным и уютным, квадратный дециметр вагонного окна. Все было на месте. Ему даже померещилась мимолетная ухмылка, то ли по поводу его суеты с протиранием, то ли от чересчур взбудораженного возврата к общению. Но, в любом случае, усмешка была совсем не злая и никак не портила игру.
Конечная. Раздалось монотонное, безэмоциональное повеление выйти из вагона.
А?!
Брови в стекле едва заметно приподнялись к процарапанному ругательству. Из темноты вырвалась залитая ярким светом станция и поглотила девушку. Только все медленнее проскальзывающие силуэты людей в темных одеждах, наполнявших платформу, давали шанс для новых, дробных встреч. Поезд затормозил, но двери по каким-то техническим причинам еще несколько секунд не открывались, и Павел пристально смотрел в грудь высокого лысого мужчины в бордовом свитере, ожидающего посадки, чем даже успел вызвать беспокойство последнего. Но вот, что-то щелкнуло и двери стали раздвигаться, с глухим скрежетом соскребая с груди Лысого взгляд, за какие-то двадцать минут пути ставший настолько привычным, что теперь он уже был просто обязан длиться вечно. Вагон исторг из себя людскую массу. Резумцева вынесло. С замиранием и напряженной дрожью в теле он отошел в сторону и оглянулся.
А вдруг это всё?
Мимо прошествовал Бай, к этому времени в окончательно пропотевшем пиджаке, но с видом настолько величественным, что так и тянуло ему поклониться, и Павлу даже показалось, что Лысый как будто немного нагнул блестящую голову. Пропрыгал хилый Меломан, тщетно старавшийся обогнать широкого Бая. Далее следовали две весьма некрасивые женщины, усатый подполковник, бесформенная девушка в спортивных штанах, бойкий пенсионер и еще пара десятков скучных персонажей. Всё.
Всё.
Где же?.. может, в другую дверь?.. и что, обратно ехать?.. нет, не может быть!
Поток иссяк, уступив место нетерпеливым загружающимся, которых возглавил Лысый. Вдруг между движущихся тел Павел увидел. Поймал! Она стояла напротив него по другую сторону топчущейся вереницы и тоже ждала. Но вот пассажиры стали редеть, зашли последние. Они остались наедине.
Перед Резумцевым стояла девушка лет двадцати-двадцати двух, хотя кто возьмется с уверенностью определить точный возраст женщины от шестнадцати до тридцати пяти? Среднего роста, может быть чуть пониже, – ботинки на толстой подошве вводили в заблуждение. Юбка странного покроя, неопределенного цвета и длины, видимо, собственного, домашнего производства. Джинсовая приталенная курточка. Шерстяной шарф крупной вязки (начинало холодать) перехватывал густые, свободно переплетенные волосы золотисто-бурого оттенка. В руках была матерчатая сумка, из которой виднелись помятые толпой и истрепанные от частого перелистывания края учебных бумаг. Черты лица правильные, но чуть более ассиметричные, чем допускается общепринятыми канонами красоты, что, впрочем, совсем не портило его, а, напротив, наделяло индивидуальным обаянием и выразительностью. Заостренный, немного птичий нос со сложной хрящевой лепкой на кончике. Крупные серо-зеленые водянистые глаза.
Павел сделал шаг навстречу. Это у него получилось неудачно, потому что он чуть не врезался в невесть откуда возникшую старушку, спешившую занять место в закрывающемся вагоне. Он произвел туловищем огибающий извив, уклоняясь от пожилой пассажирки, и споткнулся о ее тележку. Что-то звякнуло, какие-то банки. Старушка, разумеется, недовольно заворчала, но останавливаться для распекания «бестолкового разгильдяя» не стала, а, заняв место, для чего предварительно согнала сидевшего там паренька, со всей душой отдалась этому увлекательному занятию дистанционно. И тут уж досталось всем: от Павла и поднятого юноши до районной управы и членов кабинета министров. Но вот двери вагона, щелкнув, отключили звук бранных речей. Возмущенная Пенсионерка, Лысый и все остальные с ускорением поплыли вправо и сгинули в черной дыре, будто никогда их и не было.
Резумцев, удержавший-таки равновесие, вплотную подступил к девушке.
– Вероника, – представилась она неожиданно хрипловатым голосом. Видимо, шерстяной шарф был использован с опозданием.
– Сложное имя, – нарочито озадаченно отметил Резумцев, дернув лицом.
– Почему?
– Не знаю. Просто первая мысль при звуке этого имени.
Вероника улыбнулась сомкнутыми губами и носом выдохнула спокойную добродушную усмешку.
– Павел, – представился, в свою очередь, Резумцев.
– Я знаю.
Он удивленно вскинул брови.
– Просто у вас очень громкий друг.
– Илья-то, – улыбнулся Павел, – да, есть такое.
И что же дальше?
Вероника сразу задала такой стиль общения, будто они были знакомы чуть ли не с детства. Никто из них, кроме оглашения своих имен в начале знакомства, более никакой анкетной информации о себе предоставлять не стал. Фраз вроде «я учусь там-то», «мне нравится то-то», «мои приятели те-то» не звучало. Разговор строился так, словно это все им друг про друга прекрасно известно, что они каждое утро вместе ездят в электричке или даже делят общий кров не один год. Это находило отражение и в спокойной повествовательной интонации и в самом содержании разговора. Упоминались некие имена, названия, мероприятия, известные лишь одной из сторон, без каких бы то ни было пояснений. Но, что удивительно, все эти вещи как-то сразу становились общим достоянием, одинаково актуальными для обоих и очень гармонично существовали в беседе, не вызывая ни малой толики непонимания. Напротив – подобная внезапность питала обоюдное желание продолжать разговор. Это напоминало процесс составления общей картины из трех, или даже пяти, десяти тысяч пазлов, одним махом высыпанных из коробки. Трудно, но увлекательно, и с каждым новым кусочком изображение обретает все большую целостность и яркость. Но сколько их еще… Все, что им хотелось узнать друг о друге, а хотелось, несомненно, многое, всплывало мягко, исподволь, как бы само собой, а то, что не возникало прямо сейчас, оставалось в полутени, замерев в трепетном ожидании своей очереди. Игра в вагонном стекле переродилась, обретя новую форму, новые правила, но сохранив свою волнительную увлекательность.
Павел поначалу отнесся к этой ситуации противоречиво: с одной стороны, это было удобно, избавляло от ряда возможных неловкостей, а кроме того, было совсем необычно и оттого притягательно; с другой – такой подход отчасти лишал сладостного ощущения постепенного сближения, познания, интима.
Разумеется, при таком характере диалога, сразу после упоминания громогласного Ильи, они перешли на «ты». Кто первым произвел пересечение границы официальности, сказать сложно, да это и не важно, поскольку оба были готовы к этому шагу, и произошло это мимоходом, без ужасающего «а давайте перейдем…» или еще худшего: «может быть, нам уже пора…». Вторая сторона отнеслась к этому нюансу как к должному, оставив без внимания и замечаний. Дальнейшее общение проходило уже под этим знаменем взаимной близости и дружественности.
Первые несколько минут Резумцеву было немного сложно влиться в этот стиль давнего знакомства и беседы о сегодняшнем дне (а о чем еще говорить старым приятелям?) – например, вместо логичного в подобной ситуации «я учусь в аспирантуре Института литературы», говорить приходилось что-то вроде «вот, всю ночь переписывал седьмой параграф. Надеюсь, хоть сейчас Сарычев-зануда примет». В пространстве между мозгом и языком металась и рвалась наружу фраза «а ты всегда так знакомишься?», но Павлу, даже с чисто профессиональной точки зрения, не хотелось скатываться до уровня такого низкого жанра, а просто по-человечески он понимал, что от этого бы все в одно мгновение треснуло бы и рассыпалось прахом по истоптанному полу метрополитена. А ему этого очень не хотелось.
Однако тон Вероники, ее непринужденное повествование о подписи какого-то Порфирьева, о мозоли на левой пятке из-за новых ботинок и о том, как папу вчера опять водили ко врачу, быстро настроили Павла на нужную волну. Призвав на помощь свои литературные навыки и самоиронию, он совершенно освоился. Охриплость Вероники скоро спала, обнаружив за собой весьма приятный, хоть и низковатый, голос.
Разговорилась…
Физический контакт весьма соответствовал общению. Несколько раз во время качки вагона (они пересели на другую линию метро – она ехала в свой институт, а он ее провожал, не объявляя о своих намерениях и не спрашивая согласия) они весьма по-свойски, не церемонясь, поддерживали друг друга за локти и плечи, а на пересадке Вероника одернула и развернула Павла, пошедшего, было, не в ту сторону.
Интересный, однако, ход – начинать с конца… ну посмотрим… попробуем…
Далее Резумцев проводил Веронику до Архитектурного института, где та училась на экономическом факультете, они бесконтактно распрощались, договорившись встретиться вечером и поехать обратно вместе, и Павел отправился по своим литературным делам.
Удивительно… сошлись, разговорились… так легко… Как говорится, на одной волне. Избитый литературный штамп: как будто они были знакомы всю жизнь…
Тут он поймал себя на том, что движется против встречного потока пешеходов, сталкиваясь с ними, и, кроме того, сопровождает свои действия идиотской улыбкой.
Глава 2.
Окутанный мыслями о Веронике Резумцев добрался до своего родного Института литературы и языкознания. Размышления эти настолько заняли весь его рассудок, что, столь наблюдательный обычно, теперь он не различал дороги, не рассматривал прохожих и сомнамбулически проходил сквозь бушующий поток жизни, абсолютно с ним не соприкасаясь. В голове прокручивались, сталкиваясь и наслаиваясь друг на друга рассуждения, да нет, какие уж там рассуждения – возгласы. Вопли. Безостановочный сумбур без пауз и связок.
Ишь ты бывает же а все-таки здорово и как же это какова была вероятность а я ничего так не оплошал надо раньше еще было сколько ездим не ошибся надо же и действительно ведь на меня смотрела на меня а и хорошо в самый раз и как в окне-то получилось а эффектно оригинально как-это беспрецедентно хм что за слово такое к чему хорошая она все-таки красивая глаза такие хм если б описывать стал пожалуй что-то с водой как-то завязать озера пруды заводи а ну бывает же а и хорошо еще конечно что все так просто и разговорились и уже как давно свои мозоль там папа что там с папой-то кстати она говорила инсульт инфаркт что-то такое странно конечно нет ну надо же здорово до вечера до вечера может цветов купить каких-то нет банальщина надо оригинальное что-то а там видно будет архитектурный значит ну что ж хорошо люблю когда волосы так заплетены лужи заводи затоны и грудь приятная ух ну надо же значит не зря все извините по ноге прямо в восемь значит это значит девять десять одиннадцать нет ну да каких-то девять с половиной часов цветы нет посмотрим если у нас все так запросто к чему цветы нет ну надо же и хорошо что именно в стекло все хорошо заводи нет заводи были запруды болота нет болота не красиво а у нее красиво красивые глаза и нос такой тоже хороший а оригинально конечно вот так вот сразу прямо ух бултых и с головой прям окунулся и новая жизнь все по-новому но как будто по старому что я несу очень прямо очень а назад поедем как мне до себя или ее проводить и откуда она хм как быть если по-традиционному то конечно проводить надо а так как по-нашему-то с ней по-ее нет ну я же тоже согласился поддержал значит по-нашему как а видно будет пусть идет как идет по течению будем по течению реки речки ручейки нет надо что-то статичное черт и не опишешь так просто надо подумать будет еще руки кстати тоже красивые да и вообще нет Вероника Вероника Веро-ника Вера Ника вера в победу да нет бред какой-то разные происхождения это не оттуда но победа по-любому Вероника Вера Верона Ника ну я так примерно и думал Вероника имя такое неслучайное Павел Павел нет ничего вроде солидно так представительно нет ничего Павел Паша ну это потом надо же а повезло что ли ну даю а нет не к чему цветы абсолютно подойду так просто пойдем и поедем с ней с ней вместе сядем рядом и все пусть видят ишь ты бывает же капли роса дождевая вода вот как-то близко уже вроде а как лучше сесть будет рядом или напротив наверное даже напротив еще такой закат будет если справа по ходу красиво билет надо будет взять чтоб спокойно нет цветов точно не надо кстати если вот в цветок какой лилия там или что еще с чашечкой светлой наверное вода попадет вот похоже тогда наверное кстати да ирис в восемь значит ну я-то вроде успеваю все в шесть заканчиваю еще и подожду ну хорошо хоть подожду хоть какая-то традиция но цветов не надо да точно лучше напротив и говорить удобнее и смотреть хорошо смотреть на нее друг на друга прямо как получилось-то а рядом хотя нежнее как-то прикасаться ну там посмотрим может вообще стоять придется еще ну нет сядем как-нибудь а какая разница в конце концов акварель еще похожа не знаю но даже по звуку как-то красноватые сегодня не выспалась наверное не высыпается розоватые эх красиво а вот точно заливные луга да есть поймал когда вода сверху а там что-то такое переливается на дне трава растительность всякая точно да а все-таки молодец я…
Так Павел приблизился к дверям института. В полузабытьи прошествовал он сквозь проходную, не предъявив своей красной аспирантской корочки, чем вызвал формальные и непродолжительные всплески престарелого охранника, несшего скорее бремя символа безопасности учреждения, чем на далее ее осуществлявшего. Далее холл, броуновски снующие студенты. Толчея. Ожидание лифта. Вроде влез, нет – лишний. На следующем. Сзади подкатила очередная волна стремящихся вверх. Но на следующем уж точно окажется среди первых. Три, два, один, да! Разверзлась манящая своей вместительностью пустота. Реальность мировосприятия потихоньку начала возвращаться к Павлу.
Ну давайте! Набиваемся!
– Четвертый, пожалуйста. Благодарствую.
Плотно прилегающие к Павлу девушки сдавленно захихикали над архаичным речевым оборотом. Резумцев же тем временем с искренним сожалением непроизвольно рассматривал прыщеватое лицо одной из них (теснота лифта ограничивала возможность выбора объекта созерцания) и представлял ее вероятные жизненные тяготы и душевные переживания. На третьем этаже при плотной передислокации пассажиров лифта, Павла пихнули под дых, не то локтем, не то углом какой-то твердой сумки. Этот инцидент, к его облегчению, прервал цепь мыслей о судьбе несчастной девушки, поскольку они становились все более беспросветными, и это начинало угнетать. Впихнулась группка учащихся, знакомых Резумцеву еще по его собственному студенчеству. Они были на пару лет младше и сейчас, видимо, были на последнем курсе. Заметили. Улыбнувшись, раскивались. Четвертый… Павел, извиняясь, протиснулся к выходу.
Стену, противостоящую дверям лифта, украшало панно в некоем пост-конструктивистском стиле с немыслимым сюжетом, символизирующим историю отечественной литературы. На переднем плане за письменным столом, оснащенным массивным пресс-папье и чернильницей, склонился кудрявой головой Пушкин и с африканской энергией орудовал гусиным пером. Чуть поодаль застыли в нерешительных позах Гоголь и Лермонтов – очевидно, боясь спугнуть гения Александра Сергеевича. В условиях общей художественной стилистики полотна их сходство с оригиналами исчерпывалось беспроигрышными атрибутами: выдающимся носом, усами и мрачным темным одеянием до пят одного и красным гусарским ментиком другого. Эта их робость, очевидно, должна была представить их как смиренных продолжателей Нашего Всего, всецело от него зависящих. Особенно заискивающе выглядел Гоголь. Чуть поодаль от этой композиции расположился лысоватый мужчина с бородой, в котором по угрюмому виду и серому лицу несложно было вычислить Достоевского. Вокруг него толпились какие-то неприятные вихляющиеся ахроматические силуэты. Рядом сидели в уютных креслах Тургенев и Островский в неизменном халате (как будто это его единственная одежда), который и был его главным отличием от Ивана Сергеевича, – пили чай. Эта мизансцена была всегда наиболее приятна Резумцеву из всего произведения. Веяло от нее комфортом, теплом, душевностью. На столе можно было заметить даже кое-какие сласти, которыми лакомились классики. Весь правый фланг панно был под властью Толстого. Он растопырившись восседал на каком-то табурете, привычно наряженный по-крестьянски. Борода лопатой, валенки, веревочная подпоясанность – все как полагается. У него, в отличие от всех остальных, имелся эскорт в лице Пьера, Болконского и Наташи, с самым серьезным видом нависших над его табуретом (чем это он такой особенный, что ему разрешили привести персонажей?). Еще правее по тропинке шествовал Горький, сопровождаемый кружащими над ним не то буревестниками, не то соколами, не то ужами. Между Толстым и Горьким в тени растительности, деликатно примостился узенький доктор Чехов с зонтиком. Он был представлен здесь настолько тактичным, что, если не всматриваться, легко можно было бы его и вовсе не заметить. Сбоку от проторенной Горьким дорожки энергично размахивал широколадонными руками Маяковский. Им авторы панно решили завершить русскую литературу – во-первых, стена кончалась, а во-вторых, дальнейшие представители и их заслуги были неоднозначны, особенно с официальной точки зрения на момент создания этого объекта искусства. Что всегда раздражало Павла в этой картине, так это то, что все до противного соответствовали сложившейся хрестоматийной иконографии. Скучно, банально. Ну почему бы не сделать веселого Гоголя, только что сочинившего остроумный эпизод про чиновников или казаков, благодушного Достоевского в окружении любящих детей, Толстого помоложе и в офицерском мундире…
Забавно бы было, оригинально. Так ведь нет же! Понатыкают этих истуканов неживых… Литература! Это же люди, судьбы, динамика. А тут – навесили каждому ярлык и все – ни шагу вбок… А еще высшее учебное заведение! Кузница творческих кадров, мыслителей… Тьфу ты, дурацкое какое выражение «кузница» – вычеркнуть!
Но так было в обычное время. А сегодня Резумцев прошел мимо до мельчайших подробностей знакомой картины, не обратив на нее никакого внимания и забыв в обычной своей манере возмутиться. Направился же он к кабинету заведующего кафедрой исторической литературы Вадима Павлиновича Сарычева, который являлся руководителем его диссертации. Небрежный одиночный стук в дверь.
– Разрешите?! – по-военному отрывисто бросил Резумцев и, не утруждая себя ожиданием ответа, ввалился в кабинет Вадима Павлиновича.
Сарычев, копошившийся в огромном, на первый взгляд, беспорядочно набитом бумагами, книгами и папками шкафу, замер, посмотрел через плечо на Павла и лукаво улыбнулся.
– Здравствуй, Павел, – Сарычев закрыл шкаф, экспрессивно утрамбовав дверцами выступающие манускрипты, и протянул Резумцеву квадратную ладонь.
Это был плотный, коренастый человек, лет за пятьдесят, но, несмотря на солидность телосложения и возраста, обладавший чрезвычайной подвижностью и своеобразной пластикой. Крупная голова сверху была покрыта коротким бобриком седых волос с проплешиной в центре, а снизу обрамлялась аккуратно подстриженной стальной бородой. Глаза хитро прищуривались – это было их обыкновенное состояние – за стеклами округлых очков. Из пиджака болотного цвета выглядывало обтянутое водолазкой внушительное брюшко. Облик его объединял в себе мистера Пиквика, какого-то античного персонажа – не то Сократа, не то Силена, и кадетско-октябристского депутата первых государственных дум. Заведующим кафедрой Сарычев стал не очень давно, года четыре назад, и в сравнении со своим предшественником, просидевшим на этом месте тридцать лет и три года и осуществлявшим руководство сквозь призму официального (по крайней мере, на большей части срока его заведования, а после крепко прикипевшего) марксизма и личного алкоголизма, считался среди сотрудников и студентов прогрессивным и даже – на фоне декана и ряда других предводителей кафедр – относительно молодым. Его вклад в литературу состоял из романа-дилогии на производственную тему «Путь к горизонту», написанного еще в молодости и, несмотря на почти математически выверенную идеологичность, обладающего неплохим языком и даже некоторым тонким юмором, двух сборников повестей и рассказов и гигантского числа различных статей, очерков и эссе. Вклад в педагогику включал треть века преподавания в Институте литературы и языкознания, лекции в других вузах страны, написание методических пособий и разделов учебников, участие в конференциях и симпозиумах. В общем, просветительскую деятельность Вадим Павлинович вел обширную и активную – всего и не перечислить. И хотя статьи и лекции его зачастую были поверхностны и несли мало свежих и острых мыслей, студенты относились к нему благосклонно, за добродушный нрав и умеренную придирчивость, опять-таки, в сравнении с другими. Павел избрал его своим научным руководителем по тем же мотивам, для чего пришлось даже пройти конкурс из трех или четырех человек. Но ожидания его оказались оправданы лишь отчасти – с аспирантами Сарычев хоть и вел себя по-отечески тепло, но предъявлял к ним значительно больше требований и дотошнее относился к работам, заставляя по нескольку раз править и даже заново переписывать целые разделы. Может быть сказалось его назначение на должность – из министерства требовали улучшения цифр и планов по научной работе, а к своему месту и к начальству Вадим Павлинович всегда относился чрезвычайно трепетно. Возможно, существовали и другие причины такого отношения, но, как бы то ни было, Резумцев появился в кабинете своего руководителя с правленым в пятый раз очередным фрагментом своего опуса.
– Профессор! – задорно поприветствовал Сарычева Павел, нарочито превращая банальную «е» в комично-помпезную «э», и пожал его широкую длань.
– Опаздываете, молодой человек, опаздываете, – у Вадима Павлиновича была привычка в разговоре со студентами и подчиненными постоянно переходить с «ты» на «вы» и обратно. Причину этих метаморфоз выяснить никому не удавалось, но вряд ли это было проявление начальственного высокомерного пренебрежения – демонстрации безразличия к собеседнику. Это совсем не укладывалось в характер профессора. Скорее всего, так просто проявлялось соседство дружеской расположенности и осознания того, что предмет общения все-таки деловой. – Так, ну давай, садись. Принес? Давай сюда – поглядим, посмотрим.
Резумцев сел на указанный стул, а сам профессор, грациозно вильнув тазом, обогнул стол и поместил себя в широкое кресло. Там он поерзал, устраиваясь поудобнее, и, наконец, принял полулежачее положение, так, что в поле видимости Павла оставалась только его голова, выступающая над заваленной бумагами столешницей.
– Ну, давайте, давайте! Что у тебя там, седьмой параграф?
Из-под стола взметнулась рука и замерла в растопыренном ожидании. Пока Резумцев расстегивал сумку и доставал папку с рукописью, зазвонил стоявший на столе телефон. Зависшая рука обрушилась на него.
– А?! – отрывисто, почти вскрикнув, начал разговор профессор. – Да-да… добрый день, Вячеслав Степаныч! – Сарычев расплылся в улыбке. Трубку он придавил к плечу бородатой щекой, а освободившейся пятерней делал Павлу знаки, чтоб тот не обращал внимание и передал бы-таки ему то, что принес. – Да, да! А они в четверг приезжают? В пятницу? Ага… Ну да, конечно… А мы знаете, что? Мы как ведущую организацию проведем Институт Культуры, а оппонентом пригласим Ружейникова, – Вадим Павлинович заливисто захихикал, очевидно, очень довольный элегантностью придуманного им решения и взглянул на Павла как на своего соучастника, – Нет, нет, зачем?.. Вы идите прямо к Галине Сергеевне… как ее… да! Да-а! И все!
Профессор незряче уставился на переданные Резумцевым листы, продолжая улыбаться своим ловким административным ходам. Резумцев, пользуясь этой спонтанной паузой, снова предался мыслям о предстоящей вечерней встрече с Вероникой и опять пошел перемалывать до мельчайших подробностей их утреннее общение жерновами своего сознания. Речь Вадима Павлиновича постепенно слиплась в монотонное бухтение, а потом совсем пропала. Павел перешел со стадии эйфории на стадию страхов и сомнений. Нахлынули тревожные «а если она не придет?», «или не захочет продолжать?», «может вообще сделает вид, что незнакомы, и буду как дурак?»
– А мы тогда три защиты проведем! – громогласная спасительная реплика Сарычева вырвала его из все более загустевающего наслоения мрачных дум. – Вы вот что, Вячеслав Степаныч, вы не беспокойтесь, не тревожьтесь… Да Киросян, да… Армен, да… Главное – мы у них сейчас подпишем… да, получим сейчас и все! Да, а это уже будет не к нам, а в Институт Культуры, – снова по кабинету разнеслось хихиканье, – Мы же что? У нас все по плану… Три защиты предоставляем… Да-а!.. Да-а!.. Так что давайте, вы сейчас прямо к Галине, ну к этой дуре, а я Ружейникова предупрежу, попрошу… Да!
На том конце последовала продолжительная ответная реакция. Сарычев молчал, то ехидно улыбаясь, то придавая себе серьезный вид. Павел, чтоб отвлечься от пугавших его мыслей, попытался восстановить диалог профессора и его собеседника полностью, додумывая фразы с того конца провода, но запутался в патологии административных нюансов, и получалась какая-то белиберда.
В кабинет, глухо стуча по паркету толстыми каблуками, вошла секретарша кафедры Татьяна, со стороны которой Павел время от времени замечал определенные знаки внимания. Обычно они были весьма невинны: взгляд, чуть более долгий и чуть более томный, чем того требовал будничный контекст, прикосновения, как-бы мимоходом, игривые каламбуры при их непродолжительных разговорах, – но Резумцев интуитивно ощущал, что, соверши он четкое ответное действие, вся эта невинность отпадет, обнаружив неуправляемые стихийные силы. В некоторые моменты он был уже почти готов шагнуть за эту границу, но всякий раз его что-то удерживало – то робость перед открытием этого ящика Пандоры, то неуверенность в том, нужно ли ему это, то подозрения, что не он единственный в институте объект ее внимания. Было для Павла в Татьяне что-то манящее, что-то первозданно-природное… млекопитающее. Рассказывая о ней Крыжовину, он однажды поймал себя на мысли, что эпитеты, которыми он ее описывал, подходили скорее породистой скаковой лошади, чем молодой женщине – не высокая, а рослая, не красивая, а статная.
Она подошла к столу, плавно наклонилась и беззвучно что-то сообщила Сарычеву. Тот так же, взглядом, попросил ее подождать здесь. Улыбнувшись, Татьяна проурчала приветствие Резумцеву (тот рассеянно кивнул в ответ), и неподвижно встала, почти прильнув скульптурным изгибом бедра к его плечу и обдавая Павла волной застоявшейся, требующей выхода, женственности и приторного парфюма. До сегодняшнего утра (а особенно, в последнее время) он, вероятно, поддержал бы эту близость и на пару сантиметров оттопырил бы левый локоть, но сейчас ему этого совсем не захотелось, аромат духов показался чересчур навязчивым, и Павел, забросив ногу на ногу, накренился корпусом вправо. Татьяна продолжала стоять неколебимой мраморной кариатидой, хотя Резумцев чувствовал, что его маневр не остался незамеченным. Впрочем, возможно, это были лишь его домыслы.
– Ну вот тогда мы и посмотрим, – весело пророкотал в трубку Сарычев. Диапазон тембра его голоса был поистине удивителен – от тонкого ехидного смеха до рычащего баса. Причем это не зависело ни от настроения, в котором он пребывал, ни от содержания произносимой фразы. В одном нейтральном предложении могли применяться сразу несколько октав, – Вы тогда сразу мне позвоните… Или я… да… Ну все.
Сарычев брякнул трубку на место.
Татьяна, перегнувшись, нависла над его столом, предоставив Павлу созерцать себя с того ракурса, которым не без основания гордилась.
Хм…
– Вот, Вадим Павлинович, подписать вот тут, и я тогда сразу и отправлю.
– Да, Таня, только давайте прямо сейчас.
– Конечно, конечно.
Сарычев накрутил несколько спиралеобразных подписей. Татьяна собрала бумаги в тонкую стопочку, стукнула, выравнивая, торцом о столешницу и, одарив Павла мягкой извиняющейся улыбкой, проследовала к выходу. Сарычев проводил ее мерную походку взглядом поверх очков, который мог обозначать все, что угодно. Резумцев даже не пошевелился.
– Та-ак, – прокряхтел профессор, когда дверь затворилась, – Ну, брат, давай теперь с тобой. Та-ак.
Вадим Павлинович снова приступил к чтению седьмого параграфа. Чтоб смотреть сквозь сползшие на конец носа очки, пришлось несколько запрокинуть голову, что, в свою очередь, привело к приоткрытию рта. С такой замысловатой мимикой он погрузился в пристальное изучение. Прошло минут восемь, в течение которых оба не проронили ни звука, профессор лишь иногда скривлялся в неопределенных ухмылках, а аспирант начал уже было опять скатываться в трясину сомнений по поводу своего дальнейшего общения с Вероникой. Наконец Сарычев дочитал написанное, опустил бумаги на стол и, крякнув, произнес:
– Хм, так-то оно так, Павел… Только, вот что: давай-ка заглянем в суть.
– Давайте, – с неохотой согласился Резумцев. Ничего хорошего от заглядывания в суть, а особенно предложенного подобным тоном, он не ожидал. Особенно пугала сама эта «суть» – это означало некий глобальный пересмотр всего концепта диссертации.
– Вы, вот, проводите тут сравнительные анализы разных персонажей, авторов, ситуаций, делаете выводы, – в очередной раз сменил обращение Сарычев. – Это, конечно, все хорошо, правильно… верно. Только, вот, скучно, брат. Ну кому это все нужно, переливание это. Сколько уже таких статей, таких вот работ понаписано. Ну защитишься ты, конечно. Хорошо. Но давай, вот, вместе прикинем: ты же талантливый парень, хороший писатель выйдет из тебя… получится. Можно ведь что-то большее предложить, оставить, так сказать, наследие по себе.
– Наследие – это, конечно, хорошо. Но, честно говоря, Вадим Павлинович, я не до конца понял, что вы имеете в виду, – со слабой надеждой подал голос Павел.
Сарычев еще ниже сполз в своем кресле.
– Ну вот смотри, – с хитрой улыбкой молвила голова над столом. – Как наша тема звучит?
– Анализ поведения человека в историческом контексте в произведениях мировой литературы, – отрапортовал Резумцев уже столько раз произносимое заглавие.
– Во-от, – протянула голова. – Вот тут-то и есть наша с вами ошибка. Что за поведение человека? Разве в этом заключается значение, суть литературы? Ее, так сказать, главная миссия? Поведение… это, – голова захихикала, – зоология какая-то, дарвинизм, батенька.
Сарычеву очень понравилась собственная острота, и он в течение секунд тридцати с присвистом смеялся, пружиня в своем широком кресле.
– Так ведь утвердили уже тему-то, – недоуменно заметил Резумцев. Он, действительно, не очень понимал, куда клонит профессор. – И на ученом совете уже записано.
При упоминании официальной инстанции голова приобрела серьезность.
– Ну мало ли – утвердили. Что ж, бывает. Наука, брат, штука динамичная. Тут нельзя цепляться за то, что, видишь ли, где-то там утвердили. Так никаких открытий бы не было. Утвердили… Значит, разутвердим, скорректируем и утвердим заново. Тут главное – результат. Чтоб толк был. В общем, моя мысль вот какая: всю эту физиологию – поведение человека там – ты брось. Личность! Вот предмет литературы! Только личность. Остальное никому не нужно, не интересно. И назовем давай так: «Проблема личности в историческом контексте».
– Просто? А как же литература. Вадим Павлинович, так какая-то социология выходит. И куда семь параграфов сравнительного анализа и таблиц? Ведь у меня уже…
– Анализы – это хорошо, – перебил Сарычев. – Никуда ваши анализы не денутся. Пригодятся. Где-нибудь. Я вот к чему клоню-то: институт у нас, все-таки, литературный, а вы, как я полагаю, желаете писателем стать?
– Ну хотелось бы. И преподавать тоже, конечно.
– Похвально. Так вот: анализов и таблиц в любой аспирантуре любого вуза пруд пруди. Дело, конечно, хорошее, неплохое. Но ведь мы можем и больше. Должны, во всяком случае, стремиться. Так что давайте вот как с тобой поступим: берем название «Проблема личности в историческом контексте», а подзаголовком пишем «литературное исследование». Вот как.
– Это что же, как у Солженицына, что ли, получается – опыт художественного исследования?
– Примерно, но не совсем. Разобьем всю твою диссертацию на две части. В первой, теоретической, будешь все свои анализы сдавать, – профессор коротко и весело хрюкнул. – Сравнительные таблицы составлять и прочее. Тут ты уже начал, и получается у тебя неплохо, весьма неплохо. А вот вторая часть будет практическая. И тут ты как будущий… как писатель должен будешь сочинить произведение, не обязательно большое, повесть, например, на тему своей диссертации. И вот эти все наши с тобой анализы, таблицы, выкладки нужно будет на деле воплотить в настоящей литературе. Доказать, что не просто это все у тебя звон, так сказать, из пустого в порожнее, а реально работающая вещь!
– И как вы это себе видите? – подозрительно прищурился Резумцев.
– Ну что ж. Вот есть у тебя уже семь параграфов – куча материала. Алгоритмы вон у тебя различные составлены. Вот и берете один, или даже несколько этих алгоритмов, несколько героев, помещаете их в конкретную историческую ситуацию и наблюдаете, как они там будут себя вести.
– Прямо химия какая-то получается, – Павлу начинала нравиться идея профессора.
– А вот и именно! Химия больше подходит к литературе, чем зоология. Процессы, реакции… Но тут важно выбрать ситуацию, чтоб, с одной стороны, и наглядно, ярко выражено все было, с другой стороны – оригинально. Что думаете? Есть у вас на примете что-нибудь?
Резумцев хмыкнул и призадумался. Нагляднее всего было бы обратиться к революционной тематике, чтоб уж по полной нагрузить личности этими самыми проблемами. Восстания, гражданская война, брат на брата, осуществление выбора… Но смущала чрезмерная заезженность эпохи – кто уже только не писал, не исследовал, не выворачивал и не перевыворачивал этот сюжет. Банально. Но образ самой гражданской, внутринародной войны захватил Павла. Следующим приходящим на ум подобным событием была война в Америке. Но пораздумав, Резумцев решил, что тут тоже слишком много шаблонов и антишаблонов, к тому же менталитет и мотивацию заокеанских личностей будет сложнее достоверно описать. Следующей в очереди оказалась мысль, ассоциативным путем выкристаллизовавшаяся из первых двух и показавшаяся ему весьма удачной. Он поспешил ухватиться за нее. Идея заключалось в объединении русской и американской историй, так сказать, обосновании русского духа на американской почве.
– Вадим Павлинович, а что вы думаете насчет Русской Америки?
– Это Аляска что ли? – Почему-то насторожился Сарычев. – Хм, а что там такое?
– Ну как же! Сюжет тут, например, таков: конец восемнадцатого века. Каргопольский купец Баранов приезжает на Аляску и становится правителем всей Русской Америки. Назначается. Чем не проблема личности. Тут вам и труд на благо государства, и честолюбие, и испытание властью, и тяготы колонизации – битвы с индейцами, там. По-моему, весьма оригинально. Никто еще не описывал (я, во всяком случае, не знаю) русско-индейские конфликты. Привыкли все про ковбоев и Чингачгука. Потом он же еще, насколько я помню, женился на индейской женщине – опять-таки, какое испытание для личности того времени – этическое, религиозное, даже физиологическое. Ну а помимо центрального героя, добавим еще сюжетных линий – всяких купцов, офицеров, холопов, индейцев, женщин. Может получиться весьма занятно. А исторический контекст таков: империалистическая гонка колонизаций и предчувствие ее обреченности, – Павел сейчас в полной мере оседлал вдохновение, заряд которого получил еще утром.
Рассказывая, он то припадал к столу профессора, то откидывался и выводил пальцами замысловатые фигуры в воздухе. Сарычев слушал, прищурив один глаз, и пытался воспроизвести для себя картину, излагаемую вдохновенным аспирантом. Наконец, он произнес:
– Что ж, неплохо, недурно. Только не увлекайтесь. Не будем скатываться в Купера или в Дюма. Не забывай, что работа научная. Литература – литературой, но главное, чтоб все было по четкой структуре. Берем алгоритм – и нанизываем, насаживаем сюжет. Все по теории. Твоей же теории. И не усложняй. Эпопея тут не нужна. Хорошо бы защититься в начале года. Лучше – до весны. А уж совсем великолепно – после Нового года. Тогда мы им там в министерстве покажем! Так что давай повесть страниц на сто максимум. И чтоб все четко. Берем конкретное событие, случай и прогоняем по нему персонажей сообразно с диктовкой времени. Кстати, тут еще документальность важна, существенна. У нас же с вами кафедра какая? Вот то-то и оно – исторической литературы. Тут осрамиться никак нам нельзя. Историки на защиту придут. Нужно так, чтоб никто не подкопался. Ничего лишнего. Никаких там противоречий чтоб с документами не было. Так что в библиотеку сходите, подтяните матчасть. И вперед. Тема интересная, не затертая. Это хорошо. Одобряю.
– Значит, Вадим Павлинович, как мы теперь с вами поступим? Какие дальнейшие действия?
– Хм. Ну давай так: через неделю приносите скелет сюжета и набор персонажей. Обсудим все линии, характеры и будем уже развивать, наращивать. Так, значит, – Сарычев послюнявил широкий палец и принялся отлистывать страницы настольного календарика. – В понедельник… нет, лучше во вторник с утра приходите и весь план обсудим. На Пулитцера давайте не будем замахиваться, но крепкую литературу, в национальных, так сказать, традициях с вами сделаем, создадим. У тебя сегодня что? Преподаешь?
– Да, сейчас пойду, – Павел сверился с часами. – Через двадцать минут семинар у первокурсников.
– Ну что ж, добро. Держи… анализы.
Сарычев сгреб со стола листы уже неактуального седьмого параграфа и неровным ворохом протянул аспиранту.
Шагнув из сарычевского кабинета в коридор, Резумцев на миг отпрянул назад – в его направлении решительно шагала Татьяна с очередной порцией документов. В первый момент Павел было малодушно подумал вернуться обратно, якобы что-то уточнить, но решив, что его рефлекс не имеет сколько-нибудь оправданного основания, он, напрягшись, двинулся навстречу. Татьяна уже запеленговала его и неумолимо надвигалась, как-то особенно хищно улыбаясь. К неимоверному облегчению Резумцева, обстановку разрядил неожиданно вынырнувший из боковой двери доцент Ниундиков. Он почему-то выходил задом и ненароком преградил путь Татьяне, так, что она, сосредоточенная на Резумцеве, довольно существенно задела его левым бортом и дала крен в противоположную сторону.
– Ой, Та-анечка! Здравствуйте, дорогая. Тысяча извинений, – елейным голосом произнес Ниундиков, галантно поддержав секретаршу за локоть. – Как же это мы так с вами?
В этот момент аспирант поравнялся с ними.
– Здравствуйте, Павел, – вывел доцентовский тенор, и его свободная рука протянулась навстречу аспиранту.
– Доброе утро, Виталий Геннадьевич, здравствуй, Татьяна.
– Да уж виделись же…
Чувствовалось, что ей было неловко от эпизода своего столкновения с доцентовым задом на глазах у потенциального кавалера. Охотничья решительность заметно поубавилась, что, в свою очередь, придало Резумцеву уверенности и непринужденности. Он уже не спешил ретироваться и был не прочь перекинуться парой слов с Ниундиковым. Кроме того, данный случай подействовал на Павла как медицинский электрический разряд или внезапный холодный душ – его оценка окружающего резко переменилась – Татьяна вдруг представилась ему не всепоглощающим хтоническим началом, как порой казалось, а неудачливой женщиной с неустроенной личной жизнью и с замутненными перспективами на этот счет в ее тридцать с чем-то там. Резумцев облегченно выдохнул.
– Ну-у, как поживает наше молодое поколение? – начал Ниундиков фразой, означавшей его полное непонимание, о чем говорить.
– Да ничего, спасибо, – даже с долей некоего снисхождения отозвался Павел. – Пишем потихоньку. Вот в будущем году, надеюсь, уже защита будет.
– Скажите! Вот же время бежит, – подтвердил свою диалоговую несостоятельность доцент. – Только вроде бы недавно зачеты сдавали, экзамены… И вот тебе! Быстро все, да?
– Не говорите, – улыбнулся Павел, хоть и не согласный, но не хотевший расстраивать собеседника опровержением его ощущения времени. К тому же, светская беседа исключала возражения в подобных вопросах.
– Ой, действительно! – Решила поддержать разговор Татьяна. – Вот только-только лето было. Море, пляж… И вот тебе – на! Оглянуться не успела.
– Куда ездили? – Мелодично осведомился Ниундиков.
– На море ездила, – с уклончивой улыбкой повторила информацию Татьяна, поправляя прическу.
Очевидно, ей очень не хотелось вдаваться в географические подробности.
– С подругой, – добавила она, глядя уже на Павла, с очевидной претенциозностью.
– Ну и как там? Понравилось? – Довольно прохладно, но в пределах дружелюбия осведомился Резумцев.
– Замечательно! – Всплеснула руками секретарша, чуть не устроив фейерверк из документов. – Море такое прозрачное-прозрачное, и с погодой так повезло. И экскурсии такие замечательные, и вина попили, – Татьяна хихикнула. – И на нудистский пляж даже сходили, – добавила она доверительно, игриво хлопнув по плечу Ниундикова и молниеносно стрельнув глазами в сторону Павла.
– Завидую, – мечтательно промурлыкал Ниундиков, – Завидую, Танечка, оказавшимся там в этот момент. И с удовольствием бы присоединился.
Татьяна засмеялась в стиле провинциального театра девятнадцатого века, внимательно следя за теми своим ракурсами и движениями, которые были в видимости Резумцева. Тот же, в свою очередь, улыбался самой непосредственной своей улыбкой и деликатно кивал на реплики обоих своих собеседников.
– А сочиняете ли что сейчас? – поинтересовался Ниундиков, исподволь подставляя плечо для очередного хлопка Татьяны.
Хлопка не последовало.
– Да-да. Вот только сейчас с Вадимом Павлиновичем обсуждали. Любопытная задумка – из колониальной истории. И вместе с тем предусмотрен глубокий психологизм.
– Даже так?!
– С нетерпением буду ждать. Жутко любопытно.
– Танечка, после Вадима Павлиновича, рецензентов, оппонентов, комиссии и редколлегии – тебе, непременно, дам первой.
Секретарша зарделась. Она не припоминала, чтоб Резумцев называл ее Танечкой и, к тому же, ей было приятно столь почетное место в его иерархии.
Резумцев взглянул на свои электронные часы, вечно переворачивавшиеся циферблатом вниз. Они возвестили, что до начала занятий осталось семь минут.
– Ну, побегу, – панорамно улыбнулся он Татьяне и Ниундикову, – сейчас мои первокурсники начинаются. Разумное-вечное… К своим, так сказать, ученикам.
– Удачи, коллега, – доцент по-фазаньи раскланялся вжиманием головы в плечи.
– Желаю побед, – не пояснив каких и в чем именно, утробно выдохнула Татьяна.
Она совершила шаг назад, пропуская Павла, при этом разведя согнутые в локтях руки в стороны, чтоб максимально подчеркнуть, обтянуть и приблизить к нему бюст. Резумцев, бросив непроизвольный и стремительный взгляд на демонстрируемый объект, устремился в перспективу коридора. К ученикам.
Глава 3.
– Прошу садиться!
Аудитория разноголосо заскрипела стульями. Перед Резумцевым сидел сводный коллектив филологической и прозаической групп. Павел преподавал у них раз в неделю, чередуясь со старшим преподавателем Гунгутовым. Поскольку началась четвертая неделя сентября, это была их третья встреча. Отскрипев, первокурсники зашелестели раскрываемыми конспектами, после чего в аудитории повисла тишина. Утренняя волна романтических эмоций, а так же последующие встречи и мысли начисто стерли из памяти Резумцева предмет сегодняшнего занятия. Причем он до последнего не отдавал себе в этом отчета – слишком был занят. Теперь же на общем благодушном фоне вдруг вычертились сомнения и тревога. Постепенно все раздумья отступили и поблекли, а на первом плане обосновалась проблема педагогическая. Проблема, стоит заметить, всегда бывшая для Павла болезненной: часто он переживал, что студенты относятся к нему несерьезно, и сомневался, что правильно себя ведет и дельные ли вещи рассказывает. Резумцев помрачнел.
Черт, неловко-то как. Напрочь вылетело, о чем речь. И спрашивать как-то… Первокурсники, значит… Первокурсницы, в основном. Что ж столько женщин-то всегда? А на выходе что? В науке там, в литературе… Женщины любят учиться… Ну ладно… Не подавать вида! Прорвемся! Подумаешь – первокурсники. Нападение – лучшая защита. Пусть не расслабляются.
– Ну, друзья мои, кто имеет что-нибудь высказать по данной теме? – начал он, делая вид, что просматривает какую-то важную документацию (на самом деле это были забракованные листы его диссертации), размеренно, делая драматические паузы между словами и не глядя на студентов.
Ответом было общее молчание, подернутое легким шелестом локальных перешептываний. Резумцев долистал свой седьмой параграф до последней страницы и, выждав еще несколько секунд в тщетной надежде, что кто-нибудь возьмет слово, начал отмерять страницы в обратном направлении.
Да что ж такое?! Что за бестолковый народ?! Ну давай кто-нибудь! Скажите хоть что-то! Давай, давай, давай!
Безмолвие наконец нарушила серьезная девушка в очках (вроде-бы филолог) из второго ряда (на первом никто не сел):
– Извините, а по какой теме?
Обычно Павла удручало и раздражало, когда студенты обращались к нему безлично, без имени-отчества. В этом он видел подчеркивание своей незначительности, показатель того, что его не воспринимают как настоящего преподавателя, и очень нервничал по этому поводу. Но сейчас он даже не обратил на это внимание – благодарность девушке в очках затмила досаду от дефекта в ее обращении. Павел произвел внутренний выдох облегчения, но внешне виду не подал. Он неторопливо поднял голову, с большой неохотой оторвав взгляд от важных бумаг, и, слегка прищурившись, посмотрел на источник звука, при этом пожалев, что не носит очки – сверлящий взгляд поверх стекол был бы сейчас весьма эффектен. И он посмотрел исподлобья так, как будто они на нем были.
… два, три, четыре.
– Как ваша фамилия? – выдержав паузу спросил Резумцев.
– Чушкина, Маша.
Павел с трудом сдержал неуместный смешок.
А отвечает бойко. Видимо, натренировалась. Преодоление комплексов. Ох, и доставалось ей, небось, в детстве прозвищ. Да, может, и сейчас тоже… Не так уж далеко они от детства. Маша Чушкина… Ну извини, Маша, хоть ты и выручила меня, придется тобой пожертвовать, провести гамбит. А что делать?
– И вы считаете, Мария, что подобный вопрос корректно задавать преподавателю?
Маша Чушкина запыхтела широкими ноздрями. Нейтральное молчание переросло в напряженное. Шепот затих, только время от времени из разных концов аудитории поскрипывали старые потертые стулья. Маша, хотя и осознавала свою правоту, но не находила, что ответить, и только насуплено глядела на Резумцева.
– Ну, друзья мои, вы даете! – Резумцев перешел на тон покровительного снисхождения. – Вы что с Виктором Алексеевичем в четверг проходили?
– Так не было же занятия – заболел он тогда, – Маша Чушкина взяла на себя обязанности транслятора мнения всей студенческой массы, – и нам заменили лекцию, на историю нас подсадили.
Резумцев хмыкнул. Он вспомнил, что, действительно, на прошлой неделе Гунгутова свалила какая-то очередная хворь, ангина, что ли, или желудочное что-то: он вообще был болезненный, и Павел должен был бы его заменить, но убежал в редакцию по своим халтурным делам. А что он сам рассказывал неделю назад, он за последними событиями и впечатлениями, хоть убей, не помнил. Спрашивать об этом студентов после своей суровой атаки, значило бы отступить с позиций и существенно уронить свой, и без того достаточно условный, авторитет.
Ах ты ж…
– Ну и что ж с того? А то, что мы с вами на прошлой неделе обсуждали, уже забыли, что ли? Хороши, хороши-и.
– Нет, почему же, – Чушкина перелистнула тетрадь на страницу назад. – Вот: «Проблема и развитие образа лишнего человека в русской литературе». Только… Нам же ничего не задавали, и сегодня лекция должна быть – вместо четверга.
Остальных студентов Маша весьма устраивала в качестве переговорщика, и никто вступать в разговор не стремился. Только после слов «ничего не задавали» послышался традиционный одобрительный ученический гул.
– Эх друзья, мои! – Резумцев перешел на доверительный тон старшего товарища. – Что же вы так формально подходите к предмету? Задали, не задали… Институт-то у нас, все-таки, литературный, а вы, как я полагаю, желаете писателям стать? Ну или филологами, – Павел сделал жест рукой в правую сторону аудитории (наугад, но попал – большинство филологов группировалось там), – в данном случае – это все равно. Писатель! Это же в первую очередь кто?
– Зеркало эпохи? – предположила Чушкина.
– Сами вы зеркало, Маша, – с обезоруживающей улыбкой посмотрел на нее Павел. – Писатель – это мыслитель! Мозг! Нервы! Мысли! Писатель обязан постоянно думать, иначе – все! Ничего не выйдет!
Вот я разошелся… И чего это я на них? Ладно, теперь курс на смягчение, на демократию.
– Вот прослушали вы лекцию, и что? Кончилась пара – побежали гулять? в кино ходить и пиво пить? И все, вроде как больше и не надо думать. Ничего не задали – и хорошо, и слава Богу, проскочили на сегодня. Нет, друзья мои, нет! Нужно переваривать, обсуждать, спорить, плодить новые идеи. Мыслить, одним словом! Обязательно должно быть свое мнение. А как же иначе? Ведь писатель не просто человек, его мысли должны быть острее, уникальнее, передовее (глупое какое-то слово вышло), чем у всех остальных людей. Он должен быть впереди всех, на шаг, на полшага, но впереди! Или хотя бы сбоку. Гениальный писатель – он впереди, хороший – сбоку, ну а все остальные, посредственные и плохие, так те там где-то, в толпе толкутся. Затолкают, растопчут, так никто и не заметит. Тут надо и немного провидцем, пророком быть. Да! А как вы хотели (да хотят ли они вообще что-нибудь, хотя… вроде понемногу оживляются)? Чтоб заинтересовать человека, нужно показать ему то, чего еще как-бы и нет, но что он предвкушает, чувствует своими инстинктами, но умом своим еще не понимает. Вот тогда и будет в этом смысл. Тогда-то все и сработает. А зеркало эпохи – это все уже вторично, это уже необратимая данность, итог деятельности, так сказать. Вот возьмите гениев – Пушкин, Гомер, Шекспир…
– Так Шекспира же не было, – подал голос одутловатый юноша-филолог.
Та-ак, вот уже подтягиваются, включаются.
– Я тебе дам – не было! – шуточно погрозил ему пальцем Резумцев. Показались молодые белозубые улыбки, кое-кто захихикал. – Впрочем неважно, как его назвать – Оксфордом или Ретлендом. Шекспир – это марка, как не цинично звучит, и кто может оспаривать гениальность его произведений? Главное – все они опережали свое общество. Во всем – в образе мысли, в слоге, в динамике жизни и своих произведениях. Гении – скажете вы. Да! Но нет! Это оправдание посредственностей – мол, есть какие-то избранные и они недосягаемы, поэтому и рыпаться нечего. Нет! (почему это нет? Конечно, мы все тут посредственности. Ну, по крайней мере – вы) Нет! Просто они мыслили, они никогда не останавливались в этом процессе! И поэтому они интересны и актуальны до сих пор. Нет ничего более интересного, захватывающего и ценного, чем человеческая мысль! А вы – «не задавали»… Думайте, друзья мои, постоянно думайте! Ни в коем случае не останавливайтесь, и тогда вы будете интересны и читателю, и друг другу, и – самое главное – самим себе. Ведь без интереса к самому себе писатель абсолютно невозможен. Пуст и неискренен. Все же отсюда идет.
Резумцев произвел энергичный воодушевляющий жест обеими руками. К этому моменту он уже восседал на преподавательском столе, непринужденно болтая ногой.
– Так получается, что как раз писатель и есть этот самый лишний человек, – вступила коротко стриженная блондинка рядом с Одутловатым филологом. – Раз он вне общества, где-то сбоку, этому самому обществу на него начхать – вот оно и получается – лишний! Так?
– Интересная мысль, но не вполне справедливая, – Павел легко спрыгнул и снова переместился на свой стул. – Почему вы решили, что обществу на него начхать? Оля, так кажется?
Блондинка кивнула. Некоторые имена и фамилии Резумцев запомнил за предыдущие два занятия. Эффектную Олю – среди первых.
– Ну как же? Общество всегда увлечено процессами внутри себя. Какое ему дело, что там во вне?
Хоть бы жвачку выплюнула, что ли… Как-то неудобно замечание делать на такую тему, раз уж так вознеслись… А, может, именно ей неудобно? А, плевать? Кто она, в конце концов, такая…
Но тут Оля, то ли что-то уловив в мимике преподавателя, то ли из чистого совпадения, сама как-бы незаметно сплюнула резинку в кулачок, а потом аккуратно прилепила под столешницу.
Вот нравы…
– Нет-нет-нет. Вне общества он оказывается только в аспекте своих передовых мыслей, идей. На всех остальных уровнях – бытовом, социальном, интимном – он может быть вполне полноправным и активным его членом. Взять, к примеру, того же Пушкина. Его уж никак нельзя считать изгоем.
– Какие же тогда признаки лишнего человека? Как его вычислить? – Это уже Маша Чушкина.
– А вот давайте с вами вместе и разберемся. Давайте будем выписывать. За мной только записывать не надо. Пусть наше общение останется в формате беседы. Все эти записи, стенограммы высушивают, выхолащивают живость восприятия. К тому же все, любая неточность может нести искажение и необратимые последствия. Записывать нужно только собственные мысли. Чужие – слушать или читать. И вообще, все, что я говорю, не может быть абсолютом и последней инстанцией. Я сказал – вы послушали, поспорили, согласились или нет. И дальше уже работает ваш мозг, формируется ваше восприятие. Это же не химия, не алгебра, чтоб записывать и зубрить. А я тут на доске – просто, чтоб сейчас нагляднее было видно. Итак! Какие признаки лишнего человека как героя литературного произведения. Допускаю, что в жизни бывает все немного по-другому. Но сейчас о литературе. Итак, какие?
– Иная точка зрения, чем у остальных персонажей на основную проблему произведения, раздался голос откуда-то с дальних рядов.
– Та-ак, – Резумцев противно заскрипел крошащимся мелом по доске. – Скажем так: Разногласие во взглядах. Но это может быть у кого угодно с кем угодно. В чем тут нюанс? Что делает его лишним?
– Одиночество, – предположила Маша.
– Одиночество – да. И не просто одиночество, он может иметь и кучу родственников и знакомых, но одиночество духовное и интеллектуальное. Это тоже запишем. Но что там у нас с разногласиями-то?
– Его исключительность? Другая природа?
– Не совсем ясно, что значит другая природа. Можно быть другим, чем все остальные персонажи, и вместе с тем не быть лишним. Например, Маугли – понятно, что он не такой, как все остальные звери, но он среди них совсем не лишний. Там скорее лишним оказывается несчастный Шерхан, которого на протяжении всей книги все ненавидят, а потом, в буквальном смысле, растаптывают. Хотя у него, безусловно, есть своя правда и своя логика.
– Ну с ним не соглашаются, не понимают, он… – не успела договорить кудрявая девушка с проколотой ноздрей.
– Да! Именно! – Резумцев с воодушевлением застучал меловым крошевом по белесо-мыльным разводам. – Абсолютная невозможность взаимопонимания. И это у нас наглядно можно пронаблюдать где? Кто у нас в русской литературе формирует тип такого человека?
– Чацкий? – выдвинул гипотезу Одутловатый.
– А почему так неуверенно. Да, конечно, это «Горе от ума». Ведь там не в том дело, что Чацкий такой благородный и положительный, а остальные все дураки и негодяи. Нет! И в нем много неприятных черт: желчность, нарочитая экзальтированность, бесцеремонность, а в прочих персонажах проглядывают иногда и какие-то обаятельные черты. Но именно тотальное непонимание взглядов и ценностей друг друга, их неприятие и создает сюжет, и делает, в свою очередь, героя этим самым лишним человеком. Тут, поскольку это, можно сказать, первый опыт освоения подобного сюжета, да и жанр диктует свои условности – проблема заявлена буквально – Чацкий остракизирован (чересчур!) – физически удален из общества. Но это совсем не обязательно. Может быть все сложнее – внутренняя изоляция или смерть.
– А женщины бывают лишние? – прозвучал густой голос крупной девушки-прозаика.
По аудитории прокатились смешки и какие-то спонтанные шуточки.
– Ну, я имею в виду, – есть такие случаи в литературе?
– Опять хороший вопрос, – благосклонно похвалил ее Павел и строго посмотрел в сторону источника неуместного веселья. – Тут все зависит от формулировки. Почему-то принято ограничивать это явление русской литературой середины девятнадцатого века. Я не согласен. Форма со временем, конечно, поменялась, но проблема-то осталась. Многие зарубежные писатели обращались к этой теме: из нашего века это и Фолкнер, и Хаксли, и Камю, конечно же, которые создали целые галереи таких образов, причем у каждого героя своя причина, по которой его можно считать чужим. Это и отчасти Кортасар. В общем, это явление общемировое. Сюда вполне, скажем можно отнести и Гамлета и ионесковского Беранже, согласны?
Возражений не было.
– Так что, если покопаться, даже и в классических, но более поздних произведениях, где женщина уже существовала не только для раскрытия характера героя, но и уже могла быть равноправным действующим лицом. Мы можем найти немало таких примеров. У Чехова, например, каждый второй человек – лишний, потому что все друг другу чужие, и женщины в том числе. В некоторой степени у Набокова. Если брать зарубежные произведения, то здесь, конечно, мастер женских драматургических образов Теннеси Уильямс. Это героини и «Орфея…» и «Трамвая…»…
Здесь Резумцев вдруг запнулся. Ассоциативная эстафета через, уже было забытое прозвище, вновь вынесла его к Веронике. Почему-то вдруг подумалось, что она со своей оригинальностью, странным стилем общения, некоторой отчужденностью была бы прекрасной «лишней». Недаром она еще до знакомства вызвала у него ассоциации с незадачливой героиней. Хотя почему «бы»? Она и была ей, и только его появление, озарило сумрак ее социальных противоречий, примирило ее с обществом, с человечеством. Потом он вдруг с тревогой подумал, что так не бывает. Что по всем законам литературы никакое примирение невозможно, и судьба лишнего человека обречена на трагедию, на провал. И тогда его появление не играет никакой роли, и он сам – лишь проходной персонаж, суетливым своим мельтешением служащий фоном масштабной драмы. Череда этих сумбурных соображений уложилась примерно в две минуты. Студенты практически не заметили внезапного ступора Резумцева и были поглощены внутренними, вполголоса, обсуждениями, кто – предмета занятия, а кто – каких-то посторонних проблем.
Павел подошел к запотевшему окну. Приложил ладонь. От ее тепла вниз по стеклу побежали прозрачные ручейки, ломанными траекториями пробиваясь через мутный конденсат и открывая за собой узкие фрагменты сырого города, ритмично разбитого на оранжево-желтые и холодно-серые геометрические фигуры. Он медленно – туда-обратно – протер смотровую зону, поглядел через нее на дождливый осенний пейзаж.
Да ерунда это все… Что ж за привычка такая дурацкая – нагнетать такой негатив? Хотя и не привычка… Только сейчас прицепилось. Нормально у нас все! Все нормально! Хорошо! Так… Однако, что там эти-то?
Резумцев повернулся, отирая сырую руку о штанину.
– Теперь, Оля, возвращаясь к вашему тезису относительно писателя как лишнего человека.
– Ну это не тезис, Павел Дмитриевич, скорее, просто вопрос, – блондинка пару раз плавно переместила вес с одной ягодицы на другую.
Ну наконец-то по имени! Спасибо тебе, Оленька. И ведь запомнила же… Я учту… учту.
– Не надо сразу отступать. Такая точка зрения вполне имеет право на существование. Но вот согласиться с ней я, пожалуй, не могу. Во-первых, основное стремление писателя, мыслителя по отношению к обществу – это быть понятым. И хорошим писателям это, конечно, удается. Некоторым при жизни, другим – позднее. Следующий этап, конечно, несколько тщеславный, но присущий большинству писателей, – это быть признанным. То есть добиться, чтобы значительная часть общества не только поняла, но и разделила его мысли. И чтоб это произошло, должны совпасть два встречных процесса: со стороны общества – желание и умение дотянуться до уровня мыслителя и понять, и со стороны писателя – прочувствовать, каким образом, в какую форму свое послание облачить, чтобы достигнуть максимального эффекта. Я сейчас говорю не про масштаб и качество идей какого-либо писателя, а исключительно про общую картину взаимоотношения его с обществом.
Павел снова прибегнул к помощи доски и нацарапал на ней аморфную фигуру с буквой «О» в центре, подбоченившегося человечка под буквой «П» и экспрессивно соединил их обоюдонаправленными векторами.
– И как же лучше всего эту форму нащупать? – пророкотала Крупный Прозаик, тревожившаяся по поводу отсутствия «лишних женщин».
– Ну, тут, как говорил герой Высоцкого во всем известном фильме, нужно проявлять искренний интерес. Во-первых, нужно постоянно тренировать наблюдательность, на все обращать внимание, во все вникать, впитывать. Во все процессы, абсолютно. Вот идете вы, скажем, по улице. Тут тоже умение нужно. Иной раз так и хочется наушники воткнуть, добежать побыстрее куда надо, не обращая ни на кого внимания. Нет! Писатель не имеет права так поступать. Все в багаж, все в копилку. Каждую минуту, каждую секунду рядом с вами может происходить нечто, что может сподвигнуть к написанию гениальной вещи, находке грандиозного решения, рождению какой-нибудь невероятной идеи. Во-вторых, необходимо, конечно, уважать читателя. Без уважения нельзя выстроить никаких прочных отношений. Нужно вступать с ним в диалог. Нужно представлять любое свое литературное произведение как приватную беседу. Не нужно умничать, ибо никто не любит, когда его выставляют дураком, не нужно опускаться до уровня самого тупого из возможных читателей – это выглядит как заискивание и на подсознательном уровне тоже, в конце концов, вызывает неприятие. Нужно стремиться общаться с читателем, как с равным. Но! При этом быть чуть выше его и осознавать это. Чтоб ему было куда стремиться, чтобы для него была интрига, нечто неизведанное.
Вот меня понесло-то… Но вроде ничего, слушают. Оленька, вон, даже ротик приоткрыла… Ну, погнали дальше!
В общем, главное – это не быть равнодушными. Равнодушие обезличивает, оскопляет, если позволите так выразиться. Для мыслителя необходима позиция активная – постоянная потенциальная возможность проявить себя не только на бумаге, но и в жизни. Без полноты жизненной ведь наступает и неполноценность интеллектуальная и творческая. И нужно опять-таки понимать: я не призываю, что называется, пускаться во все тяжкие, я говорю о готовности, способности к Поступку! С большой буквы! Настоящий писатель, крупный писатель, великий писатель не может быть только теоретиком, ограничивать себя, свое творчество чужими познаниями. Как полководец должен проверить себя в битве, как путешественник должен пройти маршрут, так и писатель должен испытать себя жизнью.
Резумцев распалил себя и впал в какое-то ораторское неистовство. Он заходил с разных сторон своего стола, присаживался на него и резко вскакивал, прохаживался взад-вперед, размашисто жестикулируя. В его преподавательской практике, да что там – в его жизни – это была первая такая лекция, построенная на экспромте и изложении собственных профессиональных и жизненных позиций. До этого он обычно пользовался методическими пособиями для преподавателей и тем классическим курсом, который прослушивал сам, будучи студентом. Сейчас же, курсируя перед аудиторией, он то и дело возвращался к осознанию своего внезапного раскрепощения, поражался ему и сам себе признавался, что произошло оно в основном благодаря Веронике. Нежданная, внезапная легкость знакомства и общения с ней открыла новые стороны его личности, отчасти уничтожила его закомплексованность перед слушателями, рефлексию по поводу собственного мнения. Сейчас Павел был уверен в себе, как никогда, наслаждался своим красноречием и пьянел от чувства его воздействия на аудиторию. Да! Сладостный момент демагогии (от античного «вождь народа»). Да! Он действительно создан для преподавания, для просвещения молодежи! Да, да! Он способен заронить эту искру и взрастить пламя! Спасибо, Вероника! Только благодаря тебе, твоей заражающей, обволакивающей (почему такие негативные термины) естественности смогли открыться эти способности. Ну, держитесь! Все вы у меня гениями станете!
– А он ничего так… Как тебе? – стрекучим шепотом обратилась к Оле ее соседка, пристально щуря глаза на Резумцева.
– Да, только дерганный какой-то, – отозвалась девушка.
В этой ее оговорке чувствовалась некая натужность.
– Говорит интересно, – чуть погодя добавила она улыбнувшись. – Захватывает.
– Ты бы с ним… а? Рассмотрела бы? – продолжила развивать тему соседка.
– Легко. Прямо вон там, у доски… – Оля приглушенно захихикала. – Да ну тебя!
– Молодой еще, конечно, – скептически склонив голову, резюмировала соседка. – Но ничего, ничего…
Резумцев в очередной раз прыжком сел на стол.
– В общем, отвечая на данный вопрос, можно сказать так: интересуйся, искренне интересуйся людьми, и будешь интересен им. И еще. Совет лично от меня: избегайте излишней официальности. Не нужно все это. Лучше сразу начинать общение с читателем так, как будто вы старые хорошие знакомые и вам есть о чем по душам поговорить. Долгие официальные вступления утомляют, отдаляют. В общем, на пользу точно не идут. Читатель будет только благодарен, если вы сразу перейдете к сути. Поверьте, он это оценит.
– Павел… Дмитриевич, а вам никогда не приходилось себя чувствовать исключительным человеком в обществе? – кокетливо спросила соседка Оли.
– Вопрос немного странный. Во-первых, мы сейчас говорим о литературных произведениях. Во-вторых, лишним, тотально непринятым и лишенным надежды на понимание – нет, не приходилось. А на счет исключительного – я думаю, это в какой-то мере свойственно каждому человеку, ведь все мы воспринимаем мир исключительно через свои личные ощущения, через призму своего «я». Как-то так.
– Павел Дмитриевич, а случалось ли вам самому писать… ну сочинять что-нибудь на эту тематику. Ну вот с таким героем, – активизировалась, выпавшая было из действия, Маша Чушкина.
В глазах Павла промелькнула хитринка.
Ну вот, все стали по имени-отчеству… Прям бальзам на душу! Стоп. Сочинять, говоришь? А что если им сейчас подсунуть эту самую лабуду, что Павлиныч придумал. Так, как-бы невзначай, в виде наглядного примера. Пусть понакидают мне тут своими юными свежими мозгами разных вариантов. А? Вроде неплохо придумано. Не знаю, правда, насколько это этично. Но, в конце концов, всем же от этого только польза, не так ли? Если, конечно, они вообще в курсе, о чем идет речь. Как бы тут поаккуратнее подвести?
– Какие вы сегодня молодцы, – отечески похвалил слушателей Резумцев и решил перевести дискуссию в выгодное для себя русло. – Опять интересный вопрос. Конечно. Приходилось, и использовать в своих литературных потугах, так сказать, и в какой-то мере затрагивать в исследованиях. Тип-то очень характерный и очень востребованный в литературе. Вот давайте с вами сейчас попробуем сыграть в такую игру – очень развивает воображение и гибкость ума: я вам называю некие обстоятельства, а вы мне составляете образ лишнего человека в них – его имя, род деятельности, ситуацию, обоснование исключительности. Чистый экспромт, не боимся фантазировать, импровизировать. Никаких критериев, принимается все. Ну что, готовы?!
Нестройный хор нечленораздельных звуков издал гул, который, скорее всего, можно было воспринять как согласие. Аудитория оживленно зашевелилась, вновь разнеслось разнообразное поскрипывание старых стульев. Павел опять вышел из-за стола, облокотился на него задом, эффектно скрестил на груди руки. Несколько секунд он глядел в пол, размышляя. Затем быстро вздернул голову и, выкинув руку в сторону прозаиков (все-таки они были ему как-то ближе), скороговоркой произнес:
– Август тысяча девятьсот четырнадцатого. Англия.
Первым, как почему-то и предполагал Резумцев, слово взял Одутловатый Филолог. Пока все в молчаливом напряжении пытались строить свои варианты или вовсе недоумевали по поводу предложенных обстоятельств, он, деловито поправив очки, выдвинул свою версию:
– Ну, допустим, так: поскольку все европейское общество на патриотическом подъеме и с воодушевлением жаждет войны, такой человек должен идти вразрез с этим мнением. У него должна быть пацифистская позиция, подкрепленная чем-нибудь таким… Например, он историк и может трезво представить, к чему все идет.
– Можно еще добавить личный мотив: например, его отец или брат погиб в англо-бурской войне, что укореняет в нем антимилитаризм еще больше, – встрял студент в пестром пиджаке и с прилизанным пробором, сидевший за Одутловатым Филологом. Тот обернулся и с недовольным видом принялся фокусировать на сокурснике очки с какими-то невероятными диоптриями, протестуя против того, чтоб его перебивали.
– Итак, молодой человек, – Павел уточняюще указал на первого оратора. – Да, вот вы, отрицающий Шекспира. Давайте окончательную версию. Кратко, тезисно.
Одутловатый немного посомневался, использовать ли дополнение Пестрого, но, решив в итоге, что оно продиктовано лишь эгоистическим стремлением продемонстрировать свои исторические познания и на его концепцию не очень ложится, ограничился своей первоначальной версией. Он опять поправил толстые очки, придавая этим жестом весомости будущим словам, и со значением произнес:
– Это молодой историк Гилберт Уинстон Лонли, специализирующийся, скажем, на столетней войне. Воможно, даже социалистических взглядов.
– Комуняка, – съехидничал Пестрый.
Одутловатый, уже не обращая внимания на ремарки соседа, продолжил:
– Грядущие события приводят его в ужас – этим он отторгается от воинственно настроенного общества, считающего его трусом и чуть ли не врагом Короны. Его невеста в патриотическом порыве, устыдившись его малодушия, бросает его и отправляется медсестрой в армию. А его отец – член правления оружейного завода. Семья алчет обогащения, предвкушая наступающую большую войну. Он отдаляется и от них. Вот, как-то так.
Резумцев благосклонно, даже не без некоторой скрытой зависти выслушал рассказ филолога.
Ничего, ничего, молодец. Быстро освоился. И даже с фамилией сообразил. Надо его запомнить. Даже жалко, что филолог.
– Неплохо, юноша, весьма неплохо изложено. Как вас зовут? Я прошу прощения – еще не всех вас успел запомнить за два занятия, так что, не обессудьте – буду часто еще спрашивать.
– Владимир Безовец, – ответил Одутловатый.
Без каких еще овец?..
– Благодарю, Владимир. Следующей нашей ситуацией будет Древняя Греция. Эдак – тысячный год до нашей эры.
Павел решил еще немного разогреть, размять аудиторию перед тем, как обозначить тему, действительно его интересовавшую. К тому же этическая неоднозначность этого шага не переставала его тревожить, и он подсознательно отодвигал его от себя, каждый раз решая, что этот вопрос будет следующим.
– Что у нас там может быть, в Древней-то Греции? Кто?
Руку потянула Оля.
– Да-да, пожалуйста, – улыбнулся ей Резумцев и произвел покровительственный приглашающий жест.
А все-таки до Вероники… моей… всем им далеко. Вроде и ничего как будто девочки, а не то. Плоские какие-то, без глубины. Случайные… Не хватает какой-то интеллигентности, что ли. Нет, не то слово. Интеллигентность ни причем. Внутреннего наполнения! Душевности, многогранности. Чтоб так, как на просвет переливались. Хотя, конечно, молодые еще. Ну, а Вероника старая, что ли! Нет, тут не в том дело. Просто это что-то природное… врожденное. Нет, не-ет. Таких единицы. Раритет! А этот, без овец-то, ничего – толк будет. Вот же мне повезло все-таки! Сколько там осталось? Семь часов? Да, где-то так.
– …поэтому, они его и прогнали из своего полиса! – Торжественно закончила Оля и состроила милую рожицу в ожидании похвалы.
Павел, все это время улыбаясь глядевший на нее и метрономически кивавший в такт ее монологу, вдруг выпал из своего оцепенения, и в глазах его сверкнул испуг.
Ой! Все прослушал! О чем бишь она там? Вряд ли что-то интересное. Но хоть из вежливости надо хоть вопрос задать.
История Оли, между тем, вызвала у аудитории немалое оживление. Прислушавшись к студенческому многоголосью, Резумцев уяснил, что группа филологов справа не принимала предательство какой-то гетеры Олимпии в качестве возможного и характерного действия. Коллектив же прозаиков возражал им, что это, как раз, было в порядке вещей, а вот поведение некоего Эврификла действительно противоречит всем историческим и литературным реалиям. Видимо Оля, вопреки сомнениям Резумцева, сочинила, если не талантливую, то уж, во всяком случае, весьма занятную историю, полную древнегреческих хитроумных козней и любовного коварства.
– Так, так, так! – По-нарастающей повысил голос Резумцев, перекрывая какофонию. – Оля, подытоживая: почему он все-таки лишний в своем… окружении?
– Кто? – простодушно спросила Оля, которую всклокотавшая вокруг дискуссия заставила отвлечься от собственной оригинальной истории.
– Ну… Этот ваш, – кто именно, Павел, конечно, понятия не имел. – Герой.
От радости обретения нужной формулировки, на последнем слове он чуть было не дал петуха, но совладал-таки со своим голосом.
– Ну как же?! Ведь он не попал на игры, и Олимпия ушла от него к Гератроклу, – как само собой разумеющееся, разъяснила Оля.
Действительно, ответ был исчерпывающий. Развивать этот сюжет дальше и поддерживать обсуждение у Резумцева не было никакого желания. Теперь, к тому же, закралось опасение, что и следующую его тему превратят в какой-нибудь будуарный анекдот. Но другой, совестливый Павел, где-то там в глубине, тихо радовался, что подобный ход событий никак не запятнает его моральный облик. В итоге, покорив себя за невнимательность, из-за которой была упущена здравая нить, и ученики смогли заблудиться в непролазных дебрях, он поспешил как можно деликатнее завершить выступление Оли и двинуться далее, к своей цели.
– Большое спасибо, Оленька. Очень содержательно. Особенно хороши имена, – искренне добавил он. – Идем дальше! Начало девятнадцатого века, Русская Америка.
– Ой, а что это? – Удивилась незнакомому словосочетанию соседка Оли, та, что интересовалась потенциалом ее половой жизни.
– Марин, ну ты даешь! Это ж когда Аляска еще нашей была, – перевесившись через парту опять поспешил показать свою осведомленность Пестрый. Соседка удостоила его пренебрежительного взгляда и фыркнула. Таких девушки обычно не любят.
У Павла после оглашения вопроса напряженно сжалось сердце. Внутренний Паша-совесть запустил учащенный пульс, заявляя о своем протесте, а от возможной надобности все еще и объяснять (а вдруг еще что-то и заподозрят) на лицо выползла предательская краснота, а лоб покрылся испариной.
Но недоумевавшую часть слушателей пояснение Пестрого вполне устроило, а остальные и так были в курсе, о чем идет речь. Аудитория перешла в низкочастотный режим раздумья. Павел, тем временем, начал возвращаться к своему традиционному цвету. Напряжение, правда, еще не до конца его отпустило.
Вопрос оказался сложнее двух предыдущих. Слаженных историй не получалось. Зазвучали неуверенные реплики:
– Может быть – против колоний? Против империализма?
– Революционеры что ли?
– Да какие революционеры? Рано еще!
– А может шпион другой страны? Англии, там, или Америки.
– А если какой-то местный житель, который помогает нашим, а для своих – он предатель? Индеец.
– Иностранец!
– Научно-технический прогресс! Ученый!
– Масон? Авантюрист?
– Люди Наполеона! Наполеона! Чтоб нас ослабить.
– А декабристов туда ссылали?
– Ты еще Ленина приплети!
– Ну почему? Они же тогда уже были. Еще, как их – народновольцы…
– Это же Америка!
– О! Негр! Негр-р!
Возгласы все нарастали и вот уже опять слились в невнятный хор, от которого у Павла даже началось головокружение. Кое-что он еще выхватывал, но здравого смысла в этих предложениях для него оставалось все меньше. Маленький Совестливый Паша, между тем, ликовал, что затея провалилась. Аудитория устала, это было видно. Передержалась, замылилась. Нужно было прекращать, тем более, что время лекции, к счастью, уже закончилось.
– Молодцы, молодцы, – миролюбиво утихомирил раскричавшихся студентов Резумцев. – Время, к сожалению, уже заканчивается, так что давайте запишем задание. Чтоб не говорили в следующий раз, что ничего не задано.
Он хищно улыбнулся.
Нестройно расхлопнулись десятки тетрадей.
– Да, теперь можно записывать, даже нужно. Так. Дадим раздельное задание по сегодняшней теме. Филологам – анализ произведения с лишним героем. На выбор. Подробно, системно, доказательно. Прозаикам – небольшое эссе, страниц пять. По принципу сегодняшних выступлений. Берем героя, эпоху и описываем историю конфликта. Так же на выбор – кому что ближе. Можно из предложенных сегодня – свои версии, можно и любые другие ситуации. И общее задание, не письменное, просто тема к размышлению: всегда ли литературный герой – это альтер-эго автора?
Шариковый скрежет ручек затих.
– Ну что, друзья мои, на этом все. До встречи через неделю. Мыслите и, главное, ни в коем случае не будьте равнодушными! Счастливо!
Глава 4.
До встречи с Вероникой – мера, которой Павел теперь исчислял свой день – оставалось шесть часов и тринадцать минут, если, конечно, не врал постоянно перевернутый электронный циферблат. Вроде не врал. Он сверил его с часами в холле и, кроме того, для верности спросил еще у повстречавшейся хозяйственной работницы. Все показатели были до странного идентичны, а ведь обычно где-то обязательно да отличается. Впрочем, как уверил себя Резумцев, бывает всякое, и такая повсеместная пунктуальность ему показалась добрым знаком. Как будто все окружающие, весь мир сопереживает и поддерживает его, объединившись в трепетном ожидании семи часов вечера, когда должна воцариться абсолютная, космическая, гармония. А иначе и быть не может, если даже время – этот исконный и безжалостный противник рода человеческого – сейчас так с ним единодушно.
Ободренный этими соображениями и неплохо удавшейся лекцией, а также и своей находчивостью во время нее, Павел отправился пообедать в институтскую столовую, после чего намеревался съездить в «Наш город», где должен был получить новое задание и даже, если повезет, гонорар за свои предыдущие труды.
Миновав сложную систему лестниц и коридоров, Резумцев натужно скрипнул тяжелой железной дверью и оказался во внутреннем дворике. Хоть на улице и было пасмурно, после тусклого помещения дневной свет резанул по глазам. Павел поморщился от этого тонального перепада и от неприятной мелкой измороси, настойчиво летевшей в лицо. Постояв, привыкая, несколько секунд, он поднял воротник куртки и по диагонали двинулся через двор к корпусу, где располагалась трапезная.
Характерная, ни с чем не сравнимая смесь запахов хлорки и незатейливой массовой пищи ударила в нос. Густой, теплый воздух после промозглой улицы вызывал у всех входящих румянец, а у обладателей очков моментальное их запотевание. Время было обеденное, и обитатели института, вооружившись коричневыми пластмассовыми подносами и корявыми алюминиевыми приборами, выстроились вдоль раздаточного прилавка в длинную очередь.
Павел пристроился в хвост. Через некоторое время он уже был у стопки сырых сальных подносов и выбирал экземпляр с наименее оббитыми бортиками. Перебрав штук пять и уже успев вызвать недовольное цоканье и кряхтенье голодных очередников за своей спиной, Резумцев удовлетворился и шагнул к резервуару с вилками и ложками. Первая из выуженных им вилок имела липкую рукоятку, у второй между зубцами застрял окаменевший кусочек неясного происхождения. Обе были брезгливо низвергнуты обратно. Третья оказалась приемлемой, хотя и с немного погнутым крайним зубцом. Выбор ложки удался с первого раза. Тем временем справа появилась витрина с салатами, которые были представлены крабовым (соответствующие палочки с кукурузой), витаминным (огурец с помидором), свекольным (свекла) и крутым яйцом под майонезом с горошком и элегантной метелочкой укропа, – на бумажной табличке возле последнего блюда пересыхающим фиолетовым фломастером было выведено блюдом «салат «Юность». Павел взял свекольный.
– Первое вам? – тонким голосом произнесла толстая бабища в фартуке, ведающая супами. Фраза была доведена до полного автоматизма за годы ежедневных тренировок и каждый раз произносилась с абсолютно идентичной тональностью, громкостью и скоростью.
– А какие сегодня?
Раздатчица первого состроила гримасу безнадежного разочарования в человечестве в сочетании с утомленностью от окружающего идиотизма.
– Для кого меню повешено?! – раздраженно спросила она. Однако было заметно, что возможность произнести новую реплику развлекла ее. И, словно изливая на недостойного подданного величайшую милость, надменно произнесла:
– Лапша и гороховый.
– Гороховый, пожалуйста, – миролюбиво озвучил свое решение Павел.
Для препирательства с агрессоршей не было ни желания, ни веры в успех.
Бабища хмыкнула, ловко зачерпнула половником из большого чана и выплеснула в тарелку мутного желто-зеленого варева. Отточенным жестом она отправила тарелку на прилавок, чуть подкрутив ее вокруг оси так, что гороховая субстанция заляпала всю кайму, но пределов посуды не покинула. Резумцев, поддев тарелку снизу двумя руками (чтоб не угадить пальцем в уже начавшие отекать внутрь суповые разводы), аккуратно переместил ее на свой поднос. Просеменив вдоль прилавка четыре шажка, Павел приблизился к горячему.
– Второе?! – прогнусила следующая раздатчица, эффектно контрастирующая своей худосочностью с черпальщицей супов и не уступающая ей в голосовых качествах.
Комический дуэт… трагикомический…
– Сосиски, пожалуйста, – наугад попросил Павел.
– Закончились, – удостоила его ответом Женщина-Второе, подбоченившись одной рукой и с поволокой глядя в сторону.
– А котлеты?
– Рыбные, – с усилием выдавила она.
– Давайте. С макаронами.
Женщина-Второе совершила такой же маневр, как и ее коллега. На прилавок выскочила тарелка с приплюснутой бледной котлетой и несколькими макаронными трубками, сросшимися в единую футуристическую скульптуру.
– А еще подливка полагается, – буркнул Павел.
Женщина-Второе, приподняв одну бровь, плюнула в Павлову котлету ложкой охристой луковой жижицы.
– Второе?! – послышался клич, обращенный уже к следующему за Резумцевым столовнику.
Павел же, дополнив натюрморт на своем коричневом подносе, рыжим пятном абрикосового компота – в целом теперь грязновато-теплый колорит отдаленно напоминал что-то из фламандской живописи – приблизился к кассе. Рассчитавшись без сдачи и получив за это благодарность кассирши, он аккуратно и надежно ухватил свою ношу и отправился в обеденный зал. Было шумно – балагурила студенческая братия, стучала посуда, из подсобных помещений доносились различные хозяйственные звуки. Свободных столов не было.
Наиболее вакантным местом представлялся стол возле окна, за которым как раз намеревался приступить к своей трапезе Вацлав Яковлевич Почка – один из институтских старейшин. Это был благообразного вида старичок, олицетворявший хрестоматийный образ профессора – седая бородка клинышком, небольшие круглые очочки, костюм-тройка (правда, несколько потрепанный и с брюками от другого комплекта). Когда именно он появился в институте, никто из нынешних обитателей сказать точно не мог. Окутаны тайной были и его возраст, по различным версиям колебавшийся от восьмидесяти до ста, и его национальность – по трем основным, бытовавшим гипотезам он являлся либо чехом, либо белорусом, либо евреем. Существовало и множество других предположений. Биография и происхождение его так же были абсолютно неопределенными – то он являлся потомком старинного шляхтецкого рода, усыновленного растроганным красноармейцем в двадцатом году после ликвидации всей его семьи, то он вдруг оказывался потомком чеха, отбившегося от своего корпуса и застрявшего где-то в Сибири в разгар Гражданской, то он представал сыном бедного еврейского артиста, пострадавшего от погрома в местечке под Гомелем. Самого Вацлава Яковлевича эта ситуация, по-видимому, весьма забавляла, поскольку он никогда не старался опровергнуть ни одну из версий, а, наоборот, всегда, мягко улыбаясь, сам добавлял им новых деталей и подробностей, предоставляя благодатную почву для новых легенд. Согласно мифологии его дальнейшей жизни, он побывал и биографом Сталина, и политическим лагерным узником с неимоверным сроком, и героем войны (причем в некоторых версиях – Первой мировой), и предателем-коллаборационистом, и лауреатом Ленинских премий – героем соцтруда, и матерым диссидентом, и гениальным самородком, и беспринципным эксплуататором литературных негров. Все эти альтернативы Почка все также не отвергал. И все также мягко улыбался. Достоверно о нем было известно лишь, что он уже несколько десятилетий состоял профессором Кафедры литературного мастерства (не занимая при этом никаких руководящих должностей) и являлся на данный момент одним из символов всего Института (наряду с эмблемой, печатью и зданием), неким живым артефактом. Его всегда включали во все делегации, президиумы и комиссии, что в последнее время, в силу его почтенного возраста и нарастающего темпа современной жизни, становилось ролью все более декоративной – что-то вроде английской королевы. Однако с мнением его все, включая ректора, по-прежнему считались.
– Разрешите? – Павел навис над столом Вацлава Яковлевича. Ответа не последовало. Старичок был глуховат и подслеповат на правый глаз, со стороны которого как раз и зашел Резумцев.
– Простите, у вас свободно?! – спросил он уже громче, догадавшись о причине молчания.
Следующую попытку предстояло предпринимать уже криком, либо нужно было или просто сесть без разрешения – ведь наверняка же не занято, или вовсе ретироваться. Все три варианта смущали Павла, но, к счастью, к ним не пришлось прибегать. Почка повернул в его сторону лицо доброго доктора Айболита, что под деревом сидит, и мягко улыбнулся.
– Пожалуйте, молодой человек. Почту за честь.
Резумцев разместился напротив заслуженного профессора и, поставив перед собой свой фламандский поднос, стал бессмысленно перемешивать однородно-свекольный салат. Вацлав же Яковлевич, тоже усевшийся недавно, извлек чуть заметно трясущимися руками из внутреннего кармана пиджака персональные нож и вилку и, поочередно подышав на них, принялся обстоятельно протирать видавшим виды носовым платком. Павел ухмыльнулся про себя.
Ишь, брезгует общественными-то дедушка отечественной словесности. А, впрочем, и правильно. Может потому и держится до сих пор. Хм, а забавная мысль – дистанцированность от общественного как залог интеллектуального долголетия. Да и физического тоже. Вот тебе и лишний человек. Нужно будет потом где-нибудь использовать – распознавание лишнего человека по деталям. Эдакий такой детализированный метод: бумажник, там, ключи, часы. Часы. Сколько там у нас осталось? Меньше шести уже, наверное? Ну да, точно, так и есть. Может быть, купить цветов все-таки? Каких-нибудь таких… К глазам что бы… Хотя, конечно, с причудами она… но милыми. Непонятно, как отнесется, уместно ли при наших… отношениях… близких… как бы. Да-а, странно это все – такой вод подход. Сто лет знакомы. Хм, а вот интересно, при таком раскладе, как у нас обстоит с этим делом-то? Как подразумевается? А ведь вопрос важный. Ой важный. Тут тонко надо. Не спугнуть бы тоже. Нет, не надо цветов, а то воспримет еще как намек. Вероника. Уж лучше так, повседневно, буднично.
Резумцев, продолжая методично перемешивать свекольную массу, отрешенно смотрел сквозь Вацлава Яковлевича. В какой-то момент он периферическим зрением перехватил встревоженный взгляд своего состольника, что вывело его из задумчивых мечтаний о цветах и Веронике. Перед ним сфокусировалась полуфигура Почки с застывшей на полпути ко рту персональной вилкой, на которую был аккуратно нанизан маленький кусочек печеночной оладьи. Профессор, вероятно, уже некоторое время внимательно наблюдал за ним и вот теперь, заметив ответную реакцию, озарил свое лицо прожившего в два раза дольше Чехова учтивой улыбкой.
– Ну вот и славно, – со старческой хрипотцой в голосе резюмировал Вацлав Яковлевич. – А то я уж, грешным делом, подумал, приключилось что.
– Да нет, что вы. Нормально все, – поспешил уверить его Павел. – Кстати, приятного аппетита.
– Ну да, ну да. А то я смотрю – взор какой остекленевший у вас. И свеколка вон – из плошечки вся повыскакивала. Быть может, приключилось с вами что-то? Могу ли я быть полезен? Скромными моими возможностями.
Вот же ж, старичок-лесовичок…
– Да нет же, Вацлав Яковлевич, – вновь попытался отстраниться Резумцев, – все абсо…
– А вы не спешите, не спешите с уверениями, молодой человек, – с благостной бесцеремонностью перебил его Почка. – Вы уж простите старика великодушно, но я за свою жизнь взглядов повидал – у-у!
Профессор произвел движение вилкой, призванное изобразить количество виданных им взглядов и завершившееся отправлением в рот печеночного кусочка. Павел, решивший пока промолчать и дать старику выговориться, приводил тем временем в порядок разметавшийся свекольный салат.
– Одним словом – много, – прожевав и проглотив печень, продолжал Почка. – И уж поверьте, то, как вы тут сейчас сидели… со свеколкой, вот… Это или признак чего-то великого и прекрасного, что с вами происходит (и приведи, Господь, чтоб так и было), или какой-то надвигающейся на вас катастрофы, которую вы не осознаете еще в полной мере, но предчувствуете.
С этими словами он поместил в рот еще кусочек оладьи, предварительно подцепив им горсточку картофельного пюре. Резумцева эта речь несколько обескуражила. Он только что наконец-то загрузил в себя порцию свеклы и вот теперь, не дожевав, комом проглотил.
– Да какая еще катастрофа? Да ну. Задумался просто. С кем не бывает? Зачем же уж такую категоричность подводить?
– Молодой человек, я живу на свете… – тут Почка подавился и на пару секунд закашлялся, – Кха …осемь лет. Право, не стоит мне объяснять, что просто, а что нет. Если не ошибаюсь, Павел?
– Да.
– Сколько вам лет, уважаемый Павел? И как по батюшке, простите?
– Двадцать четыре. Дмитриевич.
Павел Дмитриевич хлебнул своего рыжего компота, пропихнув застрявший где-то на полдороги недожеванный салат.
– Вот видите, Павел Димитриевич, – подытоживающе развел руками пришвинообразный профессор так, будто сообщенные собеседником метрические данные являлись неким решающим аргументом. – Что и требовалось доказать. А вы говорите «просто».
Почка неспеша запустил в рот очередную вилку с кушаньем и через плотно сжатые губы вытянул ее обратно идеально чистую. Принялся жевать. Павел, предположив, что волна разговорчивости схлынула, набил себе в рот остатки свеклы. Но она не схлынула.
– То, что вы задумались-то, – это бесспорно, – продолжал Вацлав Яковлевич, степенно препарируя остатки оладьи. – Но я наблюдаю людей не одно десятилетие. И не два. Пристально наблюдаю, уважаемый Павел… кхе… Димитриевич. И такой взгляд встречать доводилось. Его ни с чем не спутать.
– И что, согласно вашей теории он означает?
– Кхе… Теории… – последовало движение вилкой, а затем полуминутное жевание. – Такие глаза бывают или у великих влюбленных, или, – он намазал ножом на вилку пюре и поднял лучистые глаза на собеседника, – у убийц.
Павел кривовато улыбнулся.
– Не дай Бог, конечно, – продолжал профессор. – Более того, я уверен, до этого не дойдет.
Аспирант зачерпнул ложку остывшего супа. При этом со дна тарелки снопом поднялась гороховая взвесь и насытила цветом побледневшую было жидкость. Проглотил.
Занятный старичок. Про великого влюбленного по глазам – прям приятно. Неужели так заметно? Ишь ты! Здорово. Про убийцу, конечно, хватил. Но нет, душу выворачивать – «ах, какой вы проницательный! Действительно, все так!» – я перед ним не собираюсь. Про любовь за гороховым супом… пошло. Про убийцу, так вовсе не стоит рассуждать. А вообще, конечно, спасибо ему. Великий Влюбленный! Красиво! Ладно переведем тему…
– Занятно. Но что если, предположить, что это нечто третье? – Павел проглотил еще ложку. – Если это – взгляд художника? Муки творчества, так сказать. Ведь художник един во многих лицах. И если он настоящий – я, конечно, сейчас этого относительно себя утверждать не смею, – то он, помимо прочего, безусловно, и великий влюбленный, как вы выразились, и убийца. И потом, почему этот взгляд, ну, которым я, вы говорите, смотрел, выражает по-вашему именно эти два… э-э… состояния?
Почка жевал и улыбался ясными очами местночтимого святого и отправил на погибель в чай два кубика сахара. Сосредоточенно перемешал.
– Интересно, Павел Димитриевич, очень интересно. Вы сами одновременно и поставили правильный вопрос, и на него же практически ответили. Потому что это две стороны одной медали, которая и является творчеством. Это, если хотите, процессы родственные, только знаки разные: тут – плюс, а там – минус. Одно – созидание, другое – разрушение. Но оба они – самые сильные действия, направленные на изменение, пе-ре-творение мира, так сказать, – во рту профессора скрылся последний кусочек оладьи, после чего последовала традиционная полуминутная жевательная пауза. – И если любовь направлена на творение жизни, то убийство – это творение смерти. Так что о муках творчества – это вы очень верно изволили заметить, прямо в точку угодили. Именно такие муки ваш давешний взгляд и выражал. Ведь такие сильные ощущения не могут не сказываться на душе, а глаза, как известно, ее зеркало. И взгляд в данном случае выражает не конкретную эмоцию – ненависть, там, или нежность, а именно, как бы это сказать, передает полноту и мощь самого чувства. И абсолютно не важно, с плюсом оно или с минусом. Главное – что оно есть. Мощь, понимаете?
Вацлав Яковлевич пригубил еще немного дымящийся чай и принялся нарезать на аккуратные кусочки лежавший перед ним на блюдечке пирожок – вроде бы с капустой. При этом он немного смущенно пожал плечами – мол, ничего не поделаешь – возраст, приходится и пирожки нарезать. Павел, тем временем, доел свою бобовую похлебку и произвел рокировку тарелками, установив перед собой рыбную котлету.
За соседний стол в это время нахлынула стайка звонкоголосых студенток, среди которых были и сегодняшние Павловы слушательницы – Оля и ее кудрявая кокетливая соседка, имени которой он не запомнил. Они уселись за спиной Почки, представив перед глазами Резумцева картину, которую можно было бы назвать «Апофеоз контраста» – столь разнился теперь образ профессора со своим фоном. Степенная старость и энергичная молодость, выверенная обстоятельность и непредсказуемая наивность, громкое щебетание и хрипловатая монотонность, телесная красота и проницательная мудрость, юная беззаботность и седая сосредоточенность. Казалось, между ними не существует ни единой точки соприкосновения, ни одной одинаковой черты. Кроме, разве что, принадлежности к общему биологическому виду. Да и в ту верилось с трудом. Девушки заметили аспиранта и начали кивать ему, игриво перешептываться, обращая на него внимание своих подружек, но оставаясь при этом, однако, в рамках приличий. Павел машинально кивнул им в ответ, слова Почки озадачили его. Последний же не заметил, на что отвлекся его собеседник. Или сделал вид, что не заметил.
– Вацлав Яковлевич, – продолжил дискуссию аспирант, грубо разламывая котлету, – вы, вероятно, меня не совсем верно истолковали. Я не имел в виду творца как творца жизни или смерти. Я имел в виду Художника – человека творческой профессии, понимаете. Художника, композитора, писателя, ну как мы с вами, простите за дерзость.
Почка, благостно улыбаясь, еще раз пригубил чай.
– Ведь в своих сочинениях, в процессе их создания приходится же перевоплощаться и в любовника, и в преступника, проживать образы, жизни, чтоб достигнуть большей достоверности характеров. Это же тоже все накладывает отпечаток, и на взгляд в том числе, не так ли?
– Да, Павел… Димитриевич, – в голосе профессора впервые прозвучали нотки озадаченности, – теоретически так-то оно так. И более того – так оно и должно быть. Но, вероятно, это утверждение распространяется только на гениев ранга Казандзакиса и Стравинского.
Ишь ты старик. И не мог более хрестоматийных примеров привести… нестандартно мыслит дедуля. Казандзакис… что-то знакомое. Нужно будет проверить.
– Мне, однако, за годы моих наблюдений за человечеством не приходилось встречать этот взгляд у художников, как вы изволили выразиться. У артистов, как говорят англичане, да, кхе… А вот у тех, о ком я уже имел счастье вам говорить, – сколько угодно. Уж повидал я их… И тех, и других…
Профессор сдержанно воздел руки. Опустив же, съел два кусочка пирога подряд и запил добрым глотком чая. Вероятно, разволновался от нахлынувших воспоминаний. В этот же момент Резумцев столкнулся глазами с Олей, которая запихивала в рот изрядный кусок ленивого голубца. Оба смутились и отвели взгляд. Даже покраснели. Оля – чуть больше. Павел залпом допил компот и вытряхнул в рот размокшую курагу.
– Так значит по-вашему выходит, что я или великий влюбленный, или убийца, – напрямик спросил он.
– Выходит, что так, – по-доброму ответил профессор Почка. – Вы уж не судите строго старика, Павел Димитриевич. Все это, в конце концов, лишь плод моих скромных наблюдений. А с некоторых пор, возможно, уже и маразма.
Очередной кусочек пирожка. А-ам.
– Ну что вы, что вы! – поспешил не совсем искренне выразить свою уверенность в дееспособности собеседника Павел.
– Ничего, ничего. К тому же в вашем-то возрасте, молодой человек, переживать великую любовь вполне нормально. И даже похвально. И, более того, скажу, не то чтоб повсеместно распространенно, но я встречал прецедентов достаточно. И сам, представьте себе… Году эдак… – Вацлав Яковлевич на какое-то время ушел в себя, занявшись интимными вычислениями. – Да-а. Тоже ведь, наверняка был такой взгляд. Признайтесь, коллега, ведь чувствуете же вы сейчас нечто подобное?
– Спасибо, что хоть в убийцы не записываете, – всосав макаронину попытался шуткой уйти от ответа Резумцев, все еще не имевший никакого желания обсуждать свои переживания, пусть даже и с таким занятным, но все-таки случайным собеседником.
Но Почка вдруг внезапно посерьезнел:
– Это не тема для шуток, юноша. В убийцы вас, конечно, никто зачислять не собирается, и все же смеяться над подобными вещами не следует.
– Извините, я ничего такого не имел…
– А, забыли, – вновь озарил окрестности своей улыбкой Вацлав Яковлевич. – Как теперь говорят – проехали. Во-от, видите, да? Стараюсь соответствовать эпохе… Уже которой… Кхе.
– Профессор, а вот у меня еще вопрос назрел.
– Извольте…
– Вот вы в самом начале сказали про предчувствие какой-то надвигающейся катастрофы. Это вы что имели в виду?
Почка уже подчистил блюдце с пирожком и допил чай. Резумцев доел костлявую котлету, из приличия и уважения к собеседнику не плюясь, а проглатывая кости, насколько можно раздробив их зубами. Намертво спаянные холодные макароны он решил не доедать.
– Да… Павел Димитриевич, не берите в голову. Все стариковские теории. Я, знаете ли, в своем мировоззрении достаточно фаталистичен. Есть у меня, среди прочего, мнение. Не волнуйтесь – никак научно не обоснованное – что такой взгляд может также присутствовать или у будущих убийц или будущих убитых. Кхе, вот сейчас только мысль пришла: и самоубийц, конечно, тоже. Но это самая слабая часть моей теории. Извините, как говорится, – на соплях держится. Это примерно как у Достоевского, помните: «это я великому будущему страданию его поклонился». Некий отпечаток предначертанной судьбы. В общем, Павел Димитриевич, еще раз вам говорю, не берите в голову стариковские бредни. К тому же я уверен, что вся эта мрачная половина, творчество зла, вас ни коем образом не касается. Вон – какой аппетит у вас замечательный, и цвет лица здоровый. Любите и будьте любимы. Вы как, покушали уже?
– Да, благодарю.
– Точно не обиделись ни на что?
– Ну что вы, Вацлав Яковлевич!
– Ну, коллега, тогда предлагаю закругляться и по делам… Каждому – по делам его, простите за каламбур. Спасибо за превосходно проведенное время. Давно с таким удовольствием не обедал. Почаще бы так. Ну да простите старика – опять заболтался. Всего наилучшего.
– И вам всего хорошего, Вацлав Яковлевич. Мое почтение!
Они поднялись со своих мест (Резумцев еще раз молниеносно пересекся взглядом с Олей), подняли свои коричневые подносы с опорожненной посудой и понесли их на помывочный пункт – в окошечко. Еще раз распрощались у дверей столовой: Почка мелкими шаркающими шажками отправился обратно в главный корпус института, а Павел через заднюю открытую проходную покинул территорию учебного заведения и направился на автобусно-трамвайную остановку, чтоб доехать до редакции «Нашего города».
Дождь перестал, местами даже клочковато проглядывало голубое небо. Вроде потеплело, а может быть, это просто был внутренний эффект от процесса пищеварения. Павел шел кленовой аллеей, которая уже начинала красиво рыжеть, и глубоко вдыхал насыщенный осенний воздух, вобравший в себя уютные прелые нотки листвы, постдождевую свежесть и городские запахи мокрого асфальта и транспортных выхлопов. В голове его уже не хватало места для размышлений. Вероника, Сарычев, диссертация, секретарша Татьяна, лекции, Аляска, Баранов, Оля, Безовец, негры, греки, лишние люди, Достоевский, «Наш город», гонорар, прозорливец Почка со своими пророчествами и великой любовью, цветы, котлеты – все это было понапихано, как пассажиры вагона в час пик, налезало друг на друга, давилось и роптало. Павел уже потерял все концы и начала, порвал логические нити и цепочки и теперь, мотая головой, вращая глазами и порывисто дыша носом, старался освободиться, избавиться от всего этого, хотя бы на время. Он то ускорял, то замедлял шаг, пытаясь понять какой темп лучше подходит для расчистки, но потом, осознав, что этим вогнал в себя очередную мысль, пришел чуть ли не в отчаяние. Как же он завидовал в этот момент буддистским медитативным навыкам. Вот бы и ему сейчас так: посидел лотосом полчасика, и все – ни одной тебе мысли, ни одной заботы. Полное просветление, понимаешь. Резумцев остановился. Оглянулся по сторонам. Безлюдно. Он стоял в середине аллеи, концы которой утопали в полупрозрачной влажной дымке. Тишина. Сделав несколько шагов в сторону, он зашел под раскидистый разноцветный клен. Павел еще раз оглянулся по сторонам, а потом с силой пнул ногой ствол дерева. Воздев лицо, он принял на себя сверкающий каскад дождевых капель, в обилии накопившихся на широких листьях. Брызги, пролетевшие мимо цели, шумной дробью ударили в первый слой палой листвы. Аспирант удовлетворенно крякнул и по-птичьи встряхнулся. Где-то сбоку, в тумане, заливисто затявкала собака, к ней присоединилась другая, побасовитее. Раздались детские крики, смех. Резумцев не стал оборачиваться и разбираться – к нему или нет были обращены звуки. Он поднял воротник куртки (несколько холодных капель бодряще проскользнули за шиворот) и, перешагнув через бордюр на гравийную дорожку, быстрым шагом продолжил движение к остановке. Вроде бы полегчало.
Глава 5.
До встречи оставалось четыре часа, двадцать семь минут, когда Резумцев вошел в редакцию.
«Наш город» размещался в безликом шестиэтажном бетонном здании постройки семидесятых годов. Газета была одним из самых крупных локальных городских изданий, пользовалась большим весом и популярностью среди горожан. В общем, процветала. И хотя оплата была не всегда регулярная, многие журналисты, корреспонденты и фотографы стремились попасть сюда. Резумцева, еще в бытность его студентом, пристроил старший приятель детства Никита Гусятников, состоявший тогда журналистом новостного отдела. Вскоре Никита оставил газету, ударившись в предпринимательство, да настолько рьяно, что однажды утром стараниями менее своих удачливых коллег вместе со своим новеньким Мерседесом взлетел на воздух. А Павел прижился и за четыре года своего служения «Нашему городу» стал очень цениться как универсальный работник синтетического жанра. Им затыкали все прорехи, как в кадровой организации, когда необходимо было кого-нибудь подменить, так и в литературной части, в случаях недостатка материала в очередной номер. Не раз предлагали Резумцеву перейти в штат на полную ставку, но он не торопился: ограничивала во времени учеба, свободный график был более привычен и комфортен, а денег при его бессемейной жизни пока хватало и так.
Главному редактору газеты Таклису Мефодьевичу Саксаулову импонировала острота и оригинальность суждений Павла. Он допустил его в свое ближайшее окружение и держался по-свойски. Принципы и стиль управления, надо заметить, были у Саксаулова весьма оригинальные. Он пришел в газету давно, еще будучи молодым журналистом, и поступил в отдел культуры. Тогдашний его начальник был человеком недалеким и до крайности самодовольным – сочетание весьма распространенное. Кроме того, он почитал себя тонким ценителем и абсолютным знатоком искусства. Таклис решил воспользоваться этим обстоятельством. На каждое происходившее в городе культурное событие, будь то выход новой книги, премьера спектакля или художественная выставка, он писал сразу две рецензии – одну хвалебную, а другую разгромную. Заглавие первой могло быть, скажем, «Достойные продолжатели славных традиций», а второй «Прогресс? Прохода нет!». Далее он клал эти две характеристики в две папочки и шел к своему начальнику. В непринужденной беседе на возвышенные темы, которые тот, разумеется, очень любил, он выходил на нужное направление и узнавал мнение руководства. Когда заведующий отделом оглашал свой приговор предмету обсуждения, Саксаулов делал изумленное лицо и восклицал, что, надо же, как это верно подмечено, что ведь и ему пришло это в голову. И клал на стол соответствующую папку. Начальник был польщен. Еще больше раздувалось его самомнение, а заодно складывалось впечатление и о молодом журналисте как о весьма способном и разбирающемся человеке. Вскоре Таклис стал заместителем заведующего отдела культуры, а через пару лет, после выхода последнего на пенсию, занял его место. Такими же, или примерно такими, средствами он дорос до выпускающего редактора, затем до заместителя главного редактора, и вот уже одиннадцать лет, как состоял главным редактором «Нашего города». Дальше произошло следующее: заняв пост главного редактора, Саксаулов стал вызывать к себе на собеседование всех журналистов, корреспондентов и глав отделов. В процессе этих общений он выявлял личностей, подобных себе. И те, кого он уличал в излишнем чинопочитании и подхалимстве, были репрессированы – лишены премий, сняты с должностей или даже уволены. На их места Таклисом Мефодьевичем были поставлены люди, имеющие самостоятельную, принципиальную, пусть иногда даже противоречащую его собственной, точку зрения. Дело в том, что карьерное продвижение, основанное на слепом угождении начальству и полном уничижении собственной личности, было в душе глубоко противно Саксаулову и очень раздражало его. Себя же самого он оправдывал целью – тем, что действовал исключительно на благо родной газеты и читателей и тем, что принесенной им жертвой он искоренил данное явление в стенах отдельно взятого учреждения. При приеме на работу новых сотрудников он применял аналогичные требования. Сформировав таким образом комфортную для себя команду, он стал править демократично. Редко сидел в своем кабинете – чаще всего его можно было встретить обходящим дозором свои владения и дружески беседующим с сотрудниками. Он знал всех в лицо и по именам, здоровался за руку со всеми, включая курьеров и верстальщиков, вникал в личные проблемы, участвовал в жизни общественной. Он не ограничивался административной ролью, а частенько вместе с журналистами ломал голову над улучшением той или иной формулировки или стилистики. Запросто можно было к нему подойти за советом или с прошением. Не считал зазорным Саксаулов время от времени и выпивать с подчиненным, а поскольку газета была еженедельная, то минимум раз в неделю, после сдачи номера в тираж, такая возможность представлялась. Впрочем, он всегда знал меру и ни разу себя не скомпрометировал чем-либо недостойным, а также удерживал от застольного переусердствования и других, так что урона его авторитету не наносилось.
Газете редакторство Таклиса Мефодьевича безусловно пошло на пользу: аудитория расширилась, тираж вырос, качество материала улучшилось. Словом, руководство было его стезей, его призванием.
Войдя в новостной отдел, для которго он писал последнюю заметку и теперь рассчитывал на получение гонорара, Павел застал там долговязого бородатого репортера Васю Брахманова в своем неизменном растянутом свитере и фотокорреспондента Алексея Куру. Они сидели на продавленном диванчике и были поглощены игрой в шахматы. Брахманов играл за черных, под его тощим задом уже скопилось три вражеских пешки, конь и два слона, но, тем не менее, инициатива сейчас была на стороне белых – Кура шел в атаку, назойливо и монотонно ставя Васе шахи своим ферзем. В воздухе, несмотря на открытую форточку, угадывался дух перегара. Павел рассчитал, что только вчера был сдан в печать четвертый сентябрьский номер «Нашего города», и, согласно местной традиции, сегодняшний день был посвящен отмечанию этого события – большинство взяло отгул, а другие, такие, как эти двое, влачили праздное, расслабленное существование на своих рабочих местах.
– Салют труженикам пера и диафрагмы! – поприветствовал их Резумцев.
– Привет студенчеству! – отозвался Брахманов, почесывая жесткую, торчащую в разные стороны бороду и не отрывая взгляда от доски.
– Сам ты студент, – добродушно огрызнулся аспирант.
– А, Паша, здорово, – поприветствовал Кура. – Ты чего это сегодня? Отгульный же день-то.
– Да вот думал, может, выдадут чего. Бухгалтерия открыта?
– Наверное, – с расстановкой произнес Брахманов и длинной обезьяньей рукой перетащил своего короля по диагонали. – Сходи, посмотри.
– А Таклис есть сегодня?
– Да, куда он денется. Ходит где-то, – Кура решительно двинул в бой туру. – Опять шах!
Павел некоторое время понаблюдал за их партией, но она оказалась неимоверно скучна: Кура беспрестанно шаховал черного короля, используя одни и те же комбинации, а Брахманов уклонялся, бегая вокруг своей ладьи. Конца этому видно не было.
Он отправился в бухгалтерию и застал там несколько пожилых женщин, скучающих и курящих в форточку. Визит Павла был хоть каким-то событием, и они поспешили извлечь из него максимум. Затушив свои окурки, бухгалтерши с квохтаньем разбежались по своим столам и начали задавать гостю различные ничего не значащие вопросы, одним словом, затеяли светскую беседу. Интересовались, какая на улице погода, и изменилась ли она с утра, смотрел ли он вчера вечером новости, все там ли он учится, понравился ли ему последний номер «Нашего города», и не желает ли он чая или растворимого кофе. Спрашивали наперебой, причем на каждый вопрос, адресованный Павлу, отвечало еще как минимум двое работниц бухгалтерии. Когда церемониальные вопросы были исчерпаны, повисла молчаливая пауза. Женщины стали рыться в ящиках столов, перебирать бумаги, двигать с места на место чашки, папки и степлеры. Развлечение кончилось. Покряхтев, Павел огласил цель своего визита:
– А что, гонорар мне там, случаем, не начислили?
– Гонора-ар? – с серьезнейшим видом произнесла самая старая, а потому самая главная из бухгалтерш и переместила очки на шнурке с груди на нос.
Она, разумеется, прекрасно помнила, что никакой гонорар Резумцеву П.Д. не начислялся, но ритуал с торжественным открытием гроссбуха и шаманским перелистыванием разлинованных страниц являлся и символом значимости и обладал для нее экзистенциальным смыслом. Да к тому же просто был очередным развлечением. Главная бухгалтерша долго водила пальцем по спискам, реестрам и таблицам, сопела и многозначительно покачивала головой. Дойдя до конца ведомости, она бережно закрыла свой фолиант. Тут же мистический ореол пропал, и она опять обернулась обычной земной старушкой. Посмотрев поверх очков на просителя, она молвила:
– Нет, Резумцев, к сожалению, ничем не могу помочь. Пусто.
– Ладно, – развел руками Павел. – Пойду наверх – выяснять.
Вслед ему со всех концов бухгалтерии понеслись пожелания удачи, добрые напутствия и заверения вроде «если там, так сразу к нам, и мы уж тут». Поднявшись по гулкой лестнице обратно, Резумцев застал Брахманова и Куру за расстановкой фигур.
– А ту кто выиграл? – без интереса спросил Павел.
– Пат, – бросил Вася. – Ну как сходил, удачно?
– Не-а. Говорят – нету меня в ведомости. Таклис не заглядывал?
– Заглядывал, заглядывал, – раздался голос за спиной. – Здравствуй, Паша.
Резумцев оглянулся и увидел, что главный редактор сидит за столом одного из отгуливающих сегодня журналистов и занят изучением свежего номера, укрывшись за его разворотом. При звуках своего имени Саксаулов положил свое детище на стол и явил миру круглую голову с зачесом, широкий черепаший рот и хитрые глаза-бусинки за очками в толстой роговой оправе.
– Добрый день, Таклис, – поздоровался Павел.
Одной из черт либерального руководства Саксаулова было дозволение подчиненным обращаться к себе просто по имени. Но на «вы». Это казалось ему передовым и западническим, вдобавок он недолюбливал своего простонародного отчества и заодно, видимо, и своего не в меру политизированного родителя. К тому же так его всю жизнь чаще всего принимали за демократического прибалта, почти европейца, что ему весьма импонировало. Даром, что Саксаулов.
– Ну как же это так? – в позе недоумения пошел на главного редактора Резумцев. – Ведь месяц уже прошел почти. Я все жду, жду. Вот в бухгалтерию сейчас сходил, там говорят, мол, нету меня в списках. Нехорошо как-то получается.
– Ну виноваты, виноваты, – Саксаулов вскинул руки в комичной капитуляции. – А напомни-ка, о чем-бишь речь идет? за что денег хочешь?
– Так за августовский еще очерк о слоне. Как слона в наш зоопарк доставили. «Под восторженные и ободряющие крики горожан могучий исполин совершал первый обход своего нового владения», – нараспев продекламировал Павел. – Помните? Последний летний номер.
– Да-да-да, замечательный очерк. Точный, емкий. Ну не успели просчитать. Забегались. Конец квартала, сам понимаешь. Суета, суета. Тут штатным бы все успеть в срок выдать, а с вами, вольными стрелками, все еще сложнее оказывается. Конец квартала – пора аврала, как говорится.
Павел припомнил скучающих пенсионерок из бухгалтерии. Не очень-то та картина была похожа на суету и аврал. Он криво улыбнулся и вздохнул.
– Ну-у, мой юный друг, что-то ты совсем раскис. Нельзя так! – Таклис Мефодьевич с громким газетным шорохом восстал из-за стола. – Ну в начале следующего – непременно! Более того – прям-таки первым делом! Нашел, тоже мне, из-за чего расстраиваться. Соберись, давай! И не такое случается. Подумаешь.
– Ничего себе… – начал было Резумцев отстаивать важность своей проблемы, но был перебит.
– Ты, Паша, хорошо сделал, что зашел сегодня. Новый номер готовим вовсю. Сейчас еще для тебя обязательно что-нибудь интересненькое найдем. А завтрашний ты смотрел. Вот только что прислали экземпляр из типографии. Ты туда писал что-нибудь?
– Нет, – пробурчал Павел. – Корректировал только пару статей. Не смотрел еще.
– А ты посмотри! Посмотри! – Таклис, метнувшись к столу, схватил «Наш город» и протянул Резумцеву. – Посиди вот тут в креслице, посмотри. Хороший номер вышел. Правда, на четвертой полосе верстальщики налажали, но все равно, очень даже.
Он под локоток подвел Павла к креслу и буквально вмял его туда. Аспирант из вежливости и от нечего делать (до Вероники еще оставалось три часа, пятьдесят минут) устроился поудобнее и стал просматривать новый выпуск. Саксаулов же опять поместился за облюбованный им стол и, выхватив откуда-то другой экземпляр, так же погрузился в его изучение. Время от времени он или что-то ворчливо бормотал, хлестко стукая тыльной стороной ладони по неудовлетворительному месту в газете, либо, наоборот, улыбался и благосклонно кивал.
Кура и Брахманов скуксились и приуныли. Шахматы им наскучили, а присутствие руководства явно удерживало от перехода к другим развлечениям. Их напряженность обрела уже практически материальное состояние и стала настолько очевидна, что Саксаулов, не выдержав, изрек из-за своего газетного заслона:
– Ну ладно уж, бездельники. Что там у вас?
Вася и Леша оживились. Переглянувшись, они оторвались от насиженного дивана и стали замысловатыми траекториями передвигаться по помещению, открывая и закрывая холодильник, хлопая дверцами шкафов и тумбочек, журча водой в раковине в углу, двигая мебель, оказывавшуюся на их пути, и звеня посудой. Когда Саксаулов опустил газету, перед ним оказалось красиво сервированная гастрономическая композиция. Ее вертикальной доминантой была бутылка дагестанского коньяка с тремя звездочками, вокруг в разнокалиберных тарелках и блюдцах расположились тонко нарезанный и разложенный веером лимон с предварительно вынутыми косточками, треугольный кусок пошехонского сыра, несколько кружков сервелата, пиала с зелеными оливками и приотворенная банка рижских шпрот. Брахманов и Кура стояли по бокам своего натюрморта и довольно улыбались, наслаждаясь созерцанием его девственности и предвкушением предстоящего застолья.
Таклис отложил «Наш город», звучно хлопнул в ладоши и потер их друг о друга.
– Ну что ж, красиво. Можете ведь, когда хотите, – похвалил он подчиненных.
И решив все же добавить ложку педагогического дегтя, добавил:
– Вот лучше б работали так. Да-а, что-то распустил я вас. В рабочее время…
Кура и Брахманов потупились для вида, но в то же время еще плотнее подступили к накрытому столу. Вася откупорил бутылку, а фотограф ловко, словно сомкнув диафрагму, сгруппировал стаканы. Таклис произвел размашистый жест в сторону кресла, в котором все еще изучал газету Резумцев:
– Присоединяйся, Паш, давай присоединяйся. Да не переживайте вы – у меня еще там есть.
Резумцев, помявшись, отложил газету и начал медленно, со скрипом, подниматься из кресла.
Да что ж такое-то! Опять проблемы, опять искушения. Но нельзя же вот так вот: первое свидание – и уже бухим приходить! Надо хотя бы два-три выждать. Хотя… Сколько тут у них? Если на четверых, вроде не так уж и много получается. И под закуску. И, вдобавок, пообедал плотно так. Но нехорошо, нехорошо все-таки. Запах, там. Что я приду такой, с коньячным букетом? И шпротным. Ну куда это? Впрочем, еще четыре часа почти… Если по маленькой… Да и отказываться неудобно. Ой, знаю я эти «по маленькой»! Вон, Таклис говорит – еще у него есть. Этим явно не закончится. Так, час на дорогу где-то… это значит – минус три… Может лучше все же чайку? Но в голове, конечно, – у-у. Чего только не понамешано. Может и прояснится маленько от коньячка-то. Даже на пользу пойдет. А запахи? Ну, потом жвачку пожую, можно еще кофе выпить. Три часа ведь еще – это без дороги. С лимончиком, вон – норма-ально. Нет, все-таки нельзя так! Скажу, что дела срочные, извинюсь. Пойду лучше на бульвар, «Ессентуки» попью. Не так, конечно, но тоже прочищает. Или в Макдоналдс…
Все эти противоречивые раздумья уложились в два метра, отделявшие кресло от накрытого стола.
– Наливай, Вась! – Выдохнул он и пододвинул четвертый стакан, глухо звякнувший о первые три.
Брахманов звонко хлопнул своими долгопалыми ладошами и налил – сначала преувеличенно подобострастным движением Таклису Мефодьевичу, а затем уже по-простому – Куре, себе и Павлу. Последний подумал, что надо бы попросить налить ему половину, но в итоге счел это неудобным – и так чужое пьет, да еще условия ставит. Встав навытяжку, Брахманов повел костлявыми плечами и торжественно провозгласил:
– Первый тост, по традиции, предлагаю посвятить новому номеру нашего «Нашего города»! Да будет он очередной вехой на пути совершенствования и процветания нашего славного издания, призванного сплотить, воодушевить, направить!
– Куда? – Поинтересовался Таклис.
– Ну это уж – кого куда. Можно полаконичнее, как этот, генерал: ну, за новый номер! – Вася с профессиональной быстротой произвел троекратное чоканье и, не дожидаясь остальных, выплеснул в глотку содержимое своего стакана. – Аминь!
Главред, фотограф и вольный стрелок последовали его примеру. Закусили, кто чем. По телам распространилось отягощающее тепло, в носоглотках забродили ароматные коньячные спирты, конечности расслабились и обмякли. Резумцев подтащил к фуршетному столу свое недавнее мебельное вместилище, Кура прикатил кресло на колесиках, Брахманов угнездился на тумбочке, облокотившись спиной на шкаф и, с позволения начальства, закурил. Официальных тостов больше не было. Воцарилась непринужденная атмосфера: вспоминали какие-то старые забавные случаи, обсуждали бытовые и политические события. Через некоторое время Кура сбегал в кабинет Саксаулова и принес еще бутылку коньяка, а также привел двух девушек-верстальщиц, которые почему-то не взяли на сегодня отгул. Они принесли с собой отпитую и заткнутую самодельной пробкой бутылку полусладкого вина и коробку конфет. Одну из них, ту, что была пополнее, Вася, к тому времени уже стащивший с себя безобразный колючий свитер, усадил к себе на тумбочку и, приобняв за талию, стал нашептывать что-то о новых тенденциях в журналистике. Второй Кура галантно предоставил свое колесное кресло, а сам уселся на подлокотнике у Резумцева, свесив к нему правую ягодицу. Таклис Мефодьевич отеческим оком наблюдал за сотрудниками, определяя меру допустимого. На закономерный порыв Брахманова сбегать в магазин он наложил вето. Павел откинулся на спинку и, жуя сервелат, с улыбкой обожания смотрел на газетчиков.
Вечерело. Пасмурная погода дала ранние сумерки, и в комнате быстро потемнело. Саксаулов включил настольную лампу, разбросав по стенам и шкафам вытянутые тени своих подчиненных. Разговор, миновав принципы дореволюционного правописания, распределение прошлогодних Нобелевских премий, рецепты домашнего вина, религиозный и гигиенический аспекты обрезания (верстальщицы стыдливо покраснели, но в полумраке этого не было видно), несправедливость судейства на чемпионате Европы по футболу, сравнительный анализ раннего и позднего Гюго, рост цен и преимущества престидижитации над пассировкой, вырулил на обсуждение Веронского манифеста.
Созвучие топонима с именем, которое весь день не выходило у него из головы, выдернуло Резумцева из полупьяной неги. Он вскочил с кресла, чуть не сбросив на пол Куру, и метнулся в луч желтого электрического света, держа перед глазами свой перевернутый циферблат. Положение оказалось близко к катастрофическому: оставалась пятьдесят одна минута. Окружающие, кто с любопытством, кто с тревогой, наблюдали за ним. Павел сбивчиво со всеми попрощался, второпях пожал руку Таклису и под его напутственную реплику: «обязательно позвони мне завтра, должно что-то быть», схватил свою сумку и скрылся за дверью. Газетчики в недоумении переглянулись, пожали плечами и продолжили беседу, которая каким-то причудливым образом уже сползла на пагубный эффект от озоновых дыр.
Резумцев, прыгая через несколько ступенек, одолел все четыре этажа и выскочил в осенний сумрак. Повернув направо, он побежал через сквер на троллейбусную остановку, время от времени попадая в ажурные пятна фонарного света, пробивающегося сквозь искрящиеся пласты листьев, которые теперь утратили свою буйную разноцветность и нависали волшебным золотистым куполом. Пробежка и свежий воздух способствовали отрезвлению. По крайней мере, ему так казалось. Вспомнив, что кофе он так и не попил, а жвачки нет, Павел на бегу сорвал влажный кленовый лист и, скомкав, запихнул себе в рот. Далее он бежал, усиленно работая челюстями. Сумка неудобно била по боку, ноги разъезжались на опавших вегетативных органах, ботинки и джинсы, должно быть, были уже все в грязи. Но в темноте не видно. В общем, бежать Резумцеву было непросто, и со стороны он выглядел отнюдь не как романтический возвышенный герой из музыкальной мелодрамы, стремящийся на свидание, а, скорее, как солдат, бегущий до траншеи по взрытому от бомбежек осеннему полю под шквальным огнем неприятеля где-нибудь под Верденом. Удерживая равновесие, он, к тому же время от времени еще взмахивал руками, что придавало образу еще большей напряженности. С троллейбусом повезло. Заметив его еще издалека, Резумцев ускорился и в последний момент взмыл в воздух и запрыгнул в спасительный окоп. Над головой прострекотала уже нестрашная пулеметная очередь.
– Следующая остановка «Тубдиспансер», – донеслась ободряющая информация из динамика.
Павел бросил себя на свободное одиночное сиденье и перевел дух. Отдышка была такая, что впору выходить как раз на следующей остановке.
– Молодой человек, приобретаем билет, – сквозь пульсирующий шум в ушах донесся откуда-то сверху голос.
Это было совсем некстати. Последние деньги он как раз потратил на троллейбус по пути в «Наш город». Оплату обратного проезда он мыслил произвести за счет полученного гонорара. А может быть и вовсе об этом не думал. Даже, скорее всего, принимая во внимание и без того внушительный мысленный груз. Павел поднял взор. Ничего неожиданного он там не обнаружил: типичная кондукторша неопределенного возраста и внешности, короткая стрижка, служебная сумка на животе с торчащими квитанциями и купюрами, в толстых пальцах билетный рулон. Ох, как некстати. Резумцев состроил брови домиком и придал глазам как можно более несчастное выражение.
– Нету сегодня, – произнес он. – Ну так получилось.
Выпитый коньяк подстрекал добавить «тетенька», но его количества не хватило, и Павел резонно решил, что глумление неуместно.
– Молодой человек! – привычно повысила голос кондукторша на привычной фразе. – Тогда сейчас выходим!
Да что ж такое-то!
– Сегодня никак не могу! – Затараторил аспирант. – В другой раз, пожалуйста, могу слезть, могу штраф, могу в отделение. Куда угодно. Но сейчас никак! Пожалуйста! Вы же мне всю жизнь разрушите! Я Великий влюбленный! Ну тетенька!
– Да ты пьяный, никак! Такой молодой парень, а туда же. Тьфу! Ну-ка, собирайся давай! На выход!
Препирательство продолжилось. До встречи, тем временем, оставалось сорок, а, нет – уже тридцать девять минут. Резумцев решил стоять до последнего, другие пассажиры отворачивались и предпочитали нарочито не замечать инцидента, а принципиальная кондукторша, тем временем, уже перешла к стадии физического контакта, подбивая Павла снизу под локоть. В момент, когда его решимость уже пошатнулась, ситуацию волшебным образом разрешила старушка, сидящая через проход. Она тихонько похлопала кондукторшу (пришлось проделать это два раза) и мирно протянула ей причитающуюся за проезд сумму. Та приняла, резко отодрала от рулона билетик и, протянув его пожилой даме, удалилась по проходу в начало салона, отфыркиваясь, как боевой конь.
– Merci, Madame! – С облегчением воскликнул Резумцев, и схватив руку своей спасительницы, запечатлел на ней галантный поцелуй.
Проказник-коньяк подговаривал его еще встать при этом на одно колено. Но старушка и так была напугана. Однако скоро она успокоилась и даже подмигнула Павлу. Он же, взволнованный всем происходящим с ним и вокруг него, вскочил и оставшиеся три остановки проехал стоя, прижавшись лбом к запотевшему стеклу.
Остановка у метро. Двери открываются еще на ходу. Прыжок. Неудачно. Ушиб колено. Грязь. Наверное, полштанины в ней. Некогда. Бегом в метро. Турникеты. Тридцать одна минута. Эскалатор. Ох уж эти тележки! Бегом! Бегом! Уважаемые пассажиры, проходите слева! Средство повышенной опасности! Поезд! Ах ты! Ушел из-под носа! Ну ничего – вон уже следующий. Хорошая штука – метро! Поехали, поехали, поехали! Осторожно… Следующая станция… Понедельник. Много народу после работы. Студенты, служащие. Люди. Голоса. Заботы. Обрывки фраз: Мам, я вот все худею, худею. И для кого все это?! А она такая толстая и все у нее в порядке… А я, вот, недавно видел, парень вообще Достоевского читал! Представляю, что у него в голове… А мама – начальник женской колонии, и все равно… Две. Одна. Выход. Пересадка. Девятнадцать минут. Опять и на наручных часах и в метро – одинаково. Лестница. На обгон. Толчея. Пробка. Эскалатор. Вверх нужно пешком. Ничего – короткий. Осторожно, двери… Оп! Успел. Сколько? Четырнадцать. Вроде нормально. Тут уже посвободнее. На следующей выходите? Выпущу. Сколько еще? Через одну. На следующей. На следующей выходите? Да! Осторожно… Следующая станция… Уже не важно. Бегом вверх! Еще шесть минут.
В кучке пригородного народа, торопящегося на электричку, Резумцев вынырнул из стеклянных дверей. Ища по карманам обратный билет, который он по счастливой случайности приобрел утром, Павел вдруг с удивлением нащупал во внутреннем кармане куртки, которым он редко пользовался из-за неисправной молнии, хрустящую, прошедшую стирку купюру. Это неожиданное обретение совпало с попаданием в его поле зрения цветочного киоска. Три фактора – наличие четырех минут, чудесная финансовая находка, палатка на пути – и коньяк сообща породили логичное решение. Великий влюбленный приобрел пестрый букет каких-то непонятных цветов, ромашек, что ли. Без обертки. Последние тридцать метров он прошел быстрым шагом, на ходу пытаясь отряхнуть подсохшую грязь со штанины. Получалось не очень. Восемь ступенек на платформу.
Ну где же? Где же она? Может, не…
У третьего столба одиноко стояла знакомая фигура, сценически выхваченная из темноты необычно четким лучом фонаря. В ботинках на толстой подошве и в крупновязаном шарфе. Опершись поясницей об ограду, она читала. Видимо, какой-то конспект. В благоговейном любовании Резумцев остановился. Замер. Затих. Заметив его, хоть он и никак себя не обнаруживал, Вероника захлопнула тетрадь, сунула ее в свою холщевую сумку и двинулась навстречу. Павел тоже двинулся, улыбаясь и держа перед собой букет. Коварный коньяк выпустил на правую щеку слезу. А может быть, коньяк был тут и ни при чем. Может, от холода. Кто знает…
Они сблизились.
– Добрый вечер, – произнес он, протягивая букет.
– Цветы? Разве у нас сегодня какой-нибудь праздник? – сказала она.
Глава 6.
Из темной осенней сырости появилась электричка, задолго известив о себе дребезжанием проводов и светом фар, который во влажном воздухе, казалось, распространялся еще дальше. Народ подтянулся к краю перрона и разбился на кучки, старавшиеся угадать, где именно остановятся двери. Они проходили несколько шагов за медленно проезжающим входом, но потом, понимая, что поезд еще сколько-то проедет, поворачивались вспять и шли к следующему. Опять заморосило. Павел и Вероника, разумеется, не были заняты такими житейскими мелочами, как определение места остановки вагона, но, как это часто случается, когда особо не ждешь, может снизойти какая-нибудь внезапная мелкая удача. Вход в вагон оказался точно напротив них, позволив одними из первых проникнуть внутрь и занять места. Стоять и толкаться в толпе им совершенно не хотелось. Пассажиры, тем временем, продолжали бойко набиваться. Вероника села у окна, спиной по ходу поезда. Резумцев расположился рядом, трепетно прислонившись боком к своей спутнице. По правую сторону от него грузно опустился полный коренастый мужчина с рюкзаком, что дало абсолютно законный повод прижаться поплотнее. У окна напротив поместился худой паренек и, бросив короткий пытливый взгляд на Веронику, воткнул наушники, надвинул на глаза козырек бейсболки и отключился. Оставшееся место заняла женщина в клеенчатом синем плаще с многочисленными сумками и ее дочка, лет пяти, сжимавшая в ручонках глазированный рогалик.
Поначалу молчали. Павла, после прекращения беготни и обретения долгожданной цели, опять несколько сморило. Вероника, как и любая бы девушка на ее месте, рассматривала букет, иногда пытаясь его нюхать. Ромашки, что ли, какие-то… Осенние.
– Своеобразный запах какой, – сказала она наконец. – Как думаешь, на что похоже?
Она сунула цветы ему под нос. Павел почти ничего не различил. Возможно, разве что, какой-то тонкий аммиачный дух. Он списал это на усталость и коньяк. Вдохнул еще раз, поглубже.
– Ну так осенние ж цветы – природы увядание… пышное…
Что я несу? Какое увядание? К чему эти цитаты? Нечего сказать, хорошее начало разговора. Вот же черт дернул этот веник купить. Надо бы все как у людей: как день прошел? И все такое. Зачем же я пил-то?! Во дурак! Дур-ра-ак! Идиотина! Вот хлопнула бы она меня этим по морде, плюнула и ушла. В другой вагон. И правильно бы сделала. Я бы понял. Вот ведь Таклис… Хотя при чем тут Таклис – сам дурак…
– А ведь верно! – прозвучал вдруг совершенно неожиданно голос девушки. – Какие-то аммиачные нотки. Ты прав – это аромат распада и, как ты сказал – природы увядания?
– Это Пушкин сказал, – по привычке уточнил Резумцев и тут же дал себе внутреннюю хлесткую пощечину.
– Да, конечно, Пушкин. В багрец и золото одетые леса…
Вероника улыбнулась, удивительно мягко и трогательно.
– Кстати, ты знаешь происхождение названия «аммиак»?
Заскрежетали, заскрипели затворы чуланов памяти Павла.
– Вроде – что-то древнеегипетское.
– Ну да, конечно, что это я? Ты же у нас сочинитель – должен знать. Да, так называли жрецов, ну или там поклоняющихся Амону, у которых было принято во время своих ритуалов нюхать нашатырь. Ну а нашатырь дает аммиак. Так, что видишь, какой, в своем роде, божественный букет ты мне преподнес?
– Да уж. А ты откуда про это знаешь?
– Не знаю, – пожала она плечами и еще раз поднесла к носу аммиачные ромашки. – Слышала где-то. По радио, наверное. Так что это ты вдруг – цветы?
Павел потупился.
– Ну, так просто. Захотелось, вот.
– А что – и хорошо даже. Сегодня как раз хотелось чего-то такого. Спасибо тебе.
Вероника улыбнулась. Сосед Резумцева достал из рюкзака газету с кроссвордом. Парень напротив продолжал спать. Женщина на ухо за что-то монотонно отчитывала дочку. Девочка с чавканьем дожевывала рогалик. Павел окончательно успокоился. Уютная, теплая улыбка Вероники подействовала на него безотказно. Гнетущий ворох мыслей, наслаивавшийся и преследовавший его весь день, вдруг потихоньку стал становиться все более воздушным и прозрачным и, наконец, совсем улетучился. Все показалось теперь далеким, легким и второстепенным. Тревоги по поводу этой встречи, ее развития, уместного поведения так же отпали. Вот она, совсем рядом, такая родная, красивая, теплая. И к чему были все эти мелкие и неуместные переживания? Теперь он сидит с ней вместе, разговаривает, соприкасается. А все остальное…
И ведь главное – никаких нареканий за мое состояние. Другая уж точно все высказала бы. Тем более при таких отношениях, как у нас заведены. Уж распилила-перепилила бы. Надо же! Родная моя! Хорошая! Любимая! Спасибо тебе! Даже и слов-то таких не находится, чтоб всю благодарность выразить. И всю ситуацию поправила, и мое лицо, и честь мою… Ох, что-то понесло опять меня… Люблю! Да! И это здорово! И это прекрасно! Всех люблю! Даже тебя, человек с кроссвордом!
– Давай я буду звать тебя Вероной, – неожиданно, в первую очередь для самого себя, предложил Резумцев.
– Почему вдруг?
Вдруг… Как будто мы действительно с детского сада знакомы…
– Ну… А что, не нравится?
– Не знаю. На ворону похоже.
– Не-ет, Ну почему? Верона – это, как город в Италии. Ромео и Джульетта, там. И все такое. Романтика.
При словосочетании «город в Италии» любитель кроссвордов справа инстинктивно повернул голову.
– Романтика? По-моему, на удивление пошлая история.
Хм… А если задуматься, романтика – и сама по себе довольно пошлая вещь. Пошляками для пошляков придуманная.
– Это – да. Что есть, то есть. Согласен. Тут, кстати, сегодня один мой студент, – Павел с особым значением выделил это «мой», – фамилия еще такая забавная – Безовец, выдвигал теорию о том, что Шекспира, как такового, не было. Вернее, был, но все его произведения – плоды другого или других авторов. Ну не он это придумал, конечно. Одним словом, упомянул. Существует такая весьма популярная теория, знаешь, наверное. Ну так вот, я, откровенно признаться, далеко не ее сторонник – хочется все-таки верить в существование единой гениальной личности, даже вся мировая культура несколько блекнет, если допустить ее историческое отсутствие. Но, беря отдельные его вещи, тех же, например, Ромео и Джульетту или Комедию ошибок, то очевидно, что это уровнем, даже уровнями, ниже, чем Гамлет и Ричард Третий. Конечно, можно сослаться на то, что большинство неудачных произведений ранние, да и вообще, не бывает сплошь одних шедевров. Но все-таки… Что-то я запутался совсем. В общем, я к тому, что согласен с тобой.
Пересохшее горло настойчиво просило какой-нибудь жидкости, а Девочка-Рогалик в этот момент как раз безжалостно глотала домашний компот, практично помещенный в бутылку из-под пепси-колы с выгоревшей этикеткой.
Опять не то! Черт меня понес с этими теориями! Зачем? К чему? На лекции, что ли? Все свою ученость выставляю… Да какая там…
– Но если тебе нравится Верона, я не против, – примирительно сказала Вероника.
– Хорошо.
За окном появилась очередная станция. В вагоне добавилось еще народу. При этом произошло небольшое смещение фигур, и Павел, к своему ужасу, заметил Крыжовина, прислонившегося к стенке возле дверей тамбура и своим обычным мизантропическим взглядом смотрящего на окружающих. Резумцева он пока что не замечал.
Это была катастрофа. И без того непрочное и иллюзорное общение с Вероникой Илья мог бесцеремонно расшатать, осквернить, полностью уничтожить. Причем, зная своего приятеля, Павел понимал, что сделать он это может с необычайной легкостью и за минимальный промежуток времени – просто талант. Оставалось только надеяться, что Крыжовин их не заметит, но поскольку располагались они в вагоне лицом к лицу на расстоянии метров шести-семи, то надежда была более чем призрачная. Резумцев сильнее сполз вниз по сиденью, почти уткнувшись коленками в Девочку-Рогалик, наклонил вперед голову и втянул ее в плечи. По-шпионски поднял воротник. В сторону тамбура он изо всех сил старался не смотреть, но все же иногда непроизвольно косился туда. Опять начали роиться конвульсивные планы: незаметно встать и перейти в другой вагон под каким-нибудь предлогом, попросить спящего парнишку поменяться с ним местами, придумать внезапный недуг и выйти на следующей станции через другие двери. Но все это, по понятным причинам, было неуместно и все равно привлекло бы внимание наблюдательного Крыжовина.
– А с Порфирьевым-то, знаешь, так все удачно сегодня вышло. Подписал-таки. Буквально к стенке его сегодня приперла. Со Светкой Ерохиной к нему ходили сегодня. Пытался, конечно, отвертеться, мол, мне сейчас некогда, давайте попозже вопрос решим, но у нас так просто не проскочишь. Сколько можно, в конце концов!
Резумцев слушал вполуха. Пытаясь вывести себя из поля зрения Ильи, прикрывшись бородатым дедом в рыжей замшелой кепочке, похожим на автора «Происхождения видов», он плотнее подвинулся к Веронике. Страх быть обнаруженным Крыжовиным пересилил робость первого свидания. Она не подала виду, что заметила его телодвижение, а не заметить было невозможно, поскольку прильнул он весьма сильно – даже немного сдвинул ее по гладкому лакированному сиденью и прижал к стенке. Реакция же ее была следующая:
– Ты, кстати, что в пятницу делаешь? – на зависть ровной естественной интонацией спросила Вероника.
– Да вроде свободен относительно, а что?
– У нас в пятницу в институте короткий день – до двух. Можно погулять где-нибудь. А потом поехали ко мне. Родители очень рады будут. Ну так ты как?
Резумцева несколько смутило, с чего они должны обрадоваться, если никогда его не видели и, учитывая обстоятельства и время его знакомства с Вероникой, вряд ли даже подозревали о его существовании. Да и сама эта формулировка – не знакомство или представление, а просто «родители будут рады». Но, к своему собственному удивлению, он даже обрадовался – ведь это значило, что, несмотря на все накладки и неуместности, которые его так беспокоили, весь механизм его взаимодействия с Вероникой продолжал работать и двигаться в нужном направлении. И даже Крыжовин стал уже не настолько страшен.
– Да, конечно, я с удовольствием. Может, конечно, что-то и появится за неделю, но думаю – раскидаюсь. Да точно. Ну мы же еще увидимся, до этого, я думаю, – многозначительно закончил он и, глядя в упор на собеседницу, театрально скакнул бровями.
Она бесшумно, но заразительно засмеялась. Засмеялось и ее раздвоенное отражение в вечернем окне, обрамленное золотистыми электрическими контурами вагонного света. Павел тоже улыбнулся и почти засмеялся, на миг забыв о Крыжовине, но быстро посерьезнел.
Между тем неминуемо приближалась первая из крупных узловых станций, где большая часть пассажиров обычно выходит. Если на ней выйдет и Дарвин, или сядет на освободившееся место, да просто сделает шаг в сторону, не вечно ж ему так стоять, произойдет непоправимая катастрофа. Электричка уже шла по последнему перегону.
Вероника, тем временем, продолжала рассказ про своего Порфирьева и его важную подпись. Насколько Резумцев смог уяснить, это был декан, который должен то ли еще весеннюю сессию закрыть, то ли завизировать направление на какую-то программу, и по неясным причинам старался оттянуть момент подписания.
– Эй, да ты слушаешь, вообще? – Вероника потрясла перед ним аммиачным букетом. – Что с тобой, Паш? Вдруг напряженный такой стал.
Павел вздрогнул от волнами столкнувшихся ощущений – от впервые произнесенного голосом Вероники своего имени и предчувствия неотвратимой встречи с Крыжовиным, которая не сулила ничего хорошего.
Состав стал снижать скорость, и люди уже начали покидать места и тянуться к выходу. Одни вставали, другие садились, проталкивались, менялись местами, группировались в тамбуре. Механический голос возвестил о прибытии на станцию. Женщина с Девочкой-Рогаликом подхватила все свои многочисленные авоськи и пакеты и тоже направилась к дерям. Дарвин занял свободную скамейку, обнажив Павла и Веронику.
Неслышно для окружающих прозвучали вступительные ноты Пятой симфонии Бетховена, и Резумцев встретился взглядом с Ильей. Тот хищно улыбнулся и стал надвигаться. Павел с последними каплями надежды не отрываясь смотрел в глаза своему приятелю, стараясь телепатически внушить ему, если не вовсе не замечать его, но хотя бы вести себя помягче. Надежда вдребезги разбилась.
– Вот он – на хрену намотан! – рупорообразно начал свой ритуал приветствия Крыжовин еще на полпути к товарищу.
Павел в отчаянии прикрыл глаза.
– Эй, Пабло, чего это ты в другом вагоне-то поехал?
Илья широко расселся на освободившемся месте напротив.
Несмотря на то, что Крыжовин был всего тремя годами старше Резумцева, его белобрысая голова уже обнаруживала признаки лысения, а в теле появилась возрастная грузность, из-за которой создавалось ощущение, что Илья постоянно занимает собой чересчур много пространства, хотя выдающимся ростом и сложением он не обладал. Вот и сейчас он настолько гармонично смотрелся на двойном сиденье, что никому и в голову бы не пришло, что тут может разместиться еще один человек, и ни один из оставшихся стоять пассажиров электрички не предпринял такой попытки. Широкоплечий демисезонный плащ усиливал эффект крупных габаритов своего владельца. На живописной физиономии Крыжовина, с рытвинками от перенесенной в детстве ветрянки, родинками, веснушками и островками неравномерно прораставшей рыжеватой щетины размещались широкий рот с, казалось, как попало расставленными в нем крупными зубами, немного свернутый влево нос и яркие глаза цвета флорентийского неба.
Крыжовин отработанным движением отбросил назад сбившуюся на лоб жидкую прядь и, уставившись на приятеля, испытующе дернул головой, настойчиво демонстрируя, что намерен дождаться ответа на свой вопрос. Деваться уже точно было некуда. Павел протянул руку в приветствии.
– Ну, здравствуй, во-первых.
Илья, предварительно размахнувшись, с громким хлопком осуществил крепкое рукопожатие.
– О, да ты, я смотрю, подбухнул уже где-то! Молоток! – Нанес он очередной бессознательный удар своему другу.
Это было также произнесено со свойственной Илье громкостью. Резумцеву показалось, что даже люди с соседних мест при этих словах специально оторвались от своих дорожных занятий и с любопытством посмотрели на него, оценивая, в каком он состоянии. Успокаивая себя, Павел еще раз на пару секунд прикрыл глаза, глубоко вдохнул, выдохнул и тихо, с расстановкой, произнес:
– Илюх, видишь ли, я не один сегодня.
И с дипломатической улыбкой он кивнул на Веронику.
– Опа! – Крыжовин звонко ударил себя по широко разведенным коленям. – Перешел, значит, от теории к практике. Оскоромился? Давай знакомь! Давай-давай! А то ишь-ты – сидит такой вообще!
Однако не дождавшись представления, он поспешил проделать это самолично и, выбросив вперед растопыренную левую ладонь (просто она оказалась ближе к девушке, а тянуть правую ему было лень), чинно произнес:
– Позвольте рекомендовать себя: Илья Ильич Крыжовин.
Вероника протянула руку навстречу – так же левую. Он проворно за нее ухватился и припал в затяжном поцелуе, несколько выходившем за рамки простой галантности. Резумцев кряхтел и переминался.
– Какое забавное имя-отчество – Илья Ильич. Напоминает каких-то классических персонажей, – вынудила его оторваться от поцелуя Вероника.
– Ну да, Обломова так звали, – подтвердил ее мысль Павел. – И еще у Чехова был персонаж в Дяде Ване.
– Да ладно тебе со своими персонажами, – махнул на него свободной рукой Крыжовин (левой он все еще удерживал девушку). – Тоже мне, литеровед – выпил пива на обед? Ха. Сиди – помалкивай, дай с человеком-то поговорить. У меня не часто получается.
Как ни странно, ведя себя довольно бесцеремонно, да что уж там – почти по-хамски, Крыжовин умудрялся оставаться добродушным. Злобы или желания унизить Резумцева в его речах совсем не чувствовалось. Впрочем, добродушие это было для Ильи скорее исключением, которое он допускал к очень немногим, включая Павла. Чаще всего общение с людьми проходило в довольно резкой и саркастической форме. По причине такого характера, вызывавшего взаимное отторжение с обществом, друзей у Крыжовина почти не было.
– Э-э, а тэбя как завут, дэвушка, – перейдя на анекдотический кавказский акцент, продолжал незваный собеседник. – Ну и ходок ты, Пабло. Ох и ходок! Какую отхватил!
– Вероника, – ее рука проворной ящеркой выскользнула из широкой сжатой ладони Крыжовина.
– Хм, – расстроился Илья. – уж как-то больно официально звучит. А как поласковее будет? Так сказать, в интимном кругу, м?
– Что это ты еще за круги тут накручиваешь? – с деланной иронией спросил приятеля Резумцев.
Но голос его не соответствовал бодрости фразы. Павлу было не по себе.
– Замолкни, зануда, – умело спародировал пластилинового мужичка Крыжовин. – Ну так как?
– Надо же день какой сегодня, точнее вечер. За час уже второй раз мне хотят дать новое имя.
– А кто первый?
– Да вот – есть тут один, – Вероника взяла Резумцева под руку.
Успокаивающее тепло пробежало по телу. Теперь все стало не важно, – пусть себе Илья мелет, что хочет.
– Ага! Так стало быть, вы совсем недавно… того?
– Нам хватает, – девушка с хитринкой посмотрела на Павла.
Крыжовин расхохотался, ткнул приятеля кулаком в колено и игриво погрозил пальцем.
Эрудит с газетой пересел на параллельную скамейку, где было посвободнее. Илья проводил его громогласной сардонической ухмылкой.
– Так-так-так. И как же он тебя теперь называет? Погоди – дай угадаю. Что-нибудь античное, небось? Знаю я его – извращенца. Напомни потом, я историю про голую статую расскажу.
– Да не совсем. Вероной.
– Тю! А еще писатель. Аспирант-антиперспирант. Не мог чего-нибудь пооригинальнее придумать. Вон какой материал-то богатый.
– Спасибо за «материал». Очень ловкий комплимент, давно таких не получала. Но Верона мне нравится. Город такой в Италии. Ромео, Джульетта и все такое.
Улыбаясь глазами, она посмотрела на Резумцева. Эрудит опять искоса глянул на всю компанию.
Спасибо тебе, милая!
– Ну, дело твое, – пожал плечами Крыжовин. – Но я б, конечно, чего-нибудь гораздо более, так сказать, пикантное задвинул. Так прям – эх-х!
Он плотоядно пошевелил в воздухе пальцами.
– Смотри не прищеми ничего – так задвигать: эх-х, – весело предупредила Вероника.
Илье каламбур пришелся по нраву, и он опять раскатисто засмеялся, толкая Павла в колено и кивками показывая на его спутницу.
– Ну давай теперь про тебя подумаем, любитель интимных прозвищ, – продолжала девушка, вызывая новую гомерическую волну.
Парень в наушниках проснулся, протиснулся между коленей приятелей и, кинув еще раз прищуренный взгляд на Веронику, ушел в тамбур. Курить, наверное, а может на выход.
Крыжовин в широкой улыбке выставил свои хаотично размещенные зубы. Вероника оценивающе оглядела его. Павел совсем успокоился. Для него было неожиданностью, что Илья вдруг так запросто, по-дружески с кем-то сошелся.
Да как это – с кем-то?! С ней! Какая же она молодчина – так здорово войти в его колею, усмирить. Обворожить даже. И вот уже страшный, буйный, скабрезный Крыжовин ведет практически благопристойную дружескую беседу. Первый раз такое вижу. Рассказали бы – не поверил. И так все незаметно ей удалось… Просто нет слов.
Только одна проскользнувшая мысль, на которой он себя поймал, мешала в данный момент воцариться в его душе абсолютной гармонии. Он вдруг осознал, что в первый момент переключение назойливого, бесцеремонного внимания Ильи с его персоны на его спутницу доставило ему облегчение. Гаденькое, витающее в воздухе зловонным облачком ощущение собственной низкой радости, когда твоя проблема переходит на кого-то другого, пусть даже очень близкого и дорогого тебе человека. Резумцев старался заглушить, уничтожить эту мысль, оправдывая себя тем, что теперь-то обстоятельства сложились лучше некуда – все довольны, и конфликт исчерпан. В конце концов ему это удалось.
– Так, значит литературные персонажи, как я поняла, тебе чужды, не хочешь наименований из произведений, – рассуждала Вероника. – Тут надо что-нибудь емкое, лаконичное – сегментарности твоя фактура не терпит.
Крыжовин еще шире улыбнулся и гоготнул.
– А знаешь что, человек ты солидный, самодостаточный. Я, пожалуй, буду называть тебя просто – Ильич. Если ты, конечно, не возражаешь.
– Твоими-то губами – я готов быть хоть Виссарионычем.
Крыжовин снова запечатлел на руке девушки поцелуй, на этот раз более сдержанный. Все трое засмеялись.
– Нет-нет, Ильич – это в самый раз. Кратко, масштабно и, вместе с тем, не отклоняясь от паспортных данных. К тому же вон, – Вероника дружески потрепала Крыжовина по плешивеющей голове, – и портретное сходство с вождем намечается.
Павел сидел и не переставал поражаться. Крыжовин – этот закостенелый мизантроп, циник и грубиян, который никогда не упускал шанса за глаза или в лицо высмеять и оскорбить любого, который, на его памяти не сказал никому доброго слова, подмечал в людях только отрицательные стороны и всячески глумился над женским полом, уничижая его моральные и интеллектуальные качества и оправдывая его существование исключительно физиологическим аспектом, – он стал совсем ручным, приветливым, почти нежным. Он безропотно вынес комментарий относительно своих волос, он уже, казалось, был готов извиниться за свою первоначальную несдержанность, в том числе и перед ним, Резумцевым. При этом в его поведении не было даже и намека на сексуальное влечение – зная Илью, можно было с уверенностью сказать, что это он уж скрывать бы не стал. Впервые Павел видел, чтобы его приятель вел себя с кем-то (кроме него, что тоже являлось исключительным) просто по-человечески. Правда, он всегда подозревал за внешней грубостью и человеконенавистничеством добрую и даже, вероятно, стеснительную натуру, что, в общем-то, и обуславливало то, что он считал Крыжовина своим другом и в принципе общался с ним.
Первоначальный этап знакомства, поиск диапазона общения были пройдены, и разговор теперь потек плавно и естественно. Было видно, что Илья был окончательно очарован Вероникой. На этом, однако, удивительная противоречивость испытываемых всеми троими эмоций не заканчивалась: Резумцев, весь день грезивший о встрече с Вероной, мечтавший, как он окажется с ней наедине, и просчитавший десятки вариантов возможного развития событий, теперь сидел практически молча и с умилением наблюдал за душевным общением самых дорогих для него людей. Ни досады и отчаяния, которые возникли при появлении на сцене Ильи, ни, вполне способного возникнуть в данной ситуации, чувства ревности, ни ощущения себя чужим и боязни того, что Вероника забудет о нем, уйдет, исчезнет, не было и в помине. Он просто не переставал удивляться и получать удовольствие от созерцания и осознания сцены, которая еще только сегодня утром при всем желании не могла прийти ему в голову. Это, безусловно, был вечер новых впечатлений и обретений: с абсолютно новой, неожиданно симпатичной, стороны открылся его друг, появилась любимая девушка, которая, по всем признакам, отвечала взаимностью на его чувства, добрая, чуткая, умная, красивая; и они, несмотря на внезапность встречи и все его, Павла, опасения, прекрасно поладили и сейчас общались на одной волне. Все это было немыслимо и удивительно. Он все еще до конца не мог поверить в свое счастье. Очередной толчок в колено от Крыжовина вывел его из благостного оцепенения.
– Завидую я тебе, Пабло. Впервые. Ты молодец. Сам не представляешь, как тебе повезло.
– Почему же? Представляю, – Резумцев аккуратно одной рукой обнял Веронику, она склонила голову к нему на плечо.
– Только смотри у меня, Пабло – береги ее! – своим характерным жестом Илья потряс пальцем перед товарищем.
– Обязательно буду, – ответил тот, крепче прижимая к себе девушку и глядя на нее, а не на собеседника.
Электричка тем временем подъехала к платформе Хотюнино, на которой Веронике нужно было выходить. Место было глухое – железнодорожный переезд с будкой и шлагбаумом, площадь с гигантскими лужами, освещенная единственным фонарем, универмаг, пара ларьков и в отдалении несколько жилых домов от одного до пяти этажей, к которым вела ухабистая дорога, обсаженная по сторонам обезглавленными ощетинившимися тополями.
Хотюнино было объявлено, и поезд стал тормозить. Вероника категорически пресекла попытку Резумцева ее проводить, сказав, что это совершенно ни к чему. Причем в тоне, которым это было произнесено, читалась бесповоротность решения и, становилось ясно, что настаивать бесполезно. Она поцеловала Павла – трогательно в щеку, Илью – шутливо в лоб и, несмотря на тяжелые ботинки, воздушной походкой (по крайней мере, глазами своего кавалера) удалилась в тамбур. Оказавшись на улице, она послала друзьям через стекло воздушный поцелуй и не оборачиваясь зашагала через площадь к тополиной аллее.
Павел, лбом и обеими руками припав к стеклу, зачарованно улыбался. Крыжовин с кряхтением потянулся и откинулся на спинку скамейки, заполонив еще больше пространства.
Состав дернулся и стал набирать скорость.
Следующая остановка «Платформа Тридцать пятый километр»…
– Славная женщина, одобряю.
– Девушка.
– Даже так? Но я в смысле – в основе своей. Без намеков.
– Спасибо уж. Ну ты прямо, как черт из табакерки свалился. И что тебя в этот вагон понесло?
– Судя по скромному поцелую, так сказать, полового сношения еще не было?
– Да пошел ты!
– И судя по ответу – тоже.
– Дурак ты… Ильич.
Приятели добродушно рассмеялись.
Промежуточную платформу проследовали без остановки, а на Тридцать пятом километре Резумцеву нужно было выходить. Крыжовин ехал до следующей. Они вновь звучно схлопнулись в рукопожатии, и Павел покинул вагон.
Дождавшись, пока шум поезда затихнет, он сделал глубокий глоток влажного воздуха и прислушался к тишине, наполнявшей осенний вечер. Дождь опять перестал, и заметно потеплело – видимо, завтра будет хорошая погода. Все звуки будто сами собой отключились – вдали бесшумно проезжали редкие машины, неслышно шелестели, опадая, деревья, открывала и закрывала пасть толстая пристанционная собака. Выпавший из темноты немой мужичок с клочковатой бороденкой что-то беззвучно лопотал и пальцами изображал перед Резумцевым процесс прикуривания. Не сразу осознав причину обращения и не смея нарушить первозданную тишину, Павел только с сожалением покачал головой и развел руками. Не получив помощи, прохожий печально произнес:
– Ну что ж, ведь жизнь – штука жесткая. Да?
И растворился.
Но Павел этого не слышал. Коньячное опьянение уже почти совсем сошло. Он поправил на плече ремень сумки и неспеша двинулся по направлению к дому. Здесь очаг цивилизации был крупнее, чем в Хотюнино. – начинался районный центр – десятиэтажные дома, несколько различных магазинов, автобусный парк, фонари и клумбы.
Дорога до дома заняла минут пятнадцать. Павлу наконец удалось избавиться от всех мыслей, причем настолько, что даже этого он не осознавал. Спокойное умиротворение поглотило его. Он шел, и гулкий звук его шагов пульсировал в водянистом вечернем пространстве, но он не слышал и этого. Ему было очень хорошо, как не было уже очень давно, а возможно, и никогда.
Пятиэтажный дом, подъезд, два лестничных пролета, дверь квартиры. Тугой двукратный проворот ключа. Запах, оставшийся еще с бабушкиных времен, неискоренимый, одновременно и затхлый, и уютно-домашний, родной. В детстве Павел очень любил приезжать сюда, играть с красивыми старинными вещами непонятного назначения, строить крепости из бесчисленных разноцветных подушек, позже – зарываться в обширную бабушкину библиотеку, хранившую различные диковинные книги более чем столетней давности, и конечно же, общаться с бабушкой, неистощимой на всякие игры, захватывающие истории и рассказы. Но вот ее уже как семь лет не было (деда Павел вовсе не застал – он героически погиб в бою за Будапешт, подорвав гранатой себя и трех окруживших его хунгаристов), и это печальное обстоятельство совпало с началом его студенческой жизни, так что, поступив в институт, он переселился из родного города, от родителей, в квартиру только что почившей бабушки. Отсюда на учебу, хоть и приходилось ездить на электричке, но все же было добираться недолго, и к тому же отпадала необходимость селиться в общежитии. Такое фатальное совпадение долгое время угнетало его – дескать бабушка из своей природной деликатности, почувствовав, что ему квартира нужнее, добровольно ушла в мир иной, предоставив любимому внуку все блага и условия для получения высшего образования и самосовершенствования. Не посредством обычного самоубийства, конечно, но по своей собственной воле. Так ли обстояло дело, или иначе, определенно сказать сложно, но, скорее всего, присутствовала доля случая, ибо бабушка давно была нездорова. Однако на Павла это стечение обстоятельств оказало свое действие: он относился к собственной жилплощади – объекту безмерно вожделенному очень многими, тем более, в столь юном возрасте, – весьма сдержанно, чтя память бабушки, подсознательно благодаря ее за столь своевременно предоставленные удобства, и в то же время каясь за эту благодарность и радость. Даже в бурные студенческие годы Резумцев не превращал свое отдельное жилище в место необузданных времяпрепровождений молодости, как сделали бы другие на его месте, а допускал туда очень немногих, чем нередко вызывал обиды наиболее активной части сокурсников, норовивших использовать квартиру товарища в качестве алтаря для жертвоприношений Вакху и Венере. Несмотря на многочисленные просьбы такого рода и испорченные отношения с приятелями вследствие отказа, он оставался непоколебим.
С родителями Резумцев с момента своего переезда общался редко. Не то чтобы у них были плохие отношения, нет – общение всегда было нормальным, но вот острой потребности в нем, ни с той, ни с другой стороны почему-то не возникало. Отец Павла работал старшим конструктором на судоремонтном заводе и имел некоторые литературные амбиции, выразившиеся в сборнике рассказов на морскую тематику, написанном лет пятнадцать назад. Сам Дмитрий Резумцев на кораблях никогда не ходил и весь материал своих новелл основывал исключительно на рассказах моряков, с которыми он время от времени встречался по служебным делам, и энциклопедических справочниках. Но ни романтические стремления к морским путешествиям, ни писательская карьера им не были реализованы. Даже сборник рассказов так и остался неизданным, однако в свое время пробудил у сына интерес к сочинительству и послужил одной из причин избрания им своей будущей профессии. Мама его работала учителем химии в школе, и этот факт, несмотря на то, что она всегда была Павлу ближе, чем отец, взрастил в нем категорическое неприятие всех естественных наук. Кем была бабушка, он до сих пор точно не знал, и это в глубине души оставляло неприятное саднящее чувство. Что-то такое, связанное с географией, этнографией, краеведением и тому подобным – это и присутствовало в детских воспоминаниях, и подтверждалось основной направленностью оставшейся в квартире обширной библиотеки.
Павел сбросил сумку на тумбочку от югославского гарнитура, стащил без помощи рук облепленные грязью ботинки, повесил на крючок-собачку куртку и проследовал в кухню. Струя кипяченой воды из стеклянного заседательского графина старых времен вязким беззвучным потоком наполнила стакан. Завороженный этим процессом, Резумцев отдернул горлышко в последнее мгновение, едва избежав переливания. Крупными, отдающими вибрациями по всем закоулкам организма, глотками он поглотил жидкость. Утерся ладонью. Стакан – в раковину. Машинально заглянул в холодильник, хотя есть не особо хотелось, да и не особо, что было. Не включая свет, переместился в комнату, стянул забрызганные джинсы с засохшим твердым пятном на правой штанине, пощупал распухшее ушибленное колено. Освободился от монолитной свитерно-рубашечной массы, всю одежду свалил в угол – надо будет постирать. Рухнул в неубранную с утра постель. Спать. Спать… Но сон, как на зло, не шел. Долго мучительно ворочался он, пытаясь принять идеальную позу для засыпания – то запихивал руки под подушку, то располагал вдоль тела, натягивал и сбрасывал с себя одеяло, пробовал улечься то на спину, то на живот, под разными углами гнул ноги. Все без толку. Ситуацию усугублял желтый уличный фонарь, располагавшийся как раз на уровне окна и бивший сквозь шевелящуюся листву своим пульсирующим нервным светом.
Зимой еще хуже… когда деревья голые.
Павел сел на кровати. Семь босых шагов-шлепков на кухню. Еще стакан.
Так, успокаиваемся, успокаиваемся. Не получается. Отвлечься… Песню спеть… Радио послушать. Так, да что я! Тема же есть. Что мы там с Павлинычем-то обсуждали да решили? Русская Америка? Так-так, что там у нас… Да ну их, библиотеки, в конце концов не историческая же работа. Потом схожу. Даешь художественный вымысел! Что-то знаю – и ладно. А сюжет? Норма-ально! По ходу что-нибудь слепится, выкристаллизуется… странное слово какое… Ну что, начать что ли?
Он сел за старый скрипучий стол, включил сталинскую зеленоплафонную лампу и положил перед собой желтоватый бумажный лист. Ручка – еще со школы, с отметинами зубов на обратном конце. Извлек из шкафа географический атлас – на обложке очертания тучного государства, еще не лишившегося среднеазиатского подбрюшья. В памяти постепенно проступали сюжет из «Клуба путешественников» и хранившиеся у бабушки журнальные вырезки из «Вокруг света» (первые – еще с ерами и ятями), столь любимые им в детстве, а потом, как это часто бывает с вещами, куда-то затерявшимися. Павел хрустнул костяшками и размашисто вывел первое предложение. Искрилась и переливалась на солнце мелкой рябью Онега…
Глава 7.
Искрится и переливается на солнце мелкой рябью Онега. По ее поверхности, на сколько хватает взора, разбросаны рыбацкие лодки. Время от времени проходят груженые лесом или промысловой рыбой барки. Несутся над водой редкие деловитые перекрики речников, смешиваются с клекотом чаек, что мечутся над водой – рыбу высматривают. Да еще ведь самая гнездовая пора у них – повсюду мелькают над Онегой маленькими белыми молниями. Теплый июнь, как обычно, пробудил и раззадорил тучи мошки и гнуса – то и дело отмахиваются рыбари да хлопают себя по щекам да шеям и вполголоса, чтоб не распугать добычу, беззлобно поругиваются. А по городу – стук-да-стук – слышна работа плотников, столяров и каменщиков – крепко погорел Каргополь в прошлом году, большое теперь строительство идет, считай, по новой город ладить надобно. Хотя и ранее пожары случались – куда ж без них при деревянной-то застройке – но такого старожилы не припоминали. Две трети города в огне сгинуло, страшно сказать – девять церквей потеряно. Но много спорых мастеров в Каргополе, да и прибыли еще на помощь из Архангельска, Новгорода, Белозерска, подвизались и вологодские. Кипит работа по онежским берегам – стук-да-стук.
Вдоль устья реки, супротив течения быстро, но без излишней поспешности, шел молодой человек лет двадцати. Росту невысокого, сложения далеко не богатырского, сутуловатый, широко посаженные глаза, жидковатые волосы над высоким крутым лбом – в общем не красавец, ничего примечательного, и встречные особы женского пола из различных сословий вниманием его не удостаивали. Разве что взгляд светлых глаз – остер, сосредоточен, колок – отличен от северных поморских жителей. У тех в глазах хоть и мудрость глубокая угнездилась, но все через основательность, неспешность, а тут нет – тут даже дерзость какая-то просматривается, нетерпение, решительность. Шел он по поручению своего отца – Андрея Ильича Баранова – на соляные склады уладить дело с купцом Вешняковым, который упрямился относительно отправки товара.
Сейчас, конечно, никто еще не мог предположить, что это будущий Главный правитель Русской Америки, губернатор, дворянин, великий исследователь, первопроходец и государственный деятель, чье имя будет греметь по двум континентам и станет главным, что смог дать Каргополь России.
Дойдя до Новой торговой площади, Александр – ибо именно так звали молодого человека – остановился перед двухэтажным каменным домом – одним из немногих в городе – к которому примыкали соляные склады. Принадлежало все хозяйство Степану Савватиевичу Вешнякову. Прошлогодний пожар пощадил сии строения, и теперь основательный особняк еще более выделялся на фоне города – наполовину сожженного, наполовину строящегося.
Тяжба Андрея Баранова с Вешняковым заключалась в следующем: оба купца вскладчину приобрели на Беломорье партию соли и теперь намеревались переправить ее в Вологду, чтобы там распродать. Но Степан Савватиевич, поскольку доставка груза в Каргополь легла в основном на него, хотел теперь получить большую часть от выручки и спрятал всю соль у себя на складах, пока Баранов не подпишет соответствующий документ, где будет указано, что ему, Вешнякову, полагается две трети от прибыли. Баранова, по понятным причинам, подобное обстоятельство не устраивало, и он отправил сына своего Александра на переговоры к Вешнякову, поскольку сам должен был срочно отбыть в Петровскую слободу по вопросу поставок железной руды, что было делом более важным.
Александр по широкой лестнице поднялся на второй этаж и с предварительным докладом управляющего – племянника Вешнякова – прошел в кабинет. Хозяин, дородный мужчина лет пятидесяти, с окладистой, аккуратно подстриженной бородой, сидел за массивным столом и был занят изучением образцов кофе, которые приобрел во время недавней поездки своей в Петербург. Никак не мог понять Степан Савватиевич, стоящее ли это дело, будет ли торговля, поймет ли, оценит ли народ сей иноземный напиток. В благородных-то домах, понятное дело, давно его пьют, да и то – все больше из моды, а вот стоит ли на широкую ногу кофейный оборот ставить – это вопрос. Обставился Вешняков чашками да блюдцами, обложился зернами – размышляет. Отхлебнет из блюдца – хмыкнет, пригубит из другого – бороду почешет, пожует зерно – вздохнет.
Баранов-младший четким движением перекрестился на красный угол и подошел к столу.
– Мое почтение, Степан Савватьич.
Вешняков выплюнул недожеванное зерно в чашку.
– А, Алексашка, проходи, садись. Или же нет? Тебя, пожалуй, теперь уже Александром Андреичем величать надобно, а? Торговый человек стал, самостоятельный.
Баранов сел на предложенный стул.
– Воля ваша, пожалуй, что и так.
– Как здоровье почтеннейшего родителя твоего? Что же он сам не пожаловал?
