Измаильская эскалада, или Тайная война Екатерины Второй против Запада
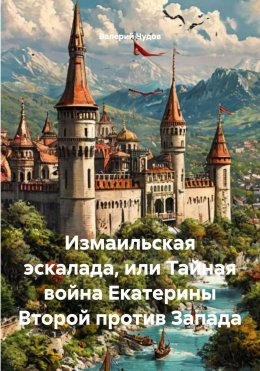
«Измаильская эскалада1 города и крепости, в половине противу турецкого гарнизона в оном находящемся, почитается, за дело, едва ли еще где в истории находящееся, и честь приносит неустрашимому Российскому воинству».
Екатерина Вторая, императрица российская
Пролог
В конце 1790 года внимание не менее десяти европейских государств было приковано к маленькой точке на карте – турецкой крепости Измаил на Дунае. Такой интерес был продиктован разными желаниями правителей этих держав.
Когда, после блестящей кампании российской армии 1789 года, завершившейся победой при Рымнике и падением крупнейшей турецкой крепости Бендеры, начались мирные переговоры, западноевропейская дипломатия приняла сторону Турции и сделала все, чтобы не допустить окончания войны на условиях, предложенных Россией.
В конце лета 1790 года мирные переговоры России с Турцией зашли в тупик. Австрия под давлением Пруссии вышла из войны. Россия осталась одна в войне с Оттоманской Портой. В городок Систово за Дунаем съехались западноевропейские дипломаты, которые решили путем дипломатического шантажа заставить Россию подписать мир с Турцией на условиях, выдвинутых Пруссией, поддержанных Англией и Голландией. В случае отказа пойти на уступки (по примеру австрийцев) России грозились войной на западных границах. Российское правительство отказалось принять участие в Систовской конференции. Екатерине Второй нужно было разрушить козни «миротворцев», нанести противнику новый удар и заставить его пойти на мирные переговоры. «Мы ожидаем известий из-под Измаила, – писала императрица Потемкину, – то есть истинно это важный пункт в настоящую минуту, он решит – мир или война».
Таким образом, взятие Измаила приобретало, помимо военного, чрезвычайно важное значение в большой дипломатической игре.
Кроме того, императрице Екатерине Второй необходимо было покорение Измаила, чтобы поставить точку победной кампании 1790 года, в которой российские войска провели ряд успешных боевых операций и вышли к Дунаю.
Турция, фактически уже понесшая поражение от России, но чувствуя за собой мощную поддержку европейских правителей, не соглашалась ни на какие уступки по сравнению со своими требованиями в начале войны. Ей, во что бы то ни стало, нужно было удержать свою твердыню и оттянуть мирные переговоры, с надеждой, что Пруссия и Польша откроют военные действия в тылу российских войск. Турецкий великий визирь всячески уклонялся от обсуждения с русскими условий мира.
Пруссия, стремясь взять на себя роль вершительницы судеб Европы, поставила себе цель противодействовать усилению России. Она заключила договор с Турцией, пообещала ей помочь вернуть Крым и придвинула войска к границам России. Ей было очень выгодно, чтобы российская армия завязла в обороне Измаила.
Польша питала надежду освободиться от влияния России, опираясь на союз с Пруссией. И поэтому с вниманием следила за противостоянием на Дунае.
Англия, заключив договор с Голландией и Пруссией, желала ограничение власти России и старалась принять меры по спасению Турции. Следовательно, была заинтересована, чтобы крепость устояла.
Швеция, хоть и подписала мир с Россией, но желала её ослабления. Посему поражение русских войск под Измаилом встретила бы с радостью.
Австрия и Дания, под давлением Пруссии, отказались от своих союзнических обязательств с Россией, но втайне желали её победы на Дунае.
Даже Франция, заключившая ранее торговый договор с Россией, была заинтересована в сильной Оттоманской империи.
Вот так, совершенно неожиданно, на дунайской крепости Измаил завязался узел интересов влиятельнейших государств Европы.
Самыми опасными для России были Англия и Пруссия. Они же были и самыми агрессивными. Англия – потому что у нее был большой, сильный флот. Пруссия – потому что ее войска стояли на границе с Россией.
Остальные страны не были столь опасными.
Польша ничего не значила без Пруссии. У Швеции очень корыстолюбивый король, который за деньги мог быть и врагом и союзником. Франция была занята своими внутренними делами: там произошла революция. Голландия была далеко и не настолько сильна, чтобы бороться в одиночку с Россией.
Глава 1. Селим Третий, падишах Оттоманский
Султан хмурился. Это был высокий, крепкий молодой человек, двадцати девяти лет, с небольшой черной бородкой и выразительными темными глазами на смуглом лице.
Он сидел в Зале Приемов дворца Топкапы2. В одиночестве. И наедине со своими мрачными мыслями. А сокрушаться было от чего.
Селим Третий взошел на престол полтора года тому назад, когда его дядя, султан Абдул-Хамид Первый, выпив чашку кофе, отошел в мир иной. Селим Третий считался в Турции ниспосланным для проведения реформ. Перед рождением Селима, астролог предсказал его отцу, султану Мустафе Третьему: если принц родится при определенном противостоянии планет, ему будет суждено возродить империю Османа. И потому правитель приказал врачам и бабкам, дежурившим в комнате роженицы, «обеспечить» рождение ребенка именно в тот счастливый час. Принц родился немного раньше, но от султана это скрыли. Таким образом, сложилось убеждение, что Селим самим небом предназначен для великих дел. Такую судьбу внушали ему с детства. Мустафа даже брал десятилетнего сына на заседания Дивана3, чтобы мальчик привыкал к государственной деятельности. Однако после смерти Мустафы Третьего, падишахом стал его брат под именем Абдул-Хамид Первый. И Селиму пришлось пятнадцать лет ждать своего часа в «золотой клетке», где обычно держали наследников. Тем не менее, даже находясь в изоляции, не очень строгой, он интересовался делами государства. Наследник получил хорошее европейское образование, имел пристрастие к западноевропейскому театру, музыке, искусствам и поэзии, европейскому военному искусству. Он с юношеских лет понял, что Османской империи необходимы преобразования, особенно в военной области. Несмотря на ограничения, юноша имел возможность общаться со сторонниками реформ. Врач его отца, Лоренцо, много рассказывал ему о Европе и европейской армии. Еще не будучи султаном Селим, при посредничестве врача, через французского посла, тайно написал Людовику Шестнадцатому с просьбой дать ему советы о том, как поднять османские вооруженные силы до уровня европейских. В дальнейшем он продолжал вести с ним активную переписку.
Селим пришел к власти в полном расцвете сил, двадцати восьми лет, в трудном для Османской империи и знаменательном для мировой истории 1789 году, когда началась Великая французская революция. Она несколько улучшила международное положение турецкого государства, поскольку отвлекла от него силы европейских держав. Но в то же время Селим Третий также получил в подарок от предшественника неудачную для турок австро-русско-турецкую войну.
Энергичный и деятельный молодой правитель, вступив на престол, был полон желания провести преобразования, которые вернули бы Турции её потерянные земли и славу. Но от предшественника ему досталась не только огромная империя, но и множество нерешенных проблем. Государство нуждалось в переменах.
Поэтому, после церемонии «опоясывания мечом Османа»4, Селим Третий в своем первом султанском рескрипте (хатт-и-шериф) написал: «Страна погибает, еще немного и уже нельзя будет ее спасти». Значит, нужны реформы. Но проводить их во время войны с Россией невозможно. Наиболее опытные члены Дивана предлагали начать переговоры с русскими о мире. Однако честолюбивый султан выбрал путь на продолжение войны до победы. И обнародовал фирман5, в котором пообещал, что «он либо лишится своего трона, или отомстит за Очаков».
Сразу начались военные приготовления. Мужчины от двадцати до тридцати пятилетнего возраста призывались под знамена, и 200 тысячное войско должно было собраться у Шумлы и Силистрии. Сам султан и его мать, равно и многие из вельмож, отдали свое серебро для обращения в монету.
Однако ожидания султана не оправдались. Несмотря на все усилия, боевые средства Порты оказались слабыми. Последовали поражения под Фокшанами и Рымником. Сдались крепости Хотин, Аккерман, Бендеры. К концу года русские войска стояли в Молдавии и Бессарабии.
Чтобы начать успешно новый 1790 год, следовало вновь пополнить войско. Срочно был отдан приказ набирать в армию из мужского населения всех округов, начиная с семилетних мальчиков. Селиму нужна была скорая победа в войне. И вот в июле, чтобы осуществить стратегический прорыв, повернуть вспять ход событий, после молебна армия Селима Третьего выступила под священным знаменем пророка к Дунаю. В циркулярном известии великого визиря6, который возглавлял армию, объявлялось, что войско предпринимает поход «с божьей волей, с надеждой на спасение и возвращение исламских областей, крепостей и подданных и на расплату с врагами веры». Эта огромная армия направлялась к Исакче, где находились склады боеприпасов, провианта и наиболее удобное место для переправы на левый берег Дуная. В спешке собирали продовольствие, фураж, ремонтировали дороги и станции между Шумлой и Исакчи.
Но на Дунае предполагалось ограничиться лишь оборонительными действиями. Для чего в дунайские крепости Килия, Исакча, Тульча и Браилов предполагалось ввести сильные гарнизоны. А Измаил, сильнейший оплот османов на Дунае, занять гарнизоном в 30 тысяч человек, под начальством известного своей храбростью трехбунчужного Айдозлы Мехмет-паши.
Главный же удар нанести на Кавказе наступлением сорокатысячным корпусом трехбунчужного Батал-паши к Кубани. И уже оттуда высадить сильный десант в Крыму с помощью флота в 40 линейных кораблей и вернуть полуостров Оттоманской империи.
Селим Третий вздохнул. Сейчас уже конец октября, а хороших вестей нет. Только плохие. Армия Батал-паши понесла сокрушительное поражение на Кубани. Сам Батал-паша попал в плен. И вот последнее известие: Килия капитулировала почти без боя. Гарнизон в пять тысяч человек покорно сдался. Предатели!
Султан скрипнул зубами. Что делать? Чтобы подавить растерянность, он бережно взял лежащий рядом нэй и начал играть на этой незатейливой свирели из тростника. Полилась тихая, грустная мелодия.
По закону Османской империи, каждый мужчина, не исключая султана, должен уметь какому-нибудь ремеслу. Селим с детства выучился играть на нэе7 и танбурине8. Слыл хорошим исполнителем. Сам писал музыку и стихи. Вот и сейчас у него родилась новая композиция.
Он так увлекся игрой, что не слышал, как открылась боковая дверь и вошла женщина с гордой осанкой. Несмотря на возраст – сорок пять лет – и небольшую полноту, на ее лице еще лежал отпечаток былой красоты. Не желая прерывать игру, она остановилась. Это была мать падишаха – валиде-султан, вдова султана Мустафы Третьего. Грузинка по происхождению. Еще девочкой ее выследили и похитили абреки, чтобы продать в жены султану. В Серале юная грузинка получила имя Михр-и-шах (Луноликая шахиня). Девочка была не только хороша, но и умна. Правда, у нее был один «недостаток»: она обладала присущим жительницам Гюрджистана независимым нравом. Это качество в гареме жестоко каралось, и соперницы Луноликой ожидали ее скорого падения. Однако она не только выжила, но и сумела стать любимой женой султана. Мустафа настолько уважал ее, что иногда, увлекаясь другими женщинами, старался встречаться с ними «на стороне». Михр-и-шах сумела получить хорошее образование, владела несколькими языками.
Почувствовав взгляд, Селим оторвался от нэя и недовольно повернул голову. Никто не имеет право войти сюда без его разрешения. Кроме валиде… Султан отложил свирель, поднялся и подошел к матери. Взял ее за руку, подвел к небольшой кушетке, усадил и сел рядом.
– Рад тебя видеть, моя валиде, – произнес он тихим голосом.
– Но почему печален мой лев? – спросила она в ответ.
Жена султана никогда не называли своего сына по имени. Только арсланым – мой лев. Как и все матери, султанша с большой нежностью относилась к своему сыну. После его рождения она сама кормила его грудью. И Селим оказывал большое уважение матери, считал ее женщиной весьма умной.
Как и все валиде, Михр-и-шах имела большую силу при дворе. Она переехала во дворец Топкапы, когда ее сын прошел церемонию «опоясывания мечом Османа».
Михр-и-шах хорошо помнила тот апрельский день.
Извилистые улицы Стамбула оцеплены янычарами. Толпы зевак. Большой кортеж. Впереди – глашатаи, вельможи и великий визирь. За ними – задрапированная карета в сопровождении бостанджи (солдат дворцовой стражи султана). Шестеркой лошадей правит сам главный евнух султанского гарема. Идущие следом придворные кидают в толпу монеты. За ними катятся десятки экипажей с наложницами. Наконец процессия подъезжает к дворцу Топкапы. В переднем дворе ее встречает новый султан Селим Третий. Михр-и-шах выходит из кареты. Правитель целует ей руку и ведет новую хозяйку гарема во дворец. Для него, как и для каждого турецкого султана, это главная женщина в империи. А для остальных – самая могущественная дама у османов.
– Ах, валиде, трудно быть падишахом такой огромной державы, как османская, – пожаловался Селим матери.
Михр-и-шах, как никто другой, знала своего сына. Несмотря на свою внешнюю деятельность и воинственность, он был человеком мягкого нрава, в некоторой степени даже слабохарактерным. Больше чем к политике и военному делу, его влекло к мистике, зрелищам, поэзии и музыке. По молодости он не обладал еще той твердостью и отвагой, проницательностью и силой, которые бы позволили ему без ошибок командовать государством. Но Селим был ее сын. Поэтому она улыбнулась и сказала:
– Это минутная слабость, мой лев. Ты правитель самой большой державы в мире. Ты мудр и могуществен. У тебя большая армия и сильные крепости. Не все сразу получается, нужно время, чтобы выйти тебе на правильный путь.
Она видела, как преображается при ее словах Селим. Он выпрямился, расправил плечи, в глазах появился огонь. Но продолжал жаловаться:
– А пока, моя валиде, одни неудачи…
– У тебя много сторонников, мой лев. Тебе помогут твои друзья…
В это время вошел капы-ага, начальник белых евнухов, охраняющих ворота Счастья, что ведут в третий двор Топ-капы – личные покои султана. Он остановился у двери и поклонился.
– Что тебе? – спросил султан.
– Прибыл Кючук Хусейн-паша, повелитель.
Селим посмотрел на мать. Та поняла взгляд.
– Я ухожу, мой лев. Не буду мешать твоим государственным делам.
Селим подождал, пока она не исчезла за боковой дверью, и приказал служителю:
– Пусть войдет.
Вошел небольшого роста, худощавый мужчина с большими усами, которые делали его вид воинственным. На вид ему было тридцать с небольшим. Он остановился у входа, поклонился.
– Приветствую тебя, мой господин.
Это был Кючук Хусейн-паша. Прозвище «Кючук» (Маленький) он получил из-за маленького роста. По происхождению грузин, Хусейн воспитывался в султанском дворце вместе с принцем (будущим султаном) Селимом. Сразу по вступлению на престол Селим назначил его лейб-камердинером (баш чухадар).
– Проходи, – сказал султан, – присаживайся.
Он подождал, пока посетитель устроится на кушетке, и обратился к нему:
– Хусейн-паша, ты мой друг. Самый близкий, кроме валиде и моей сестрички. Ты всегда был откровенным со мной. Скажи, что мне делать?
– Править, мой господин.
– Ты помнишь, когда я взошел на престол, то обратился к чиновникам, чтобы мне говорили правду, – всю правду? Я им сказал договориться с шейх-уль-исламом9 и риджалами10, чтобы покончить со злоупотреблениями.
– Я помню, мой господин.
– И вот прошло полтора года и ничего не изменилось. Взяточничество и казнокрадство чиновников, самоуправство пашей и вельмож. В результате – смуты в провинциях, оскудение казны. Сегодня, после заседания Дивана, каймакам-паша11 доложил мне, что некоторые аяны12 завели себе свои армии. И это в то время, когда нашему войску не хватает людей. Когда мы терпим поражение за поражением! А великий визирь сидит в Шумле и ничего не делает!
– Ах, мой господин, что он может сделать, если треть его армии разбежалось, не дойдя до Дуная. Янычары превратились в толпу ленивых разбойников, которые только шантажируют султана, а воевать не умеют. Они уже изжили себя. Тебе надо новое, дисциплинированное, обученное по-европейски войско. Оно нужно не только для войны с Россией, но и чтобы навести порядок внутри страны.
– Я знаю, но как собрать это войско, когда идет война?
– Надо закончить войну и заняться преобразованиями. У тебя есть англичанин Мустафа и француз Тотт. Они уже много сделали для улучшения нашей артиллерии.
– Ты считаешь, что надо заключить мир с русскими? Но моя гордость не позволяет пойти на это. Кроме того, я буду настаивать, чтобы русские вернули Крым. Без этого – мира не будет!
– Я военный человек и готов умереть за тебя на поле боя, если ты скажешь продолжать войну. Тебе решать.
– Придется с реформами подождать немного. Я считаю, время для перемирия не пришло. Мы еще сильны. Нас поддерживают иностранные правители… – Селим поморщился. – Лучше бы они, вместо обещаний, открыли военные действия и ударили в тыл России. А пока нам надо рассчитывать на свои силы. Нужно остановить русских на Дунае.
– На этой реке у нас надежные крепости.
– Одна уже сдалась! – мрачно заметил султан.
– Многое зависит от начальника гарнизона. Там у нас есть Измаил во главе с бесстрашным Айдозлы Мехмет-пашой. Он никогда не пойдет на сдачу крепости.
– Да, это наша надежда. Измаил – несокрушимая твердыня с гарнизоном в целую армию. Кроме того, на носу зима, и вряд ли русские предпримут какие-нибудь действия. А чтобы укрепить веру гарнизона Измаила, я пошлю туда фирман. Пусть защитники крепости бьются до последней капли крови. И кто спасется или сбежит – будут казнены.
– Ты очень проницателен, мой господин.
На этом султан отпустил своего друга и остался один со своими невеселыми мыслями. В раздумье он взял в руки танбурин и принялся сочинять новую музыкальную композицию.
Глава 2. Екатерина Вторая Алексеевна,
императрица Российская
Екатерина задумчиво перебирала бумаги, что принес ей статс-секретарь по военным делам Турчанинов, одновременно слушая его доклад.
Обычно она вставала в шесть утра, но сегодня поднялась позже. Чувствовала себя слабой после болезни. Однако уже в восемь часов, выпив крепкий кофе со сливками и гренками, императрица вошла в кабинет. На столе по заведенному раз и навсегда порядку, на одних и тех же местах, лежали приготовленные документы. Екатерина давно считала себя русской и во всем была патриоткой. Даже платья для фрейлин велела шить по русским образцам. Единственно, что у нее осталось от немецкой принцессы, так это дотошность в государственных делах. И потому, прежде чем подписать документ, она непременно прочитывала его и делала свои пометки. Во время чтения бумаг перед ней ставилась табакерка с изображением Петра Первого. Как правило, прежде чем приняться за работу, императрица мысленно спрашивала у изображения этого великого человека, чтобы он делал на ее месте? Что бы он повелел и что запретил. Занятия государыни продолжались до девяти часов утра. В это время она никого не беспокоила, но и к ней никто не обращался. После девяти императрица начинала принимать сановников с докладами.
Теперь вот, после обер-полицмейстера и обер-прокурора дошла очередь до Турчанинова. Это был маленький человек, такой гибкий, что кланяясь, казалось, становился в два раза меньше. Когда, бывало, государыня отдавала ему приказания, он, желая выразить почтение, сгибался так, что и ее величество, будучи сама невысокого роста, вынуждена была также нагибаться, чтобы разговаривать с ним. Тем не менее, она ценила его за ум, образованность и ловкость в делах.
Внезапно императрица прервала речь своего подчиненного и спросила:
– А нет ли известий от светлейшего князя?
Вопрос ее величества казался лишним. Если бы курьер прибыл, ей бы уже доложили. Но Турчанинов ничем не показал своего удивления. Он был опытным царедворцем. Раз государыня спрашивает, значит, она беспокоится о делах южной армии, ведущей боевые действия с Турцией у Дуная, и которой командует князь Потемкин-Таврический. Оттуда уже почти месяц докладов не поступало. Поэтому статс-секретарь развел руками, будто отсутствие вестей его вина, и, поклонившись, ответил официально:
– Никак нет, ваше императорское величество.
– Хорошо, Петр Иванович. Продолжай, – повелела императрица.
Дослушав до конца доклад, она отпустила его.
Когда Турчанинов скрылся за дверью, Екатерина встала из-за стола и, кутаясь в теплый халат, прошла к окну. Мороз уже начал рисовать узоры на стекле, а ведь только вчера еще лил дождь. За окном было темно. Первый день ноября.
«Уж конец года недалеко, – подумала императрица. – Но итоги подводить рано».
Она недаром беспокоилась о делах на юге. Именно там решалось сейчас, наступит ли мир с Турцией или нет. А мир этот был очень нужен.
В феврале умер австрийский император Иосиф Второй, единственный союзник России в войне с Османской империей. Заступивший на его место нерешительный Леопольд, подчиняясь давлению Пруссии, в июле заключил перемирие с Турцией, оставив своего союзника один на один с противником. Однако не прошло и месяца, как последовал дипломатический ответ России. Война со Швецией, которая длилась два года, закончилась миром. После чего была переброшена часть войск на юг, и российская армия вышла к Дунаю.
В конце августа последовала сокрушительная победа русского флота на море. Адмирал Ушаков разгромил турецкую флотилию капудан-паши13 у Тендры. Эта победа очищала море от неприятельского флота, мешавшего русским судам пройти к устью Дуная для содействия армии. Турки, не рискуя бороться с российскими войсками на суше, заперлись в дунайских крепостях Килие, Измаиле, Тульче, Исакче. Понимая, что армия противника измучена и уже наступает дождливая осень, они надеялись на неготовность русских атаковать укрепления.
Кроме того, на продолжение войны Турцию подталкивали Пруссия, Англия и Нидерланды. Пруссия, к тому же, обещала поддержать и Польшу, если та начнет военные действия против России. Поэтому русское правительство вынуждено было держать на польской границе два больших корпуса.
Такое положение дел вызывало обеспокоенность у императрицы. Оттого-то, она, после заключения мира со Швецией, просила Потемкина ускорить активные действия на Дунае. И вот уже двадцать девять дней от главнокомандующего всеми российскими сухопутными и морскими войсками на юге нет известий.
Дверь в кабинет отворилась, и вошел статс-секретарь Безбородко. Он числился вторым членом в Коллегии иностранных дел, хотя фактически являлся ее руководителем. Президент этого ведомства, вице-канцлер Остерман, слыл натурой бесцветной и сколь-нибудь важного влияния на дела не оказывал. Именно поэтому все нити руководства были в руках Безбородко. С наружностью медведя он соединял тонкий, проницательный ум и редкую сообразительность.
Екатерина полностью доверяла Безбородко. Тот умел сглаживать конфликты, находить золотую середину даже в чрезвычайно запутанных ситуациях. Не был упрям. Ему были присущи огромная работоспособность, умение ставить вопрос и формулировать мысли. Всё схватывал на лету и отлично владел словом. Чтобы написать бумагу, Безбородко хватало одной минуты. Никто не мог справиться лучше него с написанием писем и указов. Большое количество информации проходило через руки Александра Андреевича, которую он непременно доносил до императрицы. Выдержать огромную нагрузку ему помогала цепкая память. За все это Екатерина и ценила своего статс-секретаря и часто делилась с ним своими планами.
Безбородко подошел к императрице и поклонился. Соблюдая установленный этикет, Екатерина ответила поклоном и дала поцеловать руку.
Не давая начать доклад, она спросила его:
– Как там дела в Систове, Александр Андреевич? Всё заседают?
После выхода австрийцев из войны, в этом приграничном турецком городке начались переговоры турок с представителями государств, враждебных России: Пруссии, Англии, Голландии. Были там и австрийцы. На этой конференции необходимо было выработать условия мирного договора между Россией и Турцией.
Вопрос императрицы удивил Безбородко. Ведь он занимался шведскими делами, а турецкими ведал Потемкин. Но статс-секретарь не подал виду и ответил почти сразу, давая знать, что он и там контролирует ситуацию:
– Так точно, государыня, заседают. Но. по моим сведениям, пока без результатов. Турки продолжают упираться и не идут на уступки.
– Да я знаю. И ничего не меняется вот уж несколько месяцев?
– Заупрямились османы, и это несмотря на то, что поражены повсюду от ваших доблестных войск, государыня!
– Ну, ещё не повсюду…
– Надеемся, что будут победы. Григорий Александрович с большим рвением там действует.
– Однако ж за двадцать девять дней от него ни одной реляции, – заметила императрица.
– Думаю, ему сейчас трудно приходится. Руководство войсками дело хлопотное. К тому же и флот под ним. Все надо предусмотреть. Видно, мотается из Ясс в Бендеры и обратно. Да и про Крым забывать не надо.
– Да, тяжело ему сейчас. Тем более, когда союзник наш с Портой14 мир заключил и пообещал ей не пускать нас в Валахию. Теперь Потемкину приходится действовать в стесненных условиях. Ведь, если мы через Дунай перейдем, вся Европа против нас станет. Но если мы крепости возьмем и твердой ногой на Дунае станем, то и легче будет мир с Портой заключать.
– Без сомнения.
– Сейчас все силы и внимание необходимо обратить на заключение этого мира. Без него остальные дела, особенно в Польше, начинать не стоит. Но вот, когда на Дунае будут наши победы, тогда и договариваться будет легче. А ежели мы договоримся с Портой границу на Днестре установить, то и Европа замолкнет.
– Вы правы, государыня, но нынешний султан так надеется на некоторые европейские страны, что не идет ни на какие уступки.
– Султан Селим слишком молод, – усмехнулась императрица. – ему нужны дядьки, коих он и выбрал – пруссаки, англичане и голландцы. Он думает с их помощью завязать дело в свою пользу и заключил союз с прусским королем, который даже пообещал ему вернуть Крым. В тоже время, этот же самый правитель и мне давал знать, что, если бы я согласилась на присоединение Польши к его державе, он бы охотно согласился на разрыв отношений с Селимом. Но ему ни Польши не видать, ни Крыма, как ушей своих. А турки непременно будут обмануты союзниками своими. Шведский король тоже был в подобном положении, но вскоре взялся за ум, видя свое неизбежное поражение, и заключил мир непосредственно с нами.
Екатерина остановилась и улыбнулась.
– Что-то я разошлась. Видно, накопилось. Давай твой доклад, Александр Андреевич.
Безбородко кратко и толково рассказал ей положении внешнеполитических дел на основании писем от послов разных стран и своих умозаключений. Екатерина кивала, и было видно, что она довольна. По окончании доклада она заметила:
– Ты мне все это подробно в докладной опиши.
– Я уже это сделал, – сказал статс-секретарь и протянул ей папочку.
– Как всегда, ты удивляешь меня своей расторопностью.
– Готов служить вашему величеству, – поклонился Безбородко.
– Твое рвение меня радует. Кстати, а со Швецией у нас все дела закончены?
– Так точно, государыня. Осталось только посланника подобрать в Стокгольм, да бумаги ему подготовить. Так что мы свое дело сделали, теперь очередь за князем Потемкиным-Таврическим.
– На бога надеюсь, – закончила императрица аудиенцию и отпустила сановника.
Но не успела еще дверь закрыться за ним, как вновь отворилась. В кабинет вкатилась низенькая полная женщина и засеменила к Екатерине. Это была камер-фрейлина Перекусихина, самое близкое и доверенное лицо императрицы, тридцать пять лет верно и предано служившая своей госпоже.
– Что тебе, Мария Савишна? – спросила Екатерина.
Та взмахнула руками, сделала круглые глаза и, задыхаясь, проговорила:
– Ой, матушка-государыня! Радость-то какая!
– Да в чем дело? – забеспокоилась императрица.
– Только что Захар сказывал, что прибыл курьер от Григория Александровича!
– Ну, наконец-то! – выдохнула Екатерина. – Иди, скажи дежурному генералу, чтобы немедленно привел его сюда!
Через некоторое время на пороге появился молодой человек в мундире. Он заколебался, и Екатерина поманила его.
– Подойдите, офицер!
Тот подошел к ней строевым шагом. Держа на согнутой левой руке пакет и шапку, низко поклонился. Поцеловал протянутую руку императрицы.
– Доложите, офицер! С чем пожаловали?
– Адъютант его светлости князя Потемкина-Таврического секунд-майор Армфельд! – выпалил молодой человек, слегка коверкая русские слова. Потом протянул ей пакет: – Велено передать от главнокомандующего вашему императорскому величеству лично в руки!
У Екатерины была хорошая память, и она вспомнила, что видела эту фамилию в прошении Потемкина. После окончания русско-шведской войны князь просил зачислить в его свиту шведского офицера с такой фамилией.
Она приняла пакет и спросила по-немецки:
– Вы ведь родственник генерала Густава-Маврикия Армфельда?
– Так точно, ваше императорское величество – радостно ответил офицер тоже по-немецки.
– И какие ваши планы? Не хотите обратно в Швецию?
– Никак нет. Прошу ваше величество, отпустить меня обратно на юг, в войска.
– Что так? – удивилась императрица.
– Там сейчас начинаются дела достойные каждого военного человека.
– И что это за дела?
– Войска вашего императорского величества начинают освобождение турецких крепостей на Дунае.
– И уже какую освободили?
– Никак нет. Но шестого октября по приказу главнокомандующего начали штурмовать первую. Килию. – Тут офицер замялся: – Однако первая попытка оказалась неудачной. И генерал-аншеф Меллер-Закомельский погиб. Большой урон нанесла нам турецкая флотилия.
– Жаль генерала, – посочувствовала Екатерина. – А что же наша флотилия?
– Тогда она не могла пройти в Дунай из-за сильных штормов. Но когда я уезжал, наша флотилия уже вошла в малое устье и побила турок. Войска возглавил генерал-поручик Гудович. И был назначен новый штурм.
– Ну что ж, ваше рвение похвально, господин офицер. А когда вы готовы убыть обратно в войска?
– Хоть завтра, ваше императорское величество.
– Пока отдыхайте, – сказала Екатерина и заметив фигуру в проеме двери, обратилась к нему: – Господин дежурный генерал!
Тот подбежал к ней и отдал честь.
– Запишите, генерал: секунд-майора Армфельда произвести в премьер-майоры. Кроме того, я дарю ему перстень и пятьсот червонных. Вам понятно, офицер?
– Рад служить вашему императорскому величеству! – радостно воскликнул курьер.
– Генерал, устройте офицера. Накормите. Дайте ему то, что пожелает. Пусть отдыхает. Да позовите Безбородко!
Офицеры ушли, а Екатерина распечатала на столе пакет. Там оказалось несколько писем: одно – ей лично, второе – Безбородко, третье – в военное ведомство.
Отдав статс-секретарю ведомственные письма, она, надев очки, открыла послание от Потемкина. Прочитав первые строчки «Матушка, Всемилостивейшая Государыня…», улыбнулась.
Екатерина уже почти дочитала письмо, когда дверь вновь отворилась, и вошел стройный молодой человек красивой внешностью, лет двадцати с лишним. У него был высокий лоб и прекрасные глаза. Это был фаворит Екатерины Платон Зубов. За год с небольшим, с тех пор как императрица приблизила его к себе, он сделал головокружительную карьеру, продвинувшись из секунд-ротмистра Конной гвардии до генерал-майора.
Услышав, как отворилась дверь, императрица подняла взгляд, чтобы выразить неудовольствие. Но при виде вошедшего её лицо тут же приняло приветливое выражение. Она сняла очки и отложила письмо.
Молодой человек быстрым шагом приблизился к императрице, опустился перед ней на одно колено и торопливо заговорил извиняющим тоном:
– Прости меня, матушка, великодушно, что потревожил тебя. Но я хотел лишь выразить радость, что ваше императорское величество здорова.
Екатерина, улыбаясь, провела рукой по волнистым волосам юноши и потрепала их.
– Ну что ты, Платоша! Не беспокойся за меня. Всегда рада видеть тебя. Ценю твою преданность ко мне. Спасибо за искренние слова, они согревают мое сердце. Что у тебя?
– Ничего, матушка. Только желание видеть тебя и порадоваться твоему выздоровлению.
– У тебя доброе сердце, друг мой. Спасибо за заботу. Но сейчас иди. Сегодня я буду занята государственными делами. Да и у тебя, я знаю, занятий хватает. Вечером дам знать, когда зайти ко мне.
Платон поднялся и, поклонившись, с жаром поцеловал руку императрицы. При этом фаворит украдкой бросил взгляд на письмо. Лицо его исказилось. Он понял, что это письмо от Потемкина. А Платон люто ненавидел князя. Впрочем, Екатерина не заметила ни взгляда, ни ненависти на его лице. Она любовалась гибкостью его мускулистого тела, когда он шел к выходу. Затем, вздохнув, надела очки и продолжила читать письмо.
Платон вышел из кабинета императрицы и поведение его изменилось. Походка стала вальяжной, лицо злым, а взгляд холодным и надменным. Фаворит чувствовал свою силу, и окружающие понимали это. Выражение его лица разгладилось, когда он встретил маленького роста худощавого старичка в военном мундире. Это был главный воспитатель внуков Екатерины, генерал-адъютант граф Салтыков Николай Иванович. Именно ему Зубов был обязан своим возвышением. Когда в прошлом году императрица разочаровалась в Дмитриеве-Мамонове, Салтыков, вместе со статс-дамой Нарышкиной подсунули ей Платона. Цель была одна: «свалить», наконец, Потемкина.
Салтыков отвел Зубова в сторону.
– Ну как?
– Она получила письмо от него, – процедил сквозь зубы фаворит. – И меня отправила.
– Для государыни дела державные важнее всего, – утешил его Салтыков. – Это надо помнить. А ты хвали «циклопа». Пока. Еще немного, и твоя сила будет. Не устоит матушка.
Екатерина, тем временем, готовилась писать письмо Потемкину. Она всегда старалась отписать ответ в день получения послания. Походив с полчаса по комнате и обдумав текст, она села за стол и вывела на бумаге первые строчки «Друг мой сердечный князь Григорий Александрович…»
Письмо получилось длинным и в основном касалось государственных дел. Польский вопрос. Отношение к прусскому королю и султану. Посоветовала, как вести с турецким визирем. Но между строк читалось основное: да, нам нужен мир с Портой, но только после побед на Дунае.
Спустя два дня новоявленный премьер-майор Армфельд, с небольшой свитой, уже мчался на юг. Оставаться в Петербурге он не захотел, потому что никого здесь не знал. Да и к прелестям столичного света был равнодушен из-за своего протестантского воспитания. И вот теперь, он, то в карете, то верхом, с каждой верстой неумолимо приближался к молдавскому городку Бендеры, где находилась ставка главнокомандующего всеми российскими войсками Потемкина-Таврического.
На пальце левой руки Армфельда блестел перстень, подаренный императрицей, а грудь его грели пятьсот червонцев, хоть и в ассигнациях.
Глава 3. Князь Потемкин, главнокомандующий всеми
российскими войсками на юге
Потемкин, как обычно, с большой помпой отпраздновал победу русской речной флотилии под командованием генерал-майора де Рибаса. В Сулинском канале Дуная было сожжено несколько турецких судов, остальные оставлены экипажами. Гренадерский десант занял крепость Тульча. Это была вторая, после Килии, победа российских войск на Дунае. Оставалась еще одна крепость – Исакча, расположенная выше по реке. После чего окружение самой сильной турецкой твердыни Измаил будет завершено, и она будет отрезана от турецких резервов.
– Ай да, Осип Михайлович! – воскликнул Потемкин, узнав новость. – Ай да, де Рибас.
В тот же день был дан пир с большим столом для офицеров. Играла музыка, танцевал балет, стреляли пушки холостыми зарядами. Праздновали два дня, но к вечеру второго дня Потемкин помрачнел, и все затихло.
В большой комнате, освещенной многими свечами, остались лишь приглашенные. Уставший светлейший князь сидел около княгини Долгоруковой, наряженной как греческая богиня, и тихим голосом вел с ней беседу. На нем был только меховой халат, больше похожий на шубу, а под ним, вероятно, ничего. Рядом, на диване из золотистой ткани под роскошным балдахином, сидели еще пять со вкусом одетых девиц. В глубине зала толпились несколько десятков офицеров всяких званий.
Еще в июле Потемкин перевел свою ставку из молдавского города Яссы в крепость Бендеры на Днестре. Так и к войскам поближе и управлять ими легче. Вместе со ставкой с ним переехали несколько сотен слуг, музыканты, певчие, театр с балетом, его фаворитки и большое количество военных, а также гражданских лиц. Все они с большим сожалением покидали прекрасный дворец Кантакузинов15, переселяясь в пыльные степные Бендеры. Но вслух никто не высказывался.
Потемкин всегда с гордостью указывал на то, что под его руководством крепость Бендеры была взята без пролития русской крови, дипломатическим путем. После занятия русскими войсками предместья и переговоров с пашами, турки сдали цитадель.
– Вот так надо действовать, господа генералы, – говорил он своим подчиненным. – Берегите ваших солдат! Принудить врага к сдаче во многом ценнее, чем взять крепость, погубив тысячи наших воинов!
После переезда из Ясс, Потемкин занял бывший дом турецкого паши. Строение было большое, хотя и не могло сравниться с апартаментами Кантакузинов.
К Потемкину подошел его секретарь Попов и, наклонившись, тихо проговорил:
– Ваша светлость, полковник граф де Дама хочет представить вам двух иностранных кавалеров, только что прибывших из Вены.
Потемкин удивленно вскинул голову:
– Из Вены? Да ну!? Веди!
Он встал. В свои пятьдесят с лишним лет он выглядел еще очень представительно. Высокий крупный мужчина, хоть и слегка сутулившийся, но с гордо поднятой головой. Под халатом угадывался мощный торс. Лицо с правильными чертами, немного одутловатое, по-прежнему было красивым. Отсутствие одного глаза было незаметно, его заменил искусно сделанный фальшивый.
В комнату вошли трое: один в русском мундире, второй в австрийской форме, третий в гражданском платье.
Потемкин запахнул халат и подошел к ним. Все трое поклонились. Офицер в русской форме сказал:
– Позвольте, ваша светлость, представить вам моих друзей из Вены.
Потемкин кивнул головой.
Вперед выступил стройный молодой человек в гражданском костюме. На вид ему было лет двадцать пять. Выше среднего роста, с приятными чертами лица.
– Герцог де Фронсак дю Плесси, – представился он.
– Уж не родственник ли ты вашего знаменитого кардинала? – удивился Потемкин.
– Так точно, ваша светлость, пятый герцог Ришелье.
Второй молодой человек, пониже ростом и постарше, с достоинством произнес:
– Полковник австрийской армии Шарль де Линь.
– Сын моего друга принца де Линя!? – воскликнул Потемкин. – С которым мы брали Очаков?
– Так точно, ваша светлость.
– Ну и что вы хотите, молодые люди?
– Мы хотим вступить в славное войско ее величества императрицы Екатерины, – ответил де Линь. – Хотим участвовать в штурме Измаила.
– Во как! Похвально! Люди нам нужны, – хохотнул Потемкин. – Что же вы можете?
– Я могу служить инженером, строить батареи, как мой отец, – сказал австриец.
– Я еще не участвовал в боевых действиях, но готов на любое дело, – с сожалением заметил де Фронсак.
– Славно, – похвалил их светлейший. – Только на русскую службу вас принять может только государыня. Я же могу лишь послать запрос на ее имя, а вас определить волонтерами в войска.
– Мы согласны! – хором выкрикнули молодые люди.
– Тогда идите, приводите себя в порядок и через два часа жду вас на обед, – заявил Потемкин и, обратившись к офицеру в русском мундире, добавил: – Полковник де Дама, устройте молодых людей пока у себя. И захватите полковника Ланжерона. Тот тоже горит желанием участвовать в штурме Измаила.
Обед, с обилием еды и вина, затянулся допоздна.
На следующее утро Потемкин встал рано, к восьми плотно позавтракал и занялся перепиской. Он был деятелен и активен. Как будто и не было двух суток празднования. Князь составил инструкции российскому послу в Польше Булгакову, подготовил отчет для Безбородко и продиктовал послание турецкому великому визирю, с которым вел переписку, призывая к миру. Императрице письмо пока писать не стал. Ждал от нее курьера и еще – донесение от де Рибаса о взятии Исакчи.
– А что нам делать с французом и австрийцем? – обратился к нему секретарь Попов.
– Что делать с ними, – рассеянно повторил главнокомандующий. – Пусть погуляют здесь пару дней и едут на Дунай. А с ними – Ланжерон и де Дама. Они тоже рвутся в бой.
– А куда их направить?
– Определи их к де Рибасу, – посоветовал князь и улыбнулся. – Хорошенькая иностранная компания образуется.
Потемкин встал и в задумчивости прошелся по кабинету. Остановился у окна. На улице шел мелкий дождик.
– Если что-нибудь у нас получится… – тихо проговорил он. – Уже идет вторая декада ноября.
Беспокойство главнокомандующего было обоснованным. Погода ухудшалась. Наступало сырое и холодное время. Начнутся болезни среди солдат. Но заканчивать кампанию взятием нескольких не столь важных крепостей, ввиду обострения международных отношений, было ошибкой. У него уже имелись сведения, что собравшиеся в Систово уполномоченные Пруссии и Англии намеревались предъявить Потемкину ультиматум: если Россия не пойдет на уступки Турции, они могут объявить ей войну.
И Потемкин это понимал. Измаил – вот камень преткновения. Взятие Килии, Тульчи и Исакчи не решает проблемы. Даже если Измаил будет окружен, блокирован, это ничего не принесет русским войскам. Крепость сильная, запасов у турок достаточно, гарнизон по количеству, пожалуй, больше русского войска. Осада ни к чему не приведет. А туркам только этого и надо. Судя по вялотекущим переговорам о мире, они надеются, что русские уйдут на зимние квартиры не солоно хлебавши. Но это будет позором для главнокомандующего. Кроме того, положение Измаила затрудняло взаимодействие российских войск по Дунаю. Крепость находилась как раз посредине между Килией, где располагалась группировка Гудовича, и Галацем, где находился корпус Суворова. Значит, все равно, штурм крепости неизбежен. Только кто из его генералов способен на такое? Потемкин пока выбрать не мог.
В голове всплыла фамилия Суворова, но он сразу отбросил это видение. Князь признавал талант генерала и всегда его выдвигал перед императрицей. Но считал, что именно благодаря ему Суворов был в таком почете у государыни. А Суворов, под всякими отговорками, увиливал от личной встречи и ни разу не посетил его ни в Яссах, ни в Бендерах. И хотя это задевало Потемкина, он, тем не менее, был в постоянной переписке с генералом – деловой и официальной. Однако, если Суворов одержит еще одну крупную победу, то станет настолько велик, что будет уже стоять вровень с ним. На это Потемкин, при всем его благодушии, согласиться не мог. Самолюбие не позволяло. «Будем действовать по плану, – подумал он, – а уж потом, дай бог, решится».
– Василий Степанович, – обратился Потемкин к своему секретарю, – ты отправил ордер де Рибасу занять остров напротив Измаила и установить там батарею?
– Так точно, ваша светлость!
– Подготовь предписания генерал-поручику Потемкину и генерал-поручику Гудовичу двигать свои корпуса к Измаилу. И вот что еще. Мне надо провести инспекцию к Измаилу.
– Когда?
– Думаю, через неделю. Когда обстановка прояснится. А пока, прикажи подать завтрак.
Попов не удивился. У светлейшего на дню могло быть и три, и более завтраков.
Через два дня иностранцы убыли к Измаилу. А еще через день прибыл Армфельд из Петербурга.
Потемкин хмыкнул:
– Не уехал в Швецию?
– Никак нет, ваша светлость. Считаю, в такое время мне надо быть рядом с вами.
– Вот-вот, рядом со мной. Об Измаиле не думай! Ты мне здесь нужен.
В тот же день он написал письмо императрице. Оно получилось коротким. Начинал, как всегда: «Матушка родная, Всемилостивейшая Государыня…» Извинялся, что медлит с донесениями по причине разбросанности войск. Потому с донесениями командиры запаздывают. Приложил рапорт де Рибаса об успешных действиях его флотилии. Вот и все. Хвастать было нечем.
Через несколько дней главнокомандующий выехал на линию фронта.
Сначала ехал в закрытой коляске, а по приближению к Измаилу пересел на лошадь и надел походный мундир.
За несколько верст до крепости, на пригорке ему была установлена большая палатка. В день приезда перед ней собрались у костра генералы и старшие офицеры.
Отдохнув после прибытия, Потемкин пригласил в палатку генерал-поручиков Гудовича, Потемкина и Самойлова, генерал-майоров Кутузова и де Рибаса. Выслушал их доклады. Оказывается, войска собрались пока не полностью. Корпус Гудовича только подтягивался к Измаилу, а войско Павла Потемкина находилось в селе Табаки. Кроме рутинных сообщений были и важные.
Генерал-майор Кутузов доложил, что своим отрядом расположился на левом берегу Дуная и обложил Измаил с сухопутной стороны.
Генерал-майор де Рибас отрапортовал, что с правого берега крепость также прикрыта его четырьмя батальонами, расположенными на острове Чатал. А за день до прибытия главнокомандующего, лодки черноморских казаков Головатого разгромили турецкую флотилию, прикрывающую крепость. Они даже попытались высадиться на берег, но были отогнаны превосходящими силами противника. И теперь флотилия де Рибаса полностью контролирует Дунай и постоянно находится перед крепостью, обстреливает ее. Стрельба также идет с батареи, установленной на острове против Измаила.
Потемкин поздравил с победами де Рибаса и приказал продолжать обстрелы. Когда подойдут основные силы, тогда будет принято решение о штурме Измаила. Это было сказано несколько напыщенно, хотя по лицам присутствующих было видно, что они в этом не особенно уверены. Только де Рибас с жаром поддержал эту мысль:
– Ваша светлость, мы готовы хоть сейчас приступить к штурму! Наши гренадеры вчера с ходу взяли бастион Табия и удерживали его, но ввиду недостаточности сил, я приказал отступить.
– Вот-вот, недостаточностью сил, – подметил Потемкин. – Поддержка сухопутных войск обязательно должна быть. Так что, дождемся подхода основных корпусов и тогда решим, как поступать дальше. Может быть, даже закончим дело дипломатическим путем.
– Я уже посылал сераскиру Измаила депешу с предложением о сдаче крепости на достойных условиях, – высказался де Рибас. – но он высокомерно отказал.
– Теперь я пошлю ему такое предложение.
Потом главнокомандующий вышел из палатки и пообщался с остальными офицерами. Начались жалобы. Солдаты болеют. Холод, дожди и сырость. Скудность провианта для людей и лошадей. Неопределенность сроков наступления.
Потемкин мрачнел. Но пообещал все устроить. И тут же распорядился весь провиант и оружие из Тульчи и Исакчи доставить сюда. Отправить из Бендер к Измаилу маркитантов. Скупать у местного населения все необходимое.
Пошел мелкий дождик, и он, объявив, что завтра осмотрит крепость и войска, удалился в палатку.
На следующий день небо прояснилось и главнокомандующий, в сопровождении генералов и старших офицеров, в течение нескольких часов объезжал турецкую фортецию. Он был поражен. То, что он видел на карте – одно, а то, что увидел сейчас, было совсем другое. Огромные валы и рвы, протяженностью почти семь верст, семь бастионов. И везде пушки. Как ему было доложено, что численность гарнизона, возможно, доходит до тридцати пяти тысяч воинов, так как сюда прибыла часть турецких солдат из Аккермана, Бендер, Килии и Хотина. Кроме того, побывав в расположениях батальонов, он заметил, что и солдаты, и казаки не горят желанием броситься в бой, а ждут, когда поступит команда идти на зимние квартиры.
И если ранее Потемкин подумывал возглавить штурм Измаила, то прибыв в палатку и просуммировав виденное, отказал себе в таком решении. А наутро он объявил генералами, чтобы они сами решили, как поступить далее. И умчался в Бендеры.
Прибыв в ставку, он заперся в кабинете и приказал его не беспокоить. Поездка подействовала на Потемкина весьма удручающе. Сутки он лежал, уставившись в потолок, и размышлял над создавшимся положением.
Двадцать лет тому он уже участвовал во взятии Измаила, будучи в составе армии Репнина. Тогда это была небольшая, слабо укрепленная крепость с малым гарнизоном. И после не длительных переговоров, турки сдались, не сопротивляясь. Сейчас же дипломатическим путем Измаил не возьмешь, турки сидят крепко. Хотя попробовать можно. Блокада и осада ни к чему не приведут. Впереди зима. Только людей зазря погубишь. Отступать? В то время, когда вся Европа смотрит на него?! Позорно. Значит, надо брать крепость штурмом. Но кто возьмет на себя такую ответственность? Он стал перебирать фамилии генералов. Потемкин, Гудович, Самойлов. Вот три старших генерала. Все боевые, храбрые офицеры, для всех это вторая война с турками. Остальных в расчет брать не стоит. Чинами пониже. Потемкин – известен своей образованностью. Гудович – деятельный военачальник. Самойлов – прямолинеен. Пожалуй, приступ может возглавить Гудович. Князь устал перебирать своих генералов, когда опять всплыло лицо Суворова. Да еще с ехидной ухмылкой. Мол, куда ты денешься! «Нет, – отмахнулся князь, – Уйди от меня!»
Так он пролежал почти сутки, впуская только слуг с едой. На следующий день, к полудню, в дверь просунулась голова Попова.
– Ваша светлость…
– Что тебе? – раздраженно произнес Потемкин.
– Прибыл курьер от государыни с письмами.
Молчание. Потом, раздался усталый голос.
– Жди. Сейчас выйду.
В приемной князя уже ждал молодой полковник.
– Полковник Зубов! – лихо отрапортовал он и протянул пакет.
Это был Валериан, младший брат нового фаворита императрицы. Потемкин уже знал об этом увлечении и потому не любил ни Платона, ни Валериана. Ведь последнего государыня тоже приблизила к себе.
Князь взял пакет и удалился к себе; молодой человек остался ждать в приемной.
В кабинете Потемкин распечатал пакет и сразу же принялся за письмо императрицы. Та по-прежнему была любезна: «Друг мой сердечный…» Писала, что радуется за взятие Килии. По этому поводу были молебен и пальба из пушек. Что пора туркам взяться за ум и не слушать пруссаков, которые прельстили их тем, что принудят отдать Тавриду16. Однако Крым им не видать, как своих ушей. Жаловалась на здоровье. За взятие Килии Гудовича пожаловала генералом-аншефом.
Отложив письмо, Потемкин задумался. Его обеспокоила одна строка: «В ожидании обещанных от тебя известий…». Зная императрицу, он понимал, что она ждет от него решения по Измаилу. Победного. Потому и написала, что не отдаст Тавриду. Значит, мир с турками надо заключать с викторией!
Кроме того, по сухому тону письма, он понял и то, что до него не доходило ранее. Императрица охладела к нему, и это окончательно. Она серьезно влюблена в Платона Зубова. А Валериана прислала, чтобы следить за ним?!
Потемкин встал и начал кружить по комнате. Впервые за все время он почувствовал уколы ревности. Но сдаваться не собирался. Достигнув вершины власти, он не понимал, что для него могут быть препятствия. И потому начал действовать энергично. Позвал секретаря.
– Василий Степанович, узнай, не желает ли, молодой господин полковник быть при Измаиле? Если готов, пусть отдохнет и определи его к де Рибасу.
Попов не удивился распоряжению главнокомандующего. Лучший способ избавиться от ненужного человека – отправить его на передовую.
Через несколько минут секретарь вернулся.
– Он готов, ваша светлость, и с превеликой радостью.
Потемкин удовлетворенно хмыкнул.
– Позвольте, Григорий Александрович, напомнить вам еще одно дело.
– Что за дело?
– Кого вы изволите назначить на место умершего командующего Кавказским корпусом графа Бальмена.
Потемкин на некоторое время задумался.
– Пожалуй, Гудовича, – и тут же торжественно продолжил: – А теперь пора браться за дело. Садись и пиши мой ордер Суворову о принятии команды над войском у Дуная для овладения Измаилом.
И начал диктовать:
«Флотилия под Измаилом истребила уже почти все их суда и сторона города к воде открыта.
Остается предпринять с помощью божиею на овладение города. Для сего ваше сиятельство извольте поспешить туда для принятия всех частей в Вашу команду… Прибыв на место осмотрите чрез инженеров положение и слабые места. Сторону города к Дунаю я почитаю слабейшею…
Сын принца де-Линя – инженер, употребите его по способности. Боже подай вам свою помощь!..
Генерал-майору и кавалеру де-Рибасу я приказал к Вам относиться».
Перед тем как отправить курьера он, поколебавшись, сел и самолично написал письмо Суворову: «…моя надежда на бога и вашу храбрость, поспеши милостивый друг… огляди все и распорядись, помолясь богу – предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли».
И только после этого отправил курьера.
Диктуя ордер, Потемкин еще не знал, что офицеры, собравшись на военный совет у Измаила, уже решили снять осаду и перейти на зимние квартиры.
На следующий день Гудович распорядился отводить осадные орудия к Бендерам. Начали отходить некоторые части Павла Потемкина.
А еще через два дня деятельный князь решил отправить Суворову свое послание сераскиру Измаильскому. В нем он написал, что не хочет пролития человеческой крови и требует добровольной сдачи крепости. В таком случае войско и жители будут отпущены с имуществом за Дунай. Но если продолжится «бесполезное упорство… тогда кровь невинных жен и младенцев останется на вашем ответе». И в конце добавил: «Ко исполнению сего назначен храбрый генерал граф Александр Суворов-Рымникский».
Передавая пакет курьеру, главнокомандующий заметил колебание офицера.
– В чем дело? – поинтересовался он.
– Дозвольте присутствовать при баталии, ваша светлость.
Карие глаза худощавого молодого человек смотрели умоляюще. Потемкину нравился этот секунд-майор. Он забрал его к себе из Белорусских шляхетских хоругвей и не пожалел. Офицер был умен, надежен и с рвением исполнял поручения.
– Я тебя, Чаплиц, взял на службу в свой штаб, а ты норовишь в армию сбежать, – недовольно заметил князь. – Некоторые рвутся сюда, да попасть не могут. Мне ведь толковые офицеры нужны, а не бездари.
Молодой человек молчал, но глаз не отводил.
Потемкин понимал его. Незнатному, бедному и без связей офицеру трудно устроить свою карьеру. Только через войну. Отличишься в бою, получишь орден и пошел на повышение. И князю вдруг захотелось сделать что-то хорошее этому молодому человеку.
– Ладно, – снизошел он. – Отпускаю тебя. Но после штурма – сразу ко мне.
– Слушаюсь, ваша светлость! – радостно выпалил секунд-майор.
– Подожди, я набросаю пару слов Александру Васильевичу, а то ведь он может тебя и не принять, домой отправить.
Князь, не присаживаясь, написал записку и, отдавая ее офицеру, уточнил:
– Если к тому времени не прибудет Суворов, передай пакет генерал-майору де Рибасу. Теперь все, иди с богом, майор.
А на следующий день главнокомандующий получил известие о военном совете. Тогда он отправил еще один ордер Суворову, где писал: «Прежде, чем мои ордера достигли Гудовича, Потемкина и де Рибаса, они решили отступить. Я предоставляю вашему сиятельству поступить тут по лучшему вашему усмотрению продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением оного. Ваше сиятельство, будучи на месте и имея руки развязанные, не упустите, конечно ничего того, что только к пользе службы и славе оружия может способствовать. Поспешите только дать мне знать о мерах вами приемлемых и снабдить помянутых генералов вашими предписаниями».
Все. Теперь оставалось слово за Суворовым. Предписание Потемкина о назначении Суворова под Измаил было получено там 27 ноября. Де Рибас, готовившийся в тот вечерь плыть к Галацу, остался, сообщив об этом Суворову тотчас же и прибавив: «с таким героем как вы, все затруднения исчезнуть». Весть о назначении Суворова разнеслась по флотилии, осадному корпусу моментально и подействовала возбуждающе. Все до последнего солдата поняли, в чем будет состоять развязка минувшего тяжелого бездействия.
Одно из высших лиц в своем частном письме выразилось без оговорок: «Как только прибудет Суворов, крепость возьмут штурмом!»
Такова сила имени Суворова.
Еще свежи были впечатления о Рымникском сражении, где войска под командованием Суворова незаметно форсировали реку Рымник и, несмотря на четырёхкратное преимущество турок, атаковали войска противника. Сражение продолжалось 12 часов и завершилось полным разгромом турецкой армии.
Еще помнили фокшанскую битву, когда объединённые русско-австрийские войска под командованием Суворова выдвинулись к селению Фокшаны и в результате 10-часового боя наголову разгромили турок
А осада Очакова, где Суворов лично повёл в бой два гренадерских батальона и отбросил турок, при этом был ранен!
А баталия у крепости Кинбурн, которую защищал гарнизон из 4 тысяч человек во главе с Суворовым, где был разгромлен турецкий десант!
Везде победы! Везде слава русского оружия!
Глава 4. Суворов, командующий корпусом
в Молдавии
Когда курьер прибыл в Галац, где располагался штаб Суворова, самого командующего на месте не оказалось. Тот наблюдал за строительством редутов, которые возводились солдатами Фанагорийского гренадерского полка. Суворов внимательно следил за разворачиванием событий на Дунае и понимал, что турецкие войска могут ударить из Браилова во фланг российской армии. А на их пути как раз и стоит корпус Суворова в Галаце и в селе Максимены. Поэтому он и решил две недели тому назад предварительно строить укрепления.
Когда посыльный сообщил о прибытии курьера, Суворов немедленно отправился в штаб. Получив ордер и прочитав его, он воскликнул:
– Ага! Значит, не могут без меня!
Затем, прочитав прилагаемое письмо, хитро заметил:
– Видно дело очень серьезное, раз светлейший в беспокойстве.
Все лето Суворов, находясь еще в Бырладе, скучал от бездействия. Но не из-за недостатка дела вообще, а от боевого бездействия. Он по-прежнему занимался обучением войск, объезжал и осматривал полки, проводил разводы. А свободное время посвящал умственным занятиям. И в них не последнее место отводилось изучению турецкого языка и знакомству с Кораном. Большая часть свободного времени шла на чтение. Генерал читал все, что было в его доступности и на разных языках: газеты, журналы, военные мемуары, история, статистика, путешествия. Кроме занятий служебных и научных, Суворов вел довольно деятельную переписку со многими людьми.
В августе, после заключения мира между Австрией и Турцией, Суворову пришлось перевести свой корпус в село Максимены, а сам он устроился со штабом в Галаце.
В конце августа, когда адмирал Ушаков одержал знаменитую победу, разбив турецкий флот под Хаджибеем, Потемкин счел, наконец, возможным начать действия. Узнав об этом, Суворов воспрянул духом и написал князю: «Ах, батюшка Григорий Александрович, вы оживляете меня… Я готов, милостивый государь, к повелениям вашим». Однако, как известно, русские войска действовали на Дунае без него. Лишь однажды произошла боевая стычка. Три недели назад артнауты17 и черноморские казаки корпуса Суворова перехватили у Галаца 18 турецких судов, шедших из Исакчи в Браилов. После чего генерал начал строить укрепления.
И вот сейчас, наконец-то, вспомнили о нем! Получив ордер, Суворов начал действовать без промедления.
– Иван Онуфриевич, – приказал он своему секретарю Курису, – вызови мне князя Голицына. А пока, пиши приказ о моем убытии к Измаилу, согласно ордеру главнокомандующего.
Ожидая офицера, Суворов взял лист бумаги и принялся что-то быстро писать. Иногда он останавливался, и кое-что из написанного зачеркивал.
Когда появился Голицын, Суворов дал ему прочитать предписание Потемкина и сказал:
– Принимай корпус, Сергей Федорович. Время не терпит. Сколько сейчас? Полдень. Отправляюсь сегодня в 16 часов. Пока светло. Со мной конвой 40 казаков. Денщик Иван. Подготовь-ка мне паром на левый берег Прута. Ночевка в Рени, потом – на Вулканешты, Болград и оттуда – к Измаилу.
– Александр Васильевич, а может, вы на судне спуститесь вниз по Дунаю. Так быстрее получится…
– Нет уж, я, как обычно, на своей лошадке. А вот ты, распорядись собрать все суда, что есть. Посадишь на них 1000 арнаутов и 150 охотников Апшеронского полка. Вместе с ними погрузишь 20.., нет 30 заготовленных лестниц и 1000 фашин. Все это отправишь к Измаилу. Туда же направь Фанагорийский гренадерский полк и две сотни казаков, но сухопутным путем. На все это нужно время, но ты уж постарайся побыстрей. И еще, направь к Измаилу маркитантов. С продовольствием там туго.
Взглянув на секретаря, писавшего приказ, Суворов еще прибавил:
– Премьер-майор Курис произведет посадку людей на суда и вместе с ними прибудет на место.
– Слушаюсь, Александр Васильевич.
Не успели они закончить, как дежурный офицер доложил, что прибыл баркас из Измаила с письмом. Это было послание от де Рибаса, который сообщал о решении военного совета отойти от крепости. И что Павел Потемкин уже начал отводить войска. И что он тоже собирался плыть в Галац, но тут пришло известие о назначении сюда Суворова. «Теперь, – писал де Рибас, – с таким героем, как вы, все затруднения исчезнут».
– Ну вот, поторопились, – сказал Суворов.
Он тут же написал записку генералам с приказом возвращать войска на оставленные позиции и отправил ее назад с курьером, прибывшим от де Рибаса.
Потом, Суворов быстро составил рапорт Потемкину. Как всегда он был краток:
«По ордеру вашей светлости от 25-го ноября мною сего числа полученным, я к Измаилу отправился, дав повеление генералитету занять при Измаиле прежние их пункты, а господину генерал-поручику князю Голицыну предписал ведать здешний пункт Галацы».
Отправив рапорт с курьером к главнокомандующему, Суворов отдал указания денщику:
– Поедешь со мной. Подготовь все необходимое мне на три-четыре дня. Остальное – мундиры, шпагу и прочее – Курис привезет.
И, улыбнувшись, добавил:
– Не забудь про саблю.
– Да как же можно, батюшка, – равнодушно отозвался казак. Он всегда возил за генералом тяжелую саблю, даже во время боевых действий. У Суворова в руках была только плетка.
Кортеж выехал в указанное время и ночевал в Рени. На следующий день к вечеру были в Болграде. Там Суворов встретил одну из частей, возвращающихся из Измаила в село Табаки, на зимние квартиры. Представившись командиру батальона, он заметил:
– Придется возвращаться, братец. Со мной воевать придется.
– С превеликой радостью, ваше сиятельство! – восторженно ответил офицер.
– Только дождитесь приказа вашего командования, – посоветовал Суворов. – Через голову не положено.
А сам в три часа ночи выехал к Измаилу, взяв с собой лишь денщика и двух дозорных казаков. И ранним утром, еще затемно, Суворов прибыл на место. Пока он располагался в выделенной для него палатке, прибыл генерал-поручик Потемкин. Поздоровавшись, Суворов тут же распорядился:
– Павел Сергеевич, прошу собрать здесь весь генералитет, как можно быстрее. Скажем, через два часа. И доставьте мне план крепости.
Он уже успел разместиться и выпить чаю, когда Потемкин доставил ему план и передал ордер, в котором главнокомандующий сообщал о принятом военным советом отводе войск. Прочитав предписание, Суворов только хмыкнул. Мол, и так уже известно.
К этому времени понемногу начали приходить офицеры. Когда все генералы собрались вокруг стола с планом, Суворов, поздоровавшись с ними, приступил к работе.
– Прошу вас представить мне списки ваших частей с указанием количества людей – здоровых и больных, наличия оружия, боеприпасов, провианта, фуража и прочего. Сделать это надо в кратчайшие сроки. Убывшие части вернуть на прежние пункты. Сегодня же, как будет светло, я намерен объехать крепость. Во время осмотра прошу всех следовать за мной. Также при этом должен присутствовать принц де Линь. Кстати, а где Гудович?
Ответил генерал-поручик Самойлов:
– Вчера убыл в Бендеры; по ордеру главнокомандующего назначен командующим Кавказскими войсками. Я принял командование корпусом.
Суворов с пониманием кивнул головой. Затем, выслушав доклады генералов, отпустил их. Остался де Рибас. Тот протянул Суворову пакет и пояснил:
– Вчера прибыл курьер от фельдмаршала с пакетом. В нем – ордер на мое имя с посланием Потемкина сераскиру измаильскому Мехмет-паше. Но в предписании сказано, чтобы я это послание измаильскому паше передал вам сразу же по вашему прибытию. Я же сделал копию и засвидетельствовал ее. Ведь вы отправите паше копию, а не оригинал?
– Вы все правильно сделали Иосиф Михайлович, благодарю. Я отправлю это послание, когда настанет время.
– И еще, ваше сиятельство. Курьер, который прибыл от светлейшего князя, просит у вас аудиенцию.
– Хорошо, пусть прибудет вечером. Сейчас недосуг.
После ухода де Рибаса, Суворов, наконец, взялся за перо и написал рапорт Потемкину:
«К Измаилу сего числа прибыл.
Ордер вашей светлости от 29-го о мероположении, что до Измаила, я имел честь получить и о последующем вашей светлости представлю».
Распорядившись отправить донесение немедленно, он принялся изучать план крепости.
За час до полудня Суворов, в сопровождении генералов, выехал на объезд крепости. Стояла хорошая для этого времени года погода – сухая, холодная, но без морозов. Крепостные сооружения видны неплохо, даже с расстояния двух верст. Тем менее, Суворов часто пользовался подзорной трубой.
Измаил располагался на левом берегу Килийского рукава. Он стоял на плоской косе, спускающейся к реке крутым обрывом. Крепость имела вид почти прямоугольного треугольника. Южная сторона, которая прилегала к реке, простиралась на 1000 саженей18. Западная имела 700, а северно-восточная – 1300 саженей. Таким образом, главный вал получался длиной около семи верст и представлял собой ломаную линию. На нем установлены семь бастионов с множеством входящих и исходящих углов. Один бастион был целиком каменный, другой – лишь обшит камнем, но с двумя каменными башнями. Остальные укрепления были земляные. Крепостной вал имел от трех до четырех саженей высоты, ров до шести саженей ширины и до четырех – глубины.
Перебравшись на остров Чатал, Суворов осмотрел и обращенный к реке фронт крепости. Он состоял лишь из одной, да и то недоконченной насыпи. Турки не ожидали отсюда нападения, рассчитывая на свою флотилию. Но их суда были уничтожены, и теперь на этом участке реки стояла Дунайская флотилия де Рибаса. И сейчас, ввиду грозившей опасности, турки начали срочно возводить батарею.
По подсчетам разведчиков, на валах с сухопутной стороны стояло около двухсот орудий разного калибра.
В крепость вели четверо ворот. С западной стороны – Бросские и Хотинские, с северо-восточной – Бендерские и Килийские.
Суворов проехал на своей казачьей лошадке весь путь молча, но внимательно слушая пояснения офицеров. Лишь однажды он спросил у Потемкина:
– Павел Сергеевич, у нас есть осадные пушки?
– Нет, Александр Васильевич. Гудович еще две недели тому назад отправил их в Бендеры. Осталась только полевая артиллерия. И боеприпасов к ним не более одного комплекта.
Собрав генералов после поездки, Суворов отдал распоряжения:
– Все части приблизить на две версты ближе крепости. Чтобы противник нас видел, но достать не мог. Когда я скажу, надо будет установить две батареи на берегу в углах, где крепость примыкает к реке. Одну поставьте выше по течению реки, другую – напротив нее, ниже по течению. За строительством батарей будут наблюдать инженеры принц де Линь и господин де Волан. Установим тайно, за одну ночь. А сейчас начать заготовку осадных материалов. К тем, что прибудут из Галаца приготовить еще 40 штурмовых лестниц и 2000 фашин. В верстах пяти-шести отсюда насыпать вал и вырыть ров, наподобие крепостных. Каждую ночь водить туда солдат, дабы учить, как преодолевать эти препятствия. Днем обучать солдат штыковому бою постоянно. Колоть штыком в фашины, чтобы воин чувствовал врага. Но людей беречь и давать время на отдых. Настраивать их на то, что для русского солдата не существует преград, которые бы он не преодолел. И в этом преодолении офицеры всех рангов должны быть примером. Прошу вас, господа генералы, принять мои слова к немедленному исполнению с утра следующего дня.
После ухода генералов появился секунд-майор Чаплиц с запиской от Потемкина. Прочитав её, Суворов с любопытством посмотрел на офицера:
– Хотите участвовать при штурме?
– Так точно, ваше сиятельство.
– Мне кажется, я вас где-то встречал, майор?
– Так точно. При Очакове. Я там был в штабе светлейшего князя.
– Вы из кавалерии? – Суворов кивнул на саблю, висящую на левом боку молодого человека.
– Так точно.
– Кавалерия у нас в резерве. Пехота пойдет на приступ. А как откроют ворота, то для всех найдется работа. Так что пока будете у меня при штабе.
Отпустив офицера, Суворов призадумался. Вспомнил себя в прошлом. Будучи поручиком, он так же, как этот юноша рвался в бой, чтобы доказать свою годность в военном деле. Вздохнув, Суворов приказал нести ужин. Лег спать рано.
Проснулся, как обычно в два часа ночи. Умылся до пояса, обтерся докрасна простыней. Выпил чаю и приступил к работе над картой, набрасывая контуры будущей диспозиции. Теперь, осмотревшись и собрав сведения, Суворов увидел, что задача перед ним предстоит более, чем трудная. Крепость была первоклассная и защищала ее целая армия. Силы русских были меньше. Осадных орудий не было. Ощущался недостаток провианта. И все ж таки, штурм необходим. Как с военной, так и с политической точки зрения. И обеспечить его успех необходимо было теми средствами, что было у него в наличии.
В шесть часов утра Суворов пообедал и отдыхал, пока не стало светло. Подготовил и отправил записку главнокомандующему, в которой сообщал, что войска возвращаются на прежние места, что приступил к заготовлению осадных материалов, и что крепость без слабых мест. Закончил послание словами: «Обещать нельзя, божий гнев и милость зависят от его провидения. Генералитет и войска к службе ревностно пылают».
Весь день Суворов провел на воздухе, наблюдая за работами. К этому времени начали прибывать егеря и арнауты из Галаца. Появился и секретарь секретной канцелярии генерала Курис.
Еще через день прибыли казаки, но Фанагорийский полк задерживался. А его Суворов ждал с нетерпением. Без своих любимцев начинать штурм не хотел.
Последующие несколько дней были наполнены кипучей деятельностью. Под зорким глазом Суворова никто не сидел сложа руки, каждый час был на счету. Производилась заготовка осадных средств: фашин, штурмовых лестниц, шанцевого инструмента. В штурмовом городке солдаты каждую ночь практиковались в приемах перехода через ров, преодолению вала и прочем. Бывал там и Суворов, лично показывая, как надо действовать при штурме и в штыковой атаке. Учил, приговаривая:
– Беги быстро! Прыгай через палисад, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы! Стрелки стреляй по головам! Колонны, лети на вал! Враг не знает, где мы появимся. Значит, будет распылять силы, распределять по всему валу. А мы лишь по нескольким точкам ударим. Сколько их в одном месте будет? Десять, двадцать, тридцать? А мы десять лестниц приставим, быстро взбежим, сразу – десять наших на валу! За нами через секунду еще десять! И сразу вперед, без остановки! Главное, натиск! В атаке не задерживай! Бей, стреляй, коли, руби! Не давай противнику опомниться! Трое наскочат – первого заколи, второго застрели, третьего – штыком! А к тебе на подмогу вот уже – твои товарищи! Противник в панике! Уже не боец! На валу вытягивай линию! Сколько врагов ни бежит на нас – всех побьем!
В конце он всегда добавлял:
– Возьмете крепость – все ваше. Святая добыча!
Несколько раз проводилась рекогносцировка, руководил которой обер-квартирмейстер Лен. В них принимали участие генералы и штаб-офицеры, дабы все штурмующие колонны были ознакомлены с укреплениями, против каких им придется действовать. Сам Суворов сопровождал их. Когда рекогносцировка выяснила подробности неприятельской обороны, на флангах сухопутного расположения начали закладывать две батареи по двадцать пушек каждая. Они имели цель замаскировать, до времени, намерение штурмовать крепость.
Ежедневно Суворов объезжал полки, говорил с солдатами так, как мог говорить только он один. При его появлении лица воинов оживлялись и сияли. Генерал вспоминал прежние победы, не скрывал серьезности настоящего положения и больших трудностей предстоящего штурма.
– Видите эту крепость, – говорил он, показывая на Измаил, – валы Измаила высоки, рвы глубоки, и все-таки нам нужно взять ее. Матушка-царица приказала, и мы должны ее слушаться.
Непонятно как, но сила убеждения этого маленького, сухопарого, неказистого старичка распространялась на всех – от генералов до солдат. В нем они видели победу.
– С тобой, наверное, возьмем! – отвечали солдаты. И в их словах звучало не минутное увлечение, а сознательная, спокойная уверенность.
Пятого числа все войска Павла Потемкина заняли прежние места, а к вечеру седьмого прибыл и Фанагорийский полк. После чего Суворов начал диктовать своему секретарю Курису диспозицию19 к штурму Измаила.
Седьмого декабря, утром, к Суворову прибыл Кутузов.
– Александр Васильевич, – сказал он, – ночью ко мне явился перебежчик из крепости. Турок Кулчохадар Ахмет.
– И что же он рассказал? – прищурился Суворов.
Кутузов протянул ему листы бумаги.
– Его показания о численности вооружения и запасах провианта в крепости я записал через переводчика.
– Бумагу я потом прочитаю. А ты мне вкратце скажи основное.
– По его словам выходит, что численность гарнизона в Измаиле на сегодняшний день составляет примерно двадцать с небольшим тысяч человек. Десять тысяч янычар, еще пять тысяч регулярных анатолийских войск – из них две тысячи конницы. И тысяч пять в нерегулярных отрядах из татар, килийских, хотинских и измаильских жителей.
– Ты, Михайло Илларионович, и ранее вел здесь разведку. Что скажешь?
– Это подтверждает прежние показания людей, бежавших из крепости.
– Откуда же взялись тридцать пять тысяч?
– У них много людей сбежало за Дунай. Дезертиры. Кроме того, брались в расчет экипажи судов и десант их флотилии, на которую у турок большая надежда была.
– А Осип Михайлович эту их надежду утопил!
– Так точно.
– Ну прибавим несколько тысяч, про которые турок не знает…– задумчиво произнес Суворов. – Получается, тысяч двадцать – двадцать пять. А мы считали тридцать пять… Эти показания меня радуют. У нас тоже регулярных войск пятнадцать тысяч, остальные нерегулярные.
– Он говорил еще про пушки…
– Оставь бумагу, я ее сам прочитаю. И вот что, Михайло Ларионыч, ты об этих цифрах пока никому не говори. Пусть все думают, что враги многочисленны. Так рвения будет больше. Впрочем, при штурме надо всегда учитывать и остальных жителей города. Неизвестно, как они поведут. Хорошо, если бы сераскир проявил волю и сдал крепость без кровопролития.
Те же днем, в два часа пополудни, Суворов отправил сераскиру Измаила письмо фельдмаршала Потемкина с предложением сдать крепость во избежание кровопролития. К ультиматуму главнокомандующего он приложил и свое обращение к измаильским властям, почти такого же содержания, дав сроку на ответ двадцать четыре часа.
Сераскир ответил лишь на следующий день к вечеру. Письмо было длинное, суть его сводилась к отказу, если не будут выполнены их условия. Очевидно, турки решили потянуть время. Но они имели дело не с Потемкиным, и не с австрийским генералом, а с Суворовым. Понимая это, сераскир прислал парламентера и девятого числа, как будто за ответом. Суворов ответил кратко: «Получа вашего превосходительства ответ, на требование согласится никак не могу, а против моего обыкновения даю вам сроку сей день до будущего утра».
Турецкий парламентер, принимая это послание от русского офицера, знавшего турецкий язык, гордо заявил: «Скорее Дунай остановится в своем течении, и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».
Ответ сераскира об отказе сдать крепость Суворов приказал прочитать в каждой роте, чтобы повлиять на душевное состояние солдат.
И в тот же день, утром, Суворов собрал военный совет. Делал он это согласно уставу Петра Первого: «Генерал своею собственною волею ничего важного не начинает без имевшего наперед военного совету всего генералитетства, в котором прочие генералы, паче других советы подавать имеют».
Самому Суворову этот совет был не нужен, он уже все решил. Но ему нужно было нравственно подействовать на подчиненных ему начальников, которые еще совсем недавно считали штурм невозможным и постановили отступить на военном совете две недели тому назад. Он хотел перелить в них принятое им самим решение, сделать свой взгляд их взглядом, свою уверенность их уверенностью, совершить в них нравственный переворот, хотя, в сущности, за последние дни этот переворот был хорошо подготовлен. Это очень трудно для военачальников ординарных, ничем не возвышающих над своими подчиненными, кроме своего положения, но легко для таких, как Суворов. Тут не нужно ни разглагольствований, ни хитросплетенных доказательств. Убеждает победный авторитет, увлекает ни перед чем не склоняющая воля.
Суворов обвел глазами собравшихся в его палатке офицеров. Перед ним стояли три бригадира и десять генералов. Предлагая на обсуждение вопрос о покорении Измаила, он произнес речь, как всегда краткую, но взволнованную и торжественно-эмоциональную:
– Два раза русские подступали к Измаилу и – два раза отступали они; теперь, в третий раз, остается нам либо – взять город, либо умереть! Правда, что затруднения велики: крепость сильна; гарнизон – целая армия, но ничто не устоит против русского оружия! Мы сильны и уверены в себе. Напрасно турки считают себя безопасными за своими стенами. Мы покажем им, что наши воины и там найдут их! Отступление от Измаила могло бы подавить дух наших войск и возбудить надежды турок и союзников их. Если мы покорим Измаил – кто осмелится противостоять нам? Я решился овладеть этою крепостью, либо погибнуть под ее стенами!
Эта речь вызвала восторг среди собравшихся. Казак Платов, которому, как младшему в совете, следовало первому подать голос, воскликнул: «Штурм!» Все остальные к нему присоединились единогласно. Суворов бросился на шею Платову, а затем, перецеловал всех по очереди и сказал:
– Сегодня молиться, завтра учиться, послезавтра – победа, либо славная смерть…
После чего было составлено постановление:
«Приближаясь к Измаилу, по диспозиции приступить к штурму неотлагательно, дабы не дать неприятелю время еще более укрепиться… Сераскиру в его требовании отказать… Отступление предосудительно победоносным ее императорского величества войскам.
По силе четвертой на десять главы воинского устава:
Бригадиры Матвей Платов, Василий Орлов, Федор Вестфален; генерал-майоры Николай Арсеньев, Сергей Львов, Иосиф де Рибас, Ласси, граф Илья Безбородко, Федор Мекноб, Петр Тищев, Михайло Голенищев-Кутузов; генерал-поручики: Александр Самойлов, Павел Потемкин».
Участь Измаила была решена. День штурма – 11 декабря.
По окончании совета Суворов продолжил совещание.
– Господа бригадиры и генералы, – начал он. – Прежде чем мы приступим к рассмотрению диспозиции, которая была закончена еще вчера, я хочу вкратце разъяснить основные её пункты, чтобы вы могли понять мой замысел. Будем атаковать крепость одновременно с трех сторон. Атакующие разделяются на три группы. Правое крыло, под начальством генерал-поручика Павла Потемкина, имеет назначение произвести удар на западную часть крепости тремя колоннами. А левое крыло генерал-поручика Самойлова, двумя колоннами – на восточную. Отряд генерал-майора де Рибаса, тремя колоннами десантов атакует с речной стороны. Кавалерия и казачьи полки располагаются в резерве против каждых ворот. Каждая колонна, назначенная для атаки сухопутного фронта крепости имеет единообразное построение: в голове у нее находится команда стрелков (120 – 130 человек), далее команда «рабочих» с фашинами, лестницами и шанцевым инструментом, затем ударная группа составом в три батальона; замыкает ее резерв в два батальона. Стрелки, рассыпавшись перед рвом, своим огнем подавляют стрельбу противника; «рабочие» заваливают ров фашинами и устанавливают лестницы, по которым поднимаются бойцы ударной группы. Резерв предполагается использовать для боя внутри крепости, но в случае необходимости командиры могут его использовать и для атаки вала. Суда флотилии строятся в две линии: в первой 145 малых судов, которые должны подойти к берегу и высадить десант, во второй 58 крупных судов, задача которой поддержать высадку огнем артиллерии. Колонны должны не менее чем за четверть часа до начала атаки выдвинуться в исходное положение приблизительно в 600 шагов от крепостного рва.
Начало атаки в 5.30 утра. Нападение в темноте делает его внезапным и уменьшает потери от огня неприятеля. Хоть ночь и мешает атакующим, но сослужит им службу немалую. Она скроет от них ту опасность, которая будет грозить им на каждом шагу. Солдаты будут действовать смелее и упорнее.
Рассчитываю, что до рассвета все колонны поднимутся на валы и займут всю верхнюю часть. В город входить только по приказанию, когда рассветет и когда откроются ворота. К этому времени все турецкие пушки будут развернуты внутрь. Только тогда будут задействованы и резерв, и кавалерия, и штурмовые войска. Бой в азиатском городе лучше вести при дневном свете.
Важна одновременность атаки, поэтому начинать штурм будем после третьей ракеты. Первая – подготовка, вторая – выход на позиции. Кроме того, командиры заранее проверяют карманные часы для единообразия времени. Так как ракеты могут встревожить турок и помешать внезапности штурма, то каждую ночь, начиная с сегодняшней, мы будем пускать ракеты перед рассветом.
Завтра, десятого числа, с восходом солнца открыть огонь со всех батарей: с тех, что построены на флангах, с тех, что на кораблях, и с тех, что расположены на острове (всего около 600 пушек). Пальба будет продолжаться весь день. А в полночь одиннадцатого вновь начать такую же подготовку и вести ее до начала штурма. Цель обстрела – подавить вражеские батареи в каменной башне «Табия» и на речной стороне.
На валах и при входе в город, стрелкам отыскивать пороховые погреба и ставить к ним караулы, чтобы воспрепятствовать неприятелю взорвать их. Беречься от пожаров.
И наконец, действовать оружием только против защитников крепости. Безоружных женщин, детей и христиан не предавать смерти.
А сейчас, господа офицеры, мы с вами, рассмотрим и обсудим мою диспозицию. Вы внесете свои изменения и дополнения. После чего, она будет передана командирам частей и начальникам колонн. Все должны ознакомиться со своими обязанностями. Каждый солдат должен знать свой маневр!
По колоннам заблаговременно необходимо раздать фашины, штурмовые лестницы и шанцевый инструмент.
А теперь, я слушаю вас, господа генералы!
После этой речи генералы приступили к обсуждению диспозиции. Добавили еще колонну. Получилось девять колонн. К вечеру копии диспозиции были разобраны начальниками. Наступил последний этап подготовки к штурму.
Глава 5. Перед штурмом
Десятого декабря с восходом солнца началась сильнейшая канонада с четырех фланговых батарей, с острова и с флотилии. Несколько сот орудий не прекращали огня до вечера. Турки отвечали, но с полудня стали стрелять реже, и к вечеру вовсе замолчали. Город сильно пострадал. Русские тоже понесли потери. Одна из неприятельских бомб попала в крюйт-камеру бригантины «Константин» и взорвала судно.
Наконец закончился этот тревожный день. На землю опустился вечер. Установилась сухая, но без морозов, погода. Лишь иногда набегали облака, закрывая, на время, звездное небо.
Русское войско отдыхало. Окончены были последние приготовления, отданы последние приказания.
Множество костров полукружьем охватило Измаил. Солдаты расположились артельно, готовили ужин, разговаривали, что-то обсуждали. Еще днем всем перед строем прочитали приказ Суворова:
«Храбрые воины! Приведите себе в сей день на память все наши победы и докажите, что ничто не может противиться силе оружия российского. Нам предлежит не сражение, которое бы в воле вашей состояло отложить, но непременное взятие места знаменитого, которое решит судьбу кампании, и которое почитают гордые турки неприступным. Два раза осаждала Измаил русская армия и два раза отступала; нам остается в третий раз, или победить или умереть со славою».
Когда наступила ночь, поужинавшие люди располагались на отдых. Хотя мало кто из них спал. Понемногу стал утихать человеческий гомон. Слышны были фырканье лошадей, да перекличка караульных.
И в Измаиле было тихо. Доносился лишь глухой шум, оклики часовых, лай и вой собак. На валах защитники жгли костры. Монотонно бил турецкий барабан.
Вдруг тьму прорезали звуки ружейных выстрелов, где-то у крепости засверкали огоньки. Люди вскакивали с мест, вглядывались в темноту. Но вскоре все затихло. Оказалось, турки попытались сделать вылазку и атаковать батареи. Даже на палатку Суворова намеревались напасть. Но казаки и дозорные легко отбили атаки.
В тот вечер Суворов, озабоченный предстоящим событием, на своей маленькой казацкой лошадке, объезжал войска. Останавливался у бивачных огней. Офицеры и солдаты стояли вокруг костров, грелись и вели разговоры о будущем сражении. Одни ободряли других, рассказывали про штурм Очакова, как там, перед русским штыком, не смогла устоять турецкая сабля.
– Какой полк? – спрашивал, подходя к ним, Суворов.
А получив ответ, хвалил каждую часть. Припоминал минувшие дни, когда он вместе с ними сражался под Кинбурном, Очаковым, Фокшанами и Рымником.
