Христианское учение о спасении
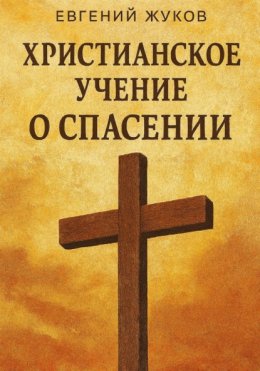
Предисловие
Богословие без мистического основания превращается в интеллектуальную конструкцию, лишённую животворящей силы. Самые изощрённые догматические формулировки и безупречная экзегетическая методология остаются мёртвой буквой, если не служат проводником к живому познанию Бога. История христианства демонстрирует печальные примеры того, как академическое богословие, оторванное от духовного опыта, порождало лишь схоластические споры и доктринальные разделения. Подлинное богословие должно быть не самоцелью, а средством духовного восхождения.
Христианская мистика представляет собой не эмоциональный энтузиазм или субъективные переживания, но объективную реальность богообщения, укоренённую в точном догматическом понимании. Без твёрдого богословского фундамента мистический опыт становится зыбким и подверженным заблуждениям. История христианства демонстрирует опасность мистицизма, оторванного от апостольского предания. Такие фигуры, как Дионисий Ареопагит и Иоанн Креста, несмотря на свой духовный авторитет, не имели твёрдого богословского основания, укоренённого в библейском учении. Их мистические построения лишены христологического центра, что приводит к размыванию евангельской истины о спасении только во Христе.
Сотериология занимает особое место в этом синтезе богословия и мистики. Учение о спасении не может оставаться абстрактной доктриной – оно должно стать живым опытом преобразования человеческой природы. Когда мы говорим о монергическом характере спасения, о том, что человек не играет в нём никакой активной роли, это не просто богословская формула. Это описание глубочайшего мистического опыта полной зависимости от божественной благодати, опыта смерти для собственной воли и воскресения в Божией воле.
Послание к Римлянам представляет собой наиболее систематическое изложение павлиновой сотериологии, но его нельзя рассматривать лишь как доктринальный трактат. Каждая глава этого послания открывает новые измерения духовного опыта, новые грани богообщения. Апостол Павел не просто излагает учение – он свидетельствует о пережитой им реальности преображения. Его богословие неотделимо от его мистического опыта встречи с воскресшим Христом на пути в Дамаск.
Настоящее исследование стремится преодолеть ложную дихотомию между богословской точностью и мистической глубиной. Я буду рассматривать каждый аспект павлинова учения о спасении как описание определённого измерения духовного опыта. Оправдание верой, освящение, прославление – это не просто логические этапы ordo salutis, но различные грани единого процесса мистического соединения с Богом. Только такой подход позволяет избежать превращения богословия в "словесное блуждание" и раскрыть подлинную глубину апостольского благовестия.
Эта книга рождена из глубокой личной боли и столь же глубокого освобождения. Двадцать лет блужданий в лабиринтах православного богословия привели мою душу к краю бездны – там, где психологические силы истощаются до дна, а здоровье разрушается под тяжестью ложных духовных построений. Словно путник, заблудившийся в туманных болотах, я годами искал твёрдой почвы под ногами, но находил лишь зыбкие островки человеческих мнений и традиций.
Господь в Своей неизреченной милости открыл мне глаза на глубокую ложность, а порой и откровенную еретичность большинства позиций, которые преподносятся как православное учение о спасении. Это откровение пришло не как мягкий рассветный свет, но как молния, разрывающая ночную тьму – ослепительно, болезненно, но несущая подлинное освобождение.
Для глубоко верующего человека богословие никогда не остаётся абстрактной дисциплиной. Оно врастает в самые сокровенные глубины сознания, формирует мировоззрение, определяет внутренний ландшафт души. То, во что мы верим о природе Бога, о спасении, о собственной греховности и Божественной благодати, становится невидимой архитектурой нашей внутренней жизни.
Богословие может возносить душу к вершинам духовной свободы, где дышится легко и ясно видны горизонты вечности. Но то же богословие способно стать тюрьмой, где дух задыхается в удушающей атмосфере неопределённости и страха. Разница между освобождающей истиной и порабощающим заблуждением порой едва различима – как тонкая грань между целительным лекарством и смертельным ядом.
Психика верующего человека особенно уязвима для богословских ядов. Там, где секулярный ум может позволить себе роскошь интеллектуального безразличия, христианская душа трепещет перед каждой доктриной как перед вопросом жизни и смерти – и это правильно. Ибо богословие действительно касается вечных реалий, от понимания которых зависит не только душевное спокойствие, но и вечная участь.
Двадцать лет я питался отравленным хлебом православной сотериологии, где человеческие дела смешиваются с Божественной благодатью в ядовитый коктейль религиозного перфекционизма. Синергия – это красивое слово, под которым скрывается древняя ересь Пелагия. Обожение – возвышенная концепция, маскирующая гордыню человеческого сердца, не желающего признать свою полную немощь перед лицом святого Бога.
В этой системе координат спасение становится совместным предприятием Бога и человека. Господь простирает руку помощи, но последнее слово остаётся за человеческой волей. Благодать действует, но её эффективность зависит от нашего сотрудничества. Такое понимание превращает христианскую жизнь в мучительное балансирование на краю пропасти, где одно неверное движение может обрушить всё здание спасения.
Душа, воспитанная в таких богословских координатах, никогда не знает покоя. Она постоянно вглядывается в себя, ища признаки достаточной святости, достаточного покаяния, достаточной веры. Но достаточность никогда не приходит – ибо как может грешное сердце само определить меру своей пригодности перед Богом?
Страх осуждения становится постоянным спутником такой души. Он отравляет молитву тревожными вопросами о собственной искренности. Он искажает чтение Писания, превращая каждое требование закона в новый повод для самоосуждения. Он превращает церковную жизнь в театр религиозного лицемерия, где человек играет роль святого, втайне зная о своей глубокой порочности.
Психологическое давление такой системы невыносимо для честной души. Либо человек погружается в глубины отчаяния, признав свою неспособность соответствовать требованиям, либо обманывает себя иллюзией собственной праведности, становясь духовным фарисеем. Третьего пути в синергической сотериологии не дано.
Я избрал первый путь – путь честного отчаяния. Годами моя душа корчилась в конвульсиях религиозного перфекционизма, пытаясь достичь той степени святости, которая могла бы гарантировать спасение. Каждое падение воспринималось как катастрофа, каждый грех – как предательство Божественной благодати.
Нервная система не выдерживала такого напряжения. Тело начало разрушаться под тяжестью духовного груза, который никогда не предназначался для человеческих плеч. Бессонница, депрессия, невроз – всё это было не просто психологическими симптомами, но прямыми следствиями ложного богословия.
Ибо богословие не существует в вакууме – оно имеет прямые экзистенциальные последствия. То, что мы думаем о Боге, немедленно отражается на том, что мы думаем о себе. Ложная концепция спасения неизбежно порождает ложную духовность, а ложная духовность разрушает человека изнутри.
Монергическое понимание спасения пришло в мою жизнь как целительный бальзам на кровоточащие раны религиозного перфекционизма. Осознание того, что спасение есть исключительно дело Божие, в котором человек играет лишь пассивную роль получателя благодати, сняло с моих плеч непосильный груз религиозных обязательств.
Это было подобно выходу из душной комнаты на свежий воздух. Лёгкие, привыкшие к спёртой атмосфере синергизма, жадно впитывали чистый кислород евангельской свободы. Впервые за многие годы я смог вздохнуть полной грудью, не опасаясь, что следующий вдох может стать последним.
Понимание того, что моё спасение не зависит от моих дел, молитв, постов или духовных упражнений, принесло неописуемое облегчение. Я перестал быть заложником собственной религиозной активности и стал свободным наследником Божественной милости.
Богословская истина обладает собственной целительной силой. Правильное понимание Евангелия не просто удовлетворяет интеллект – оно исцеляет душу, восстанавливает разрушенную психику, возвращает радость жизни. В этом проявляется удивительная связь между доктриной и опытом, между истиной и жизнью.
Эта книга – свидетельство о том, как богословская революция может стать революцией экзистенциальной. Переход от синергической к монергической сотериологии не был для меня академической перестройкой – это было воскресение из мёртвых, возвращение к жизни после долгих лет духовной агонии.
Я пишу эти строки с благодарностью к Господу, Который не оставил меня погибнуть в болотах ложного богословия, но вывел на твёрдую почву апостольского учения. Эта твёрдость не психологическая иллюзия – она основана на незыблемом фундаменте Божественных обетований, которые не зависят от человеческой немощи или непостоянства.
Мой путь к пониманию монергической природы спасения не пролегал через современные конфессиональные границы. Я не искал истину в проповедях протестантских служителей или в трудах реформационных богословов. Напротив, открытие пришло через возвращение к первоисточникам – к тем памятникам древнецерковной письменности, которые остаются неизвестными русскоязычному читателю. Именно в забытых сокровищницах патристического наследия обнаружились те богословские истины, которые кардинально изменили мое понимание сотериологии.
Начав систематическое изучение трудов, недоступных в переводах, я столкнулся с поразительным фактом. То богословие, которое преподносится как "православная традиция", имеет весьма отдаленное отношение к учению древней церкви. Более того, многие фундаментальные истины, утвержденные святыми отцами и поместными соборами, оказались полностью забытыми или искаженными в современном православии.
Особое откровение принесло изучение антипелагианской полемики IV-V веков. Пелагианские споры представляют собой один из важнейших богословских конфликтов в истории христианства, определивший церковное понимание благодати, свободной воли и спасения на многие столетия вперед. Однако в православной среде эти споры либо замалчиваются, либо излагаются крайне тенденциозно, что приводит к серьезным искажениям в понимании сотериологических вопросов.
Труды Августина Гиппонского, Проспера Аквитанского, Фульгенция Руспийского и других западных отцов открыли передо мной совершенно иную картину древнецерковного богословия. Эти авторы с исключительной ясностью и глубиной раскрывают учение о предопределении, о полной испорченности человеческой природы после грехопадения, о монергическом характере спасения. Их богословие не является "западным нововведением", но представляет собой последовательное развитие апостольского учения, засвидетельствованного в Священном Писании.
Соборные определения также свидетельствуют в пользу монергической сотериологии. Диоспольский собор 415 года, Карфагенские соборы 416 и 418 годов, Оранжский собор 529 года – все эти церковные ассамблеи недвусмысленно осуждали пелагианство и утверждали учение о благодати как единственной причине спасения. Оранжский собор особенно важен, поскольку его каноны были утверждены папой Бонифацием II и стали обязательными для всей церкви.
Переводы новых текстов Григория Великого, Льва Великого, Целестина I открыли дополнительные аспекты древнецерковной сотериологии. Эти папы, признаваемые святыми и в православной традиции, последовательно защищали августиновское понимание благодати против различных форм полупелагианства. Их послания и трактаты демонстрируют непрерывность антипелагианской традиции в западной церкви.
Я никогда не дерзал толковать Священное Писание по собственному разумению, но всегда искал опоры в авторитете церкви. Однако подлинный церковный авторитет следует искать не в поздних богословских построениях, а в учении древних отцов и соборных определениях первых веков. Православие, которое гордится своей исторической преемственностью, парадоксальным образом игнорирует фундаментальные богословские истины, явленные великими учителями древности.
Мой подход не имел ничего общего с протестантским принципом sola scriptura или с практикой частного толкования. Я следовал классическому патристическому методу, однако убедился, что никакого подлинного consensus patrum в вопросах сотериологии не существует. Более того, если отдельные высказывания отцов противоречат друг другу, следует обращаться не к разрозненным цитатам, но к фундаментальным трудам, посвященным конкретному богословскому вопросу. Здесь обнаруживается поразительный факт: на Востоке за две тысячи лет не создано ни одного систематического труда, посвященного соотношению свободы и благодати. Мнения восточных отцов по этому вопросу носят спорадический характер и не имеют богословской систематизации, не говоря уже об открытой полемике с великими учителями древности.
То, что открывалось в трудах древних писателей, производило на меня глубочайшее впечатление. Ясность богословской мысли, точность формулировок, глубина духовного прозрения – все это разительно контрастировало с расплывчатостью и противоречивостью современных православных авторов. Древние отцы не боялись говорить о предопределении, о полной зависимости спасения от Божественной воли, о неспособности падшего человека содействовать собственному спасению.
Осознав важность этого наследия для современной церкви, я основал "Фонд переводов христианского наследия", привлекший к работе патрологов, ученых-историков и профессиональных переводчиков. Интересно, что абсолютно все сотрудники фонда были формально православными, поэтому наша деятельность не могла рассматриваться как выход за пределы православной конфессии или как попытка "протестантизации" русского богословия.
За несколько лет работы фонда нами было переведено десятки произведений древней церкви, которые никогда ранее не были доступны русскоязычному читателю. Впервые в истории русской церкви антипелагианская полемика получила значительное освещение. Тексты Августина, Проспера, Фульгенция, соборные акты и папские послания стали доступны для изучения всем, кто искренне интересовался историей христианской доктрины.
Результат этой работы превзошел мои ожидания. Оказалось, что многие православные богословы и священнослужители, получив доступ к первоисточникам, начинали пересматривать свои взгляды на вопросы спасения и благодати. Знакомство с подлинной патристической традицией неизбежно приводило к переоценке современных православных позиций.
Поэтому мое богословие опирается не на поздние интерпретации или современные богословские построения, но полностью на учение древней церкви. Какими бы замечательными ни были комментарии протестантских авторов, я предпочитаю черпать истину из чистых источников – из трудов тех святых отцов, которые жили ближе к апостольским временам и не были обременены позднейшими богословскими спорами.
Этот путь оказался не только интеллектуально честным, но и духовно освобождающим. Возвращение к патристическим корням позволило обрести твердое основание для веры – не в человеческих традициях или конфессиональных особенностях, но в неизменном учении той церкви, которая действительно может называться древней и апостольской.
Для изложения сотериологии я избрал метод систематического анализа послания к Римлянам. Однако это решение не означает, что данная работа является комментарием к апостольской книге. Комментариев к Римлянам, превосходящих мои скромные возможности, написаны сотни. Моя задача заключалась в создании целостной картины спасения, а не в описании отдельных элементов богословской мозаики, которые непонятным образом должны складываться в единое полотно.
Поэтому я разделил книгу на несколько глав, следующих логическому построению учения о спасении – от его основания до завершения. Для меня было критически важным выстроить строгую последовательность и показать, что любое отклонение, особенно на начальных этапах, неизбежно приводит к искажению доктрины на более поздних стадиях развития. Богословская система подобна архитектурному сооружению: ошибка в фундаменте обрушивает всё здание.
В ходе исследования я пришёл к выводу, что православная сотериология является ложной абсолютно на всех этапах без исключения. Каждый элемент этой системы содержит фундаментальные заблуждения, которые искажают евангельскую истину. В итоге неоязычество, которое мы наблюдаем в современной православной церкви, представляет собой закономерный плод ложного богословия. Когда учение о спасении извращается, вся церковная жизнь неизбежно деградирует.
Главы книги построены по единой структуре, обеспечивающей методологическую последовательность. Сначала я предлагаю введение в рассматриваемую тему, определяя богословский контекст и ключевые понятия. Затем представляю своё понимание соответствующего текста послания к Римлянам, опираясь на экзегетический анализ оригинального греческого текста и учитывая исторический контекст апостольской эпохи.
Третий раздел каждой главы носит название "Свидетельство Писания". Здесь я привожу доказательства из различных книг Священного Писания по рассматриваемому вопросу, следуя принципу, что Писание толкует само себя. Этот подход, естественно, предполагает субъективные интерпретации, однако остается единственным способом экзегезы, подкрепленным авторитетом церкви. Библейский текст рассматривается как единое целое, где одни отрывки проясняют и дополняют другие.
Завершает каждую главу раздел "Свидетельства Церкви", содержащий обильные цитаты отцов, учителей церкви и древних христианских авторов. Эти свидетельства демонстрируют непрерывность апостольской традиции в понимании сотериологических вопросов. Особое внимание уделяется тем авторам, которые непосредственно участвовали в богословских спорах или создавали систематические труды по учению о спасении.
Такая структура позволяет читателю проследить развитие богословской мысли от библейского основания через систематическое изложение к историческому подтверждению. Каждый этап усиливает и дополняет предыдущий, создавая многоуровневую аргументацию. Читатель получает возможность самостоятельно оценить обоснованность представленных выводов, опираясь на три независимых источника авторитета.
Последовательное применение этой методологии к каждому аспекту учения о спасении создаёт цельную богословскую систему, где все элементы органично связаны между собой. Читатель видит не отдельные доктринальные фрагменты, но единое полотно божественного замысла о спасении человечества. Эта целостность представляет разительный контраст с фрагментарностью и противоречивостью современного православного богословия.
Таким образом, структура книги служит не только академическим, но и пастырским целям. Систематическое изложение позволяет верующему человеку получить ясное понимание своего положения перед Богом и характера божественной благодати. Богословская истина перестаёт быть абстрактной теорией и становится основанием для практической христианской жизни.
Православным читателям, основывающим свою веру на святых отцах, эта книга даст возможность убедиться, что великие отцы церкви высказывались категорически иначе, чем учат в большинстве современных храмов. Знакомство с первоисточниками покажет глубокую пропасть между подлинной патристической традицией и современным православным богословием. Многие искренние православные верующие обнаружат, что их убеждения о спасении имеют мало общего с учением тех святых, которым они благоговейно поклоняются.
Протестантским христианам, не имеющим корней в исторической церкви и желающим прикоснуться к церковной традиции, эта работа поможет убедиться, что их учение о спасении не родилось в XVI веке, в чём их часто обвиняют противники Реформации. Особенно полезна книга будет тем протестантам, которые всерьёз задумываются о переходе в православие, поскольку оно якобы обладает истинными апостольскими корнями. Я показываю, что никаких подлинных корней в современном православии не осталось – они были утрачены под наслоениями человеческих традиций и богословских заблуждений.
Однако главный адресат моей книги – это христианская душа, ищущая единения с Отцом, Сыном и Святым Духом вне конфессиональных границ и церковных корпораций. Душа, которая ищет покоя и мира, обещанных избранным от Бога, и устала от бесконечных богословских споров. Именно такие души найдут в моей книге не теологические прения, но потрясающую красоту совершенного Богом спасения и величие главного Виновника его – Господа нашего Иисуса Христа.
Эта книга не смогла бы появиться на свет без участия нескольких выдающихся христиан, которые в своей любви и преданности науке оказали мне неоценимую помощь в её создании.
Дмитрий Владимирович Смирнов, один из ведущих российских патрологов и специалистов по латинским отцам церкви, взял на себя кропотливый труд по сверке абсолютно всех цитат в книге, многие из которых перевёл самостоятельно с языков оригинала. Его тщательная проверка всех исторических и патрологических аспектов исследования обеспечила научную достоверность представленного материала. Глубина его познаний в области древнецерковной литературы и безупречная филологическая подготовка сделали возможным точное воспроизведение мысли древних авторов.
Василий Владимирович Чернов, религиовед и специалист по английскому богословию, бывший сотрудник Московской Патриархии, осуществил общую редакцию всего текста и помог мне глубже постичь идейные основания учения о предопределении. Его обширные знания в области сравнительного богословия и практический опыт церковной работы привнесли в исследование необходимую богословскую взвешенность и методологическую строгость.
Игумен Пётр (Мещеринов) оказал глубокое воздействие на моё духовное становление и в период написания книги предлагал проницательные вопросы, ставя некоторые мои выводы под благотворное сомнение. Создавая атмосферу конструктивного богословского оппонирования, он побуждал меня к ещё более глубокому погружению в исследуемую проблематику. Один из наших богословских диспутов я задокументировал и изложил в главе "Новое рождение", что позволяет читателю проследить живой процесс формирования богословской позиции.
Разумеется, это совершенно не означает, что все перечисленные лица разделяют мои взгляды, особенно острую критику современного православия. Каждый из них сохраняет полную свободу собственных богословских убеждений. Однако каждый внёс огромный вклад в создание этой книги, являясь выдающимся специалистом в своей области. Для меня большая честь и одновременно огромная ответственность иметь поддержку таких знаменитых учёных и духовных наставников.
Их участие в работе над книгой свидетельствует о том, что поиск богословской истины объединяет христиан поверх конфессиональных различий. Научная честность и стремление к точности в передаче святоотеческого учения оказались сильнее доктринальных расхождений, что даёт надежду на возможность подлинного богословского диалога в будущем.
Итак, о чем эта книга? О великом и неизреченном Боге, о преславном Сыне Его и Животворящем Духе, о Пресвятой Троице, которая по безмерной и непостижимой милости творит из мертвых живых, из отчужденных – сыновей, из врагов – наследников вечной славы. О том Господе вселенной, Который извечно избирает, предопределяет и призывает, освящает и прославляет избранных Своих не по заслугам их, не по предвидению добрых дел, но единственно по благоволению воли Своей. О той неизмеримой пропасти между святостью Творца и растлением твари, которую не может преодолеть никакое человеческое усилие, никакая религиозная активность, никакое мистическое восхождение.
Эта книга повествует о том, что никто не спасается, не держится в вере, не продвигается по пути святости своими усилиями – что все, от первого робкого движения покаяния до последнего победоносного вздоха верности, есть незаслуженный дар великого Бога. Здесь раскрывается головокружительная истина монергизма: не синергия Бога и человека, не сотрудничество небесного и земного, но единодержавное действие Божественной благодати, которая воскрешает духовно мертвых, отверзает слепые очи, размягчает каменные сердца. Человек в деле спасения подобен Лазарю в гробнице – он не содействует своему воскресению, но лишь получает жизнь от животворящего гласа Сына Божия.
В этих страницах открывается невероятная красота и величие евангельской истины о спасении через Иисуса Христа – не в сухом юридизме оправдания, но в онтологической реальности второго рождения и богочеловечества избранных и спасённых. Здесь раскрывается тайна нового творения, нового существа, рождённого не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Крест становится не юридической сделкой, но животворящим древом, от которого произрастает новая природа, новое бытие, новая онтологическая реальность богосыновства.
Среди бурных волн сомнений и искушений, которые постоянно обрушиваются на душу, стремящуюся к небесным высотам, сияет немеркнущий маяк уверенности в спасении – той блаженной убеждённости, которая покоится не на зыбкой почве человеческих дел, но на незыблемом основании предвечного избрания. Подобно якорю, проникающему за завесу святилища, эта уверенность удерживает корабль веры даже в самую лютую бурю духовных испытаний. Не "надеюсь, что спасусь", но "знаю, Кому уверовал" – таков торжественный гимн души, познавшей глубины благодати. В этом заключена целительная сила монергизма: он освобождает измученное сердце от бесконечного самоанализа и даёт ему покой в совершенном деле Спасителя, который "может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу".
Пусть же эти истины, подобно утренним лучам, рассеют туман человеческих построений и озарят ясным светом путь к вечной жизни. Пусть они освободят измученные души от бремени религиозного перфекционизма и даруют им покой в совершенном деле Спасителя. Ибо все – из Него, и через Него, и к Нему. Ему же слава, честь и поклонение во веки веков.
Аминь.
Глава
I
. Грех
Введение
Рим 5. 12:21 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление – к осуждению; а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим».
В исследовании учения о спасении я начинаю не с 1-й главы Послания к Римлянам. Вместо этого я обращаюсь к фундаментальному вопросу о природе греха, ибо без ясного понимания глубины падения невозможно постичь высоту спасения.
Подобно архитектору, который прежде возведения здания исследует свойства почвы, мы должны тщательно рассмотреть состояние человеческой природы после грехопадения. Только установив истинный диагноз болезни, можно оценить необходимость и природу лекарства. В этом смысле учение о грехе становится краеугольным камнем всего здания сотериологии.
Это тем более важно, что именно в понимании греха пролегает водораздел между евангельским благовестием и различными формами религиозного самосовершенствования. Ошибка в этом исходном пункте неизбежно искажает всю перспективу спасения. Если грех понимается лишь как болезнь или повреждение природы, то спасение неизбежно превращается в процесс исцеления человеческими усилиями при содействии благодати.
Первородный грех является фундаментальным основанием всего христианского богословия спасения. Без правильного понимания глубины и природы человеческого падения невозможно постичь ни необходимость Креста, ни сущность искупления, ни природу оправдания.
Апостол Павел в Послании к Римлянам раскрывает эту истину в строгой логической последовательности. В первых главах он показывает универсальность греха через его очевидные проявления: нечестие язычников (гл. 1), лицемерие морализма (гл. 2), несостоятельность законнической праведности (гл. 3). Однако в 5-й главе он восходит к самому корню проблемы – к первородному греху, откуда проистекают все эти проявления.
Почему же мы начинаем именно с этой главы? Потому что здесь апостол раскрывает не следствия, а причину греховности. Способность язычников к естественному богопознанию, возможность творить добро по природе, существование ветхозаветных праведников – все эти важные темы первых глав могут быть правильно поняты только в свете учения о первородном грехе. Представление о вмененной вине Адама объясняет, почему, несмотря на сохранение после грехопадения остатков образа Божия в человеке, даже самые благородные проявления падшей природы не могут освободить нас от осуждения и почему для спасения необходима заместительная жертва Христа.
Таким образом, учение о первородном грехе является не просто одной из многих тем Послания к Римлянам, но тем богословским основанием, на котором строится все здание апостольского благовестия о спасении.
Поэтому мы начинаем с тщательного исследования библейского учения о грехе, о полной поврежденности человеческой природы, о реальности вмененной вины Адама. Только в свете этих истин раскрывается подлинный смысл оправдания верой, значение Крестной Жертвы и природа спасающей благодати.
Апостол указывает на глубочайшую связь между преступлением Адама и состоянием всего человечества. Не просто последствия, но сама вина первого человека пронизывает всю историю человеческого рода. Как в семени дерева уже содержится его будущая природа, так в грехе Адама заключено падение всего человечества.
Священное Писание открывает нам, что смерть царствовала и над теми, кто не согрешил подобно преступлению Адама. Это свидетельствует о том, что первородный грех – не просто наследуемое повреждение природы, но нечто более глубокое и страшное – реальная вина, реальное участие всего человечества в преступлении прародителя.
Понимание первородного греха как простого повреждения природы, выражающегося лишь в склонности к греху, неизбежно ведет к умалению значения Крестной Жертвы. Если человек сохраняет способность не грешить и может своими силами исполнять заповеди, то зачем нужна была страшная смерть Сына Божия?
Апостол выстраивает величественную параллель между Адамом и Христом. Как через одного человека грех и смерть вошли в мир, так через Одного приходит оправдание и жизнь. Эта параллель теряет свою силу, если отрицать реальность вмененной вины Адама. Ибо если мы не можем быть действительно виновны в грехе Адама, то как можем быть действительно праведны праведностью Христа?
Закон пришел после и сделал грех явным, но не мог дать праведность. Его цель – показать глубину греховности и привести ко Христу.
Только познание полной греховности человека, его абсолютной неспособности к самоспасению открывает путь к принятию спасительной благодати. Но само это познание – уже действие благодати, первый ее дар падшему человеку. Благодать сначала открывает грешнику глубину его вины и растления, а затем дарует оправдание и примирение – воистину «благодать на благодать» (Ин. 1:16).
Как говорит Апостол, «когда умножился грех, стала преизобиловать благодать». В этом – величайший парадокс христианства: Дух Святой сначала являет человеку всю бездну его падения, чтобы затем возвести его на высоту усыновления. Первая благодать открывает неоплатный долг, вторая его прощает; первая показывает смертельную болезнь, вторая дарует исцеление; первая обличает в греховности, вторая облекает в праведность Христову.
Так двойным действием благодати совершается спасение: сперва – познание греха, затем – познание оправдания. И никакими человеческими усилиями невозможно достичь ни первого, ни второго.
Учение о первородном грехе как о реальной вине является не просто теоретической доктриной, но краеугольным камнем спасения. Оно исключает всякую человеческую похвалу и ведет к полной зависимости от благодати Божией, что и есть истинная свобода во Христе.
Апостол Павел в Послании к Римлянам развивает стройную богословскую систему, где учение о первородном грехе неразрывно связано с учением об оправдании во Христе. Его аргументация строится на нескольких ключевых принципах:
Вина Адама
Рим. 5:12 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
В толковании знаменитого места из Послания к Римлянам мы сталкиваемся с серьезной экзегетической проблемой. Греческое выражение «ἐφ' ᾧ» допускает различные прочтения, что отразилось и в истории толкования этого текста. Оно может быть понято либо как причинный союз («потому что»), либо как относительное местоимение («в котором/в нем»), причем во втором случае возможны разные варианты соотнесения с предыдущими существительными мужского рода.
Синодальный перевод, пытаясь совместить разные интерпретации, создает искусственную конструкцию «потому что в нем», которая грамматически некорректна, так как объединяет два взаимоисключающих прочтения. Важно признать, что данный текст не является однозначным с лингвистической точки зрения, и его понимание во многом определяется более широким богословским контекстом.
Однако сама множественность возможных прочтений не отменяет главной богословской истины о всеобщности греха и вины, которая подтверждается как общим контекстом Послания к Римлянам, так и всем свидетельством Священного Писания. Более того, последующее развитие мысли апостола Павла в этой главе (особенно стихи 15–19) не оставляет сомнений в том, что он говорит о реальной вине всех людей в Адаме, независимо от того, как именно мы переведем спорное выражение в стихе 12.
Здесь Павел утверждает не просто наследование последствий греха, а реальное участие всего человечества в грехе Адама.
Универсальность осуждения
Рим. 5:18 «Преступлением одного всем человекам осуждение».
Это осуждение не зависит от личных грехов – даже те, кто «не согрешил подобно преступлению Адама», находятся под этим осуждением, что доказывается универсальностью смерти.
Параллель Адам-Христос
Как через одного пришло осуждение, так через одного приходит оправдание.
Как непослушанием одного многие стали грешными, так послушанием одного многие становятся праведными.
Как грех царствовал к смерти, так благодать царствует через праведность к жизни.
Механизм спасения
Вина Адама реально вменяется всем его потомкам.
Праведность Христа реально вменяется верующим.
Это вменение не зависит от личных заслуг или дел.
Оно осуществляется через веру.
Роль закона
Закон пришел после и сделал грех явным.
Он не может дать праведность.
Его цель – показать глубину греховности и привести ко Христу.
Уверенность в спасении
Основана не на делах, а на совершенном деле Христа.
Покоится на вмененной праведности.
Дает реальную свободу от осуждения.
Практические следствия
Полная зависимость от благодати.
Исключение всякой человеческой похвалы.
Радость спасения.
Благодарность, ведущая к святости.
Вмененная праведность
Спасение полностью является делом Бога.
Человек не может внести никакого вклада в свое оправдание.
Единственный путь – принятие вмененной праведности Христа через веру.
В этом контексте попытки отрицать реальность вмененной вины Адама неизбежно ведут к разрушению всей системы спасения. Если мы не можем быть виновны в грехе Адама, то мы не можем быть и праведны праведностью Христа.
Наследие вины Адама
В глубинах Божественного откровения мы встречаемся с тайной, превосходящей границы человеческого разумения. Как бескрайний океан не вмещается в малый сосуд, так и величественный замысел Творца не может быть полностью постигнут ограниченным человеческим разумом. И здесь, у порога величайшей тайны спасения, мы должны прежде всего склонить голову в благоговейном смирении.
Человеческая справедливость, подобно тусклому светильнику, освещает лишь малый круг видимой реальности. Но Божественная правда, словно солнце, озаряет всё мироздание, проникая в самые потаенные глубины бытия. Наш разум, воспитанный на принципах индивидуальной ответственности, содрогается перед мыслью о вмененной вине. Как может быть справедливым, чтобы все несли ответственность за грех одного? Но этот вопрос обнаруживает не ограниченность Божественной справедливости, а узость нашего понимания.
В таинственной глубине творения человечество предстает не как механическое собрание отдельных личностей, но как единый организм, в котором все связаны невидимыми, но реальными узами. Подобно тому как в едином теле страдание одного органа отзывается болью во всём организме, так и грех прародителя поразил всё человечество. Это не внешнее вменение чужой вины, но раскрытие глубинного единства человеческой природы.
Апостол Павел рисует перед нами поистине ошеломляющую картину спасения – грандиозную и потрясающую в своей безмерной красоте, наполненную сиянием Божьей благодати, которая, с одной стороны, вызывает восхищение, а с другой – трепет и ужас, от осознания силы и славы нашего великого Бога. Это не просто картинка, а целый космос, в котором Божья милость проникает в каждую деталь, преобразуя и облагораживая всё сущее. Как в совершенном архитектурном творении красота целого раскрывается через гармонию частей, так и в Божественном замысле спасения каждый элемент находится в нерасторжимой связи со всеми другими. Вмененная вина Адама – не случайная деталь, но краеугольный камень, на котором зиждется всё здание сотериологии.
В этом учении открывается поразительная симметрия Божественного замысла. Как вина одного стала виной всех, так и праведность Одного становится праведностью многих. Эта таинственная солидарность человечества в грехе находит свое высшее разрешение в еще более таинственной солидарности во Христе. Здесь человеческая логика должна умолкнуть перед величием Божественной премудрости.
Но принятие этой тайны требует от нас не слепой веры, а глубокого и последовательного исследования. Подобно тому, как драгоценный камень раскрывает свою красоту лишь при внимательном рассмотрении всех граней, так и учение о первородном грехе открывает свою глубину лишь при тщательном изучении всех аспектов откровения.
Смысл Павловой симметрии заключается не в полном тождестве всех аспектов преступления Адама и искупительного подвига Христа, а в двух ключевых принципах:
Первый – это влияние единичного акта одной личности на судьбу многих. Как одно преступление Адама определило положение всего человечества, так одно послушание Христа открывает путь спасения.
Второй – это принцип солидарной причастности к действию, которого мы лично не совершали. И здесь открывается решающий момент: те, кто отвергает возможность быть виновным в грехе Адама на том основании, что они лично не участвовали в его преступлении, должны по той же логике отвергнуть и возможность быть праведным праведностью Христа, ибо они не участвовали в Его искупительном подвиге.
Логика здесь неумолима: если мы не можем быть виновны в Адаме, потому что не совершали его греха, то мы не можем быть и праведны во Христе, потому что не совершали Его праведности. Отрицание солидарности в грехе неизбежно ведет к отрицанию солидарности в спасении. А это уже разрушает самую сущность евангельского благовестия, где праведность даруется нам не за наши дела, а через причастность к праведности Другого.
В свете этого учения по-новому раскрывается вся история человечества. Каждое проявление греха, каждое движение к добру, каждый поиск истины обретает свое место в величественной картине Божественного домостроительства. История предстает не как хаотическое нагромождение событий, а как целенаправленное движение к предвечно определенной цели.
В этом сокрыта премудрость Божественного домостроительства: падение Адамово стало не только причиной всеобщего повреждения, но и основанием явления миру славы Творца через жертву Его Сына. Здесь действует не человеческая логика личной ответственности, но таинственный закон духовного единства человеческого рода. Вина первого Адама, вменяемая всему человечеству, становится тем пространством, где действует спасительная благодать последнего Адама – Христа. В этом открывается не парадокс, но глубочайший принцип Божественной мудрости, где само пространство падения преображается в поле действия искупительной любви.
И если наш разум смущается перед тайной вмененной вины, то не следует ли нам усмотреть в этом смущении признак того, что мы приблизились к одной из величайших тайн бытия? Не должны ли мы в благоговейном трепете склониться перед премудростью Того, Чьи пути превыше наших путей и Чьи мысли превыше наших мыслей?
В итоге учение о вмененной вине Адама раскрывает часть величественного замысла спасения, где каждый элемент, даже кажущийся нам непостижимым, служит высшей цели – явлению преизобильной благодати Божией. И в этом свете даже самые трудные для понимания истины веры начинают сиять немеркнущим светом Божественной любви.
В данном исследовании я намеренно оставляю за рамками рассмотрения сложный вопрос о соотношении слов «все» и «многие» в учении апостола Павла. Хотя сторонники универсализма часто используют эти термины для обоснования теории всеобщего спасения, я не могу и не хочу входить в рассмотрение всех возможных интерпретаций этого текста.
Необходимо отметить, что в истории церкви никогда не было общепринятого систематического учения о всеобщем спасении. Идея абсолютной симметрии – что как в Адаме осуждены все, так и во Христе непременно спасутся все без исключения, независимо от веры во Христа в рамках земной жизни – хотя и привлекала некоторых церковных учителей, но никогда не становилась частью церковного догмата.
Учение о всеобщем спасении имеет разные предпосылки. Например, можно встретить такое мнение: все спасаются по вере, просто традиционная позиция почему-то ограничивает возможность человека веровать только земной жизнью, а универсалистская позиция считает, что человек может обрести спасительную веру всегда – и до смерти, и после смерти, и даже находясь в аду.
Но я не хочу вдаваться в обсуждения таких взглядов. Это не является предметом исследования моей книги.
При этом нельзя не признать, что надежда на возможность просвещения и спасения после смерти тех, кто не познал Христа в земной жизни, находит отклик в любом сострадающем сердце. Для многих из нас, чьи родные и близкие окончили жизнь вне явной веры во Христа, эта надежда имеет особое значение. Однако мы должны честно признать, что Священное Писание не дает нам однозначных оснований для такого учения, оставляя судьбы таких людей в руках Божиих.
Универсальность осуждения
Апостол Павел в своем послании являет неопровержимое доказательство всеобщности вины – универсальность смерти. Как тень следует за предметом, смерть неотступно следует за каждым человеком, не спрашивая о его личных грехах или праведности.
Смерть царствовала от Адама до Моисея и над теми, кто не согрешил подобно преступлению Адама. Даже те, кто не совершил личного преступления заповеди, подобного греху прародителя, оказываются под властью смерти. Младенцы, не успевшие совершить ни добра, ни зла, равно подвержены этому приговору.
Сам факт всеобщности смертного приговора указывает на реальность вмененной вины. Если бы осуждение зависело только от личных грехов, то как объяснить смерть тех, кто не имел возможности согрешить? Правосудие Божие не может быть несправедливым – если все подвержены смерти, значит все действительно согрешили в Адаме.
Как бы мы ни пытались объяснить механизм передачи греха Адамова – через реальное участие в его преступлении, через наследственную передачу вины или иным образом – неоспоримым остается факт: все человечество находится под Божественным проклятием. А проклятие – это не слепая природная сила и не простое повреждение естества, но проявление святой Божией правды.
Сама природа Божия не позволяет допустить, чтобы Его суд был несправедливым. Если Бог, Который есть абсолютная святость и правда, подвергает всех людей смертному приговору, значит все действительно виновны. Божественное проклятие не может быть произвольным – оно всегда есть ответ на реальную вину.
Это фундаментальное понимание, что смерть есть не просто природное явление, а именно приговор Божественного правосудия, было всегда очевидно для церковного сознания. Ибо если смерть – наказание от святого и праведного Бога, то она может постигать только виновных. А поскольку смерть царствует над всеми без исключения, включая младенцев, то все должны быть действительно виновны пред Богом, хотя тайна этой вины и превышает наше разумение.
В этом связь между грехом и смертью. Они входят в мир вместе, как два неразлучных спутника. Где появляется одно, там неизбежно присутствует и другое. Смерть становится видимым знаком невидимой реальности греха, печатью осуждения на всем человеческом роде.
Но это осуждение – не просто юридический акт внешнего вменения. Оно отражает глубинную реальность человеческой природы, где все связаны друг с другом узами не только физического, но и духовного родства. В грехе Адама пало все человечество, и смерть каждого становится свидетельством этого падения.
Закон пришел после и сделал грех явным, но смерть царствовала и до закона. Это указывает на то, что причина смерти лежит глубже личных преступлений закона – в самом корне человеческого бытия, пораженном грехом прародителя. Каждая могила становится безмолвным, но красноречивым свидетелем этой истины.
Богословие Павла не оставляет места для поверхностного оптимизма относительно человеческой природы. Реальность смерти свидетельствует о глубине падения. Но именно в этой беспощадной диагностике человеческого состояния открывается путь к истинному исцелению – не через самосовершенствование, а через принятие спасительной благодати во Христе.
Само осуждение, запечатленное во всеобщности смерти, парадоксальным образом становится основанием надежды. По той же логике, по которой все причастны греху Адама, для людей открыта возможность стать причастными праведности Христа.
В этом свете даже смерть предстает не только как знак осуждения, но и как указание на путь спасения.
Коллективное наказание в Ветхом Завете
Попробуем посмотреть на эту проблему глазами первых читателей Послания к Римлянам. Большинство из которых были иудеи и прозелиты.
В то время как иудейская традиция не принимает учение о наследственной передаче вины Адама его потомкам, в ней глубоко укоренено понимание коллективной вины и солидарной ответственности. Именно это библейское понимание коллективной вины становится тем основанием, на котором апостол Павел строит свое учение о вмененной вине Адама. Он не вводит чуждый Писанию принцип, но раскрывает вселенский масштаб той истины, которая уже была явлена в истории Израиля: как грех одного может навлечь осуждение на многих, так и праведность Единого может даровать оправдание всем верующим.
В исследовании вопроса о первородном грехе и коллективной вине в иудейской традиции необходимо начать с анализа ветхозаветных оснований данной концепции, поскольку именно они формировали базовое понимание взаимосвязи между индивидуальной и коллективной ответственностью в иудейском богословии.
Ветхий Завет представляет несколько ключевых концепций, которые впоследствии стали основанием для развития учения о коллективной вине. Первой и наиболее фундаментальной является идея «корпоративной личности», согласно которой индивид не мыслится в полной изоляции от своего рода или народа. Эта концепция наиболее ярко проявляется в формулировке второй заповеди: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Исх. 20:5). Данный текст не просто устанавливает принцип наследственного наказания, но раскрывает глубинную взаимосвязь между поколениями в контексте завета.
Особое значение для понимания концепции коллективной вины имеет история Ахана (Нав. 7 гл.), где грех одного человека навлекает наказание на весь народ. Этот эпизод демонстрирует не просто механическое распространение наказания, но глубинную духовную солидарность народа завета. Примечательно, что в тексте используется единственное число при описании греха Израиля, хотя фактически согрешил один человек: «Израиль согрешил» (Нав. 7:11). Это указывает на органическое единство народа в контексте завета.
Развитие этой идеи находим во Второзаконии, где завет распространяется не только на присутствующих, но и на будущие поколения: «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня» (Втор. 29:14–15). Этот текст устанавливает принцип заветной солидарности, которая преодолевает временные границы и создает единство между поколениями.
Плач Иеремии содержит показательное признание: «Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их» (Плач 5:7). Здесь прямо утверждается переход наказания от одного поколения к другому, что полностью соответствует учению Павла о проклятии всего человечества в Адаме.
Книга пророка Даниила представляет пример коллективного покаяния, где праведник отождествляет себя с грехами своего народа: «Согрешили мы и отцы наши» (Дан. 9:8). Это не риторическая фигура, но выражение реального единства в грехе и ответственности.
Народ Израиля понимал себя как единое целое не только в избрании, но и в грехе. Каждое новое поколение осознавало свою причастность к вине предыдущих поколений, что создавало почву для восприятия учения о вмененной вине Адама.
Эта библейская перспектива радикально отличается от современного индивидуализма и находит свое полное раскрытие в богословии апостола Павла, где личная ответственность не противоречит всеобщей причастности к вине праотца.
Восклицание иудеев перед Пилатом: «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:25), является ярчайшим примером понимания коллективной вины в иудейской традиции. Это не просто эмоциональное выражение, но сознательное принятие ответственности, распространяющейся на будущие поколения.
В этом возгласе толпы отражается глубоко укорененное в ветхозаветном сознании представление о том, что вина за пролитую кровь может лежать не только на непосредственных исполнителях, но и на их потомках. Подобно тому, как кровь Авеля «вопиет от земли» (Быт. 4:10), требуя отмщения, так и кровь невинного становится наследственным бременем для тех, кто принимает на себя ответственность за его смерть.
Конец коллективной вины для определенной группы людей – Церкви – уже относится к Новому Завету между человеком и Богом: «В те дни уже не будут говорить: “отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина”» (Иер. 31:29–30). Это пророчество не просто отменяет принцип коллективной ответственности – оно указывает на грядущее преображение всей системы отношений между Богом и человеком, где коллективная вина Адамова будет упразднена через личную веру во Христа. Однако, вне Церкви этот принцип «в Адаме», то есть эта наследуемая вина, – остается.
Яркий пример коллективной вины из Второй книги Царств:
Сначала описывается сам грех Давида – проведение переписи вопреки воле Божией: «И подвиглось сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так» (2 Цар. 24:10).
Затем Господь через пророка Гада предлагает Давиду выбрать одно из трех наказаний: «Так говорит Господь: избирай себе: или семь лет голода в земле твоей, или три месяца будешь ты убегать от неприятелей твоих… или три дня моровой язвы в земле твоей» (2 Цар. 24:13).
Хотя согрешил лично Давид, наказание распространяется на весь народ: «И послал Господь язву на Израильтян от утра до назначенного времени; и умерло из народа, от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч человек» (2 Цар. 24:15).
Особенно показательны слова Давида, выражающие его недоумение по поводу коллективного наказания за личный грех: «И сказал Давид Господу, когда увидел Ангела, поражавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я поступил беззаконно; а эти овцы, что сделали они? да будет же рука Твоя на мне» (2 Цар. 24:17).
Этот текст ярко демонстрирует принцип коллективной ответственности в Ветхом Завете: грех царя навлекает наказание на весь народ, хотя сам народ непосредственно не участвовал в грехе.
В книге Чисел встречается страшный пример коллективного наказания за мятеж против Моисея:
Сначала описывается сам бунт: «Корей… и Дафан и Авирон… восстали на Моисея… и собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди них Господь!» (Числ. 16:1–3).
Моисей предупреждает весь народ о грядущем суде: «И сказал Моисей: отступите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их» (Числ. 16:26).
Наказание постигает не только самих мятежников, но и их семьи: «Расселась земля под ними; и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество… И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю» (Числ. 16:31–33).
Особенно важно отметить, что гибнут даже дети: «Сыновей же и малых детей их, и жен их» (Числ. 16:27).
Это один из самых ярких примеров коллективной ответственности в Ветхом Завете, где наказание распространяется не только на самих преступников, но и на их семьи, включая невинных детей.
Можно привести еще примеры:
Грех Саула против Гаваонитян (2 Цар. 21 гл.) – голод в земле Израильской за преступление, совершенное в прошлом поколении.
История с медными змеями (Числ. 21 гл.) – весь народ страдает за ропот некоторых.
Гибель первенцев египетских (Исх. 12 гл.) – дети наказаны за упорство фараона.
Как Новый Завет раскрывает сокровенный смысл ветхозаветных установлений, так и апостол Павел, просвещенный откровением о Христе, прозревает глубинное значение принципа коллективной вины. То, что прежде казалось лишь устрашающим проявлением Божественного правосудия – наказание детей за грехи отцов, гибель семей за преступление одного, страдание народа за грех царя – теперь открывается как прообраз величайшей тайны спасения. В этих ветхозаветных примерах коллективной ответственности закладывался богословский фундамент для принятия как всеобщности вины Адамовой, так и универсальности (все верующие или каждый верующий) искупления во Христе. Как грех одного навлекал проклятие на многих, так теперь праведность Единого дарует оправдание всем верующим, являя в этой таинственной симметрии премудрость Божественного домостроительства.
Полная испорченность в Адаме
В основании всего здания христианской сотериологии лежит учение о полной поврежденности человеческого естества через грех Адама. Как врач не может приступить к лечению, не поставив точный диагноз, так и понимание пути спасения невозможно без ясного осознания глубины человеческого падения.
Священное Писание с беспощадной ясностью свидетельствует о тотальном характере грехопадения, где повреждены не только отдельные способности души, но сама ее природа оказалась извращена в своих глубочайших основаниях. Это не просто нравственная испорченность, поддающаяся исправлению, но онтологическая катастрофа, требующая нового творения.
Трагедия современного христианства, особенно ярко проявившаяся в православном богословии, заключается в систематическом искажении этой фундаментальной истины. Учение о частичном повреждении природы, где человек сохраняет способность к духовному самоопределению, есть не что иное, как древняя пелагианская ересь, осужденная церковными соборами. В этом искажении коренится подмена евангельской вести делами закона, благодати – человеческими усилиями, спасения – религиозным самосовершенствованием.
Только признание полной поврежденности открывает путь к подлинному пониманию спасения как чистого дара благодати. Когда рушится всякая надежда на человеческие силы, тогда воссиявает во всей славе Евангелие благодати, где спасение предстает не как награда достойным, но как воскрешение мертвых, как новое творение из ничего.
В свете этой истины по-новому раскрывается смысл церковной истории, где борьба за чистоту евангельского учения неизменно оказывалась борьбой против человеческих притязаний на участие в деле спасения. От Августина до Реформации эта линия противостояния остается неизменной: либо спасение есть дело исключительно Божественной благодати, либо оно превращается в систему религиозных достижений, где Христос оказывается лишь помощником в человеческом самосовершенствовании.
Свидетельство Писания
Тотальная испорченность
Мих 7:2–3 «Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело».
Пророческое слово обнажает всеобщий нравственный распад общества, где тление проникает во все слои – от простолюдина до властителя. Не единичные проявления греха описывает пророк, но системное растление самих основ человеческого общежития, где корыстолюбие и насилие стали нормой существования, а милосердие и правда исчезли, словно последние огни перед наступлением кромешной тьмы.
Мк. 7:21–23 «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека».
Из уст Спасителя исходит обжигающая истина, обнажающая бездну растления в сердце падшего человека. Не внешние обстоятельства являются источником зла, но само сердце человеческое превратилось в неиссякаемый источник всяческой скверны. Господь указывает на всеобъемлющий характер повреждения – от греховных помыслов до преступных деяний.
Иер. 17:9 «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?»
Пророческое откровение возвещает не только о греховности человека, но проникает в самые глубины его падшего сердца, являя бездну повреждения. Сама способность к самопознанию оказывается пораженной грехом – человек не может познать глубину собственной испорченности, ибо само орудие познания искажено грехом.
Еккл. 9:3 «Притом во всем сердце сынов человеческих полно зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим».
Мудрейший из людей, исследовав все пути человеческие, приходит к беспощадному выводу о всеобщности зла, которое наполняет сердца людей, делая тщетными все их усилия и устремления.
Еф. 4:17–18 «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их.»
Апостол указывает на фундаментальное отчуждение человека от жизни Божией – не просто нравственное несовершенство, но онтологический разрыв, где помрачение разума и ожесточение сердца образуют замкнутый круг духовной смерти. Суетность ума – не случайное состояние, но неизбежное следствие богоотчужденности.
Быт. 6:5 и 8:21 «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время… ибо помышление сердца человеческого – зло от юности его».
В этом древнем свидетельстве не только всеобщность греха, но и его непрерывность во времени – «во всякое время». Божественный приговор охватывает все движения человеческого сердца, все его помышления, не оставляя места для островков природной праведности. Даже после очищающего потопа Господь подтверждает этот диагноз: зло укоренено в самом естестве человека «от юности его».
2 Пет. 2:19 «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб».
В этой краткой формуле заключен весь трагизм человеческого положения: побежденный грехом человек становится его рабом. Не внешнее принуждение, но внутреннее подчинение греху определяет состояние падшего естества, где сама воля оказывается плененной и порабощенной.
Тит. 3:3 «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга».
Апостольское слово начертывает скорбный лик человечества, где слепота разума и жестоковыйность сердца сковывают душу двойными узами духовного плена. Каждое звено этой цепи – новая грань всеобъемлющего повреждения: от помрачения разума до извращения воли, от порабощения страстям до разрушения самих основ человеческого общения.
2 Тим. 2:25–26 «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю».
Текст открывает метафизическую глубину человеческого падения: противление истине оказывается не просто заблуждением разума, но пленением воли. Само познание истины становится невозможным без особого действия благодати, дарующей покаяние.
Рим. 7:18 «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.»
Апостольская исповедь запечатлевает скорбную истину о трагическом бессилии падшего естества. Даже возрожденный благодатью человек обнаруживает в себе фундаментальное противоречие: устремленность к добру при полной неспособности его осуществить. Само добро оказывается для человека чем-то внеположным, не укорененным в его природе.
Иер. 13:23 «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?»
Как невозможно волевым усилием изменить свою природную данность, так невозможно преодолеть власть греха собственными силами. Привычка ко злу становится второй природой, более неизменной, чем первая.
Мф. 7:18 «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые».
В этой притче Господь указывает на онтологический закон духовной жизни: качество плода всегда соответствует природе древа. Падшее естество не может породить истинного добра, как ядовитое растение не может принести целебных плодов. Здесь указывается на необходимость радикального преображения самой природы человека.
Рим. 8:7 «Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут».
Апостольское слово начертывает непримиримую брань между плотским мудрованием и святым законом Божиим, где всякое движение падшего ума восстает против небесной правды. Не просто неспособность к исполнению, но принципиальная враждебность характеризует отношение падшего естества к Божественной воле. Само «не могут» звучит как приговор всякой попытке достичь праведности человеческими усилиями.
Ис. 64:6 «Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас».
Пророческое слово беспощадно обнажает ничтожество человеческой праведности. Даже лучшие проявления падшего естества несут на себе печать нечистоты. В этом образе оскверненной одежды раскрывается не просто моральное несовершенство, но онтологическая порча самой человеческой природы, где всякая попытка самооправдания лишь подчеркивает глубину падения.
Ис. 64:7 «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших».
В этом пророческом слове звучит окончательный приговор человеческой автономии: даже само желание искать Бога оказывается парализованным грехом. Сокрытие Божественного лица предстает не как произвольный акт, но как неизбежное следствие человеческого противления, где само беззаконие становится орудием саморазрушения.
Может ли человек сам прийти к вере
Ин. 3:27 «Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба».
Перед нами предельно ясное свидетельство о полной зависимости человека от небесного дара. В этих словах Предтечи звучит не просто указание на ограниченность человеческих возможностей, но утверждение фундаментального принципа духовной жизни: всякое благо, всякая способность к его принятию имеет своим источником не человеческую природу, но небесный дар.
Ин. 14:16–17 «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его».
Из глубины откровения звучит приговор Спасителя падшему миру: слепые очи плотского естества не могут созерцать сияния Духа истины, ибо сама природа их чужда небесному свету. Не нежелание, но именно невозможность характеризует отношение мира к Божественному дару. Само неведение и слепота предстают не как случайные состояния, но как сущностные характеристики мирского бытия.
Ин. 1:12–13 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».
В прологе Евангелия Иоанна с предельной ясностью утверждается Божественное происхождение самой веры. Тройное отрицание («ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа») исключает всякую возможность человеческого участия в инициации духовного рождения. Само принятие Христа оказывается следствием, а не причиной Божественного действия.
Ин. 6:44,65 «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня… Для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего».
Речь Спасителя разворачивает перед нами двойное утверждение абсолютной суверенности Божественного избрания. Сама способность приближения к Христу оказывается даром свыше, где человеческая воля не предшествует Божественному действию, но следует за ним. Это привлечение не есть внешнее принуждение, но таинственное действие благодати, преображающей само существо человеческого хотения.
Рим. 9:16 «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего».
Апостольское слово полагает предел всякому человеческому активизму в деле спасения. Ни сила желания, ни напряжение подвига не определяют судьбу человека – всё зависит от суверенного действия Божественного милосердия. Само спасение предстает не как награда за усердие, но как чистый дар благодати.
Рим. 11:35–36 «Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему».
Торжественный глас апостольского славословия являет несомненное первенство Божественного действия. Никакой человеческий дар не может предварять Божественную милость – само бытие твари, включая ее способность к добру, имеет своим источником, путем и целью только Бога.
1 Кор. 1:30 «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением».
Из глубины апостольского исповедания восходит непреложная истина: в таинстве спасения всё начинается, движется и свершается по единому изволению Божию. Само пребывание во Христе не есть плод человеческого решения или достижения, но дар свыше. Четверичное определение Христа (премудрость, праведность, освящение, искупление) подчеркивает всеобъемлющий характер спасительного действия, где человеку не остается места для какой-либо заслуги.
Флп. 2:13 «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению».
Тайна Божественного действия являет неизреченную глубину: Господь производит не только само действие, но и предваряющее его хотение. Благодать проникает в самые истоки человеческой воли, не нарушая ее свободы, но восстанавливая ее подлинную природу. Даже само желание спасения оказывается плодом благодатного воздействия.
Еф. 2:8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар».
Благовестие апостольское, подобно утренней заре, разгоняющей мрак над землей, озаряет сокровенную суть спасения. Три луча Божественной истины пронзают тьму человеческих заблуждений: спасение по благодати, через веру, и всё это – дар Божий.
Каждое слово здесь разрушает твердыни человеческой гордости. Благодать – незаслуженная милость к виновным, через веру – пустые руки нищего, простертые к небу, и даже эта вера – не от нас, но Божий дар. Здесь рушится последний оплот самоправедности: само средство принятия спасения оказывается даром свыше.
В этом тройном утверждении звучит погребальный звон по всякой попытке человека внести свой вклад в дело спасения. Не «благодатью и делами», не «верой и усилиями», но только благодатью через веру – и всё это от Бога. Само местоимение «сие» охватывает весь процесс спасения: от первого движения души к Богу до конечного прославления – всё есть дар.
Писание открывает нам величественную картину спасения, где человеческая активность полностью поглощается и преображается действием благодати. В этом свете по-новому раскрывается смысл евангельских слов о рождении свыше – рождении, превосходящем всякое человеческое произволение.
Богодухновенное слово провозглашает безраздельное господство Божественной воли в домостроительстве спасения. Здесь нет места для человеческой похвалы – всякое движение души к Богу оказывается уже ответом на предваряющее действие благодати. Подобно тому как свет солнца пробуждает жизнь в семени, так благодать пробуждает в душе само желание спасения.
В этом откровении о природе спасения сокрыта и величайшая тайна человеческой свободы. Ибо подлинная свобода обретается не в автономии от Бога, но в полноте зависимости от Него. Как дыхание возможно лишь в потоке воздуха, так истинная жизнь души возможна лишь в потоке благодати.
Мертвость падшего человека
Еф. 2:1,5 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим… и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены».
Лк. 9:60 «Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
Ин. 5:28 «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия».
Три свидетельства Священного Писания являют нам беспощадную истину о духовном состоянии падшего человека – его мертвости. Не немощь, не болезнь, не частичное повреждение, но смерть характеризует естественное положение души пред Богом. Это откровение рассекает завесу человеческого самообмана, обнажая бездну духовного небытия.
Послание к Ефесянам дважды подчеркивает эту реальность, словно вбивая гвоздь истины в сознание читателя: «мертвых по преступлениям и грехам». Здесь раскрывается не метафора, но онтологическое состояние. Как труп не может сам себя оживить, так душа, мертвая в преступлениях, не имеет в себе никакой силы к возрождению. Само множественное число – «преступления и грехи» – указывает на всеобъемлющий характер этой смерти.
В словах Спасителя: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов», звучит страшный приговор религиозности падшего естества. Те, кто думает исполнять священный долг, на самом деле лишь умножают дела смерти. Здесь вскрывается беспощадная правда: даже самые благочестивые деяния невозрожденного человека остаются в пределах царства смерти.
Евангелие от Иоанна доводит это откровение до предельной ясности: как телесные мертвецы могут ожить только от гласа Сына Божия, так и духовные мертвецы не имеют иной надежды, кроме суверенного действия благодати. Воскрешение Лазаря становится видимым образом той истины, что спасение есть не пробуждение спящего, но воскрешение мертвого.
Это учение о духовной мертвости разрушает всякую надежду на естественные силы человека, на его свободную волю, на его нравственные способности. Перед нами не больной, которому нужна помощь врача, но труп, требующий чуда воскресения. В этом свете спасение предстает как действие той же силы, которая некогда вызвала жизнь из небытия: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца» (2 Кор 4:6).
Вывод
Мрак человеческого падения предстает в апостольском благовестии как бездонная пропасть, где сплетаются воедино всеобщая вина, неисцелимое повреждение и царство смерти. Каждый младенец, являющийся в мир, уже несет на себе печать осуждения. Каждый вздох человеческий отравлен ядом греха. Каждое движение сердца искажено первородным растлением.
Нет здесь места удобопреклонности или частичной болезни! Не о расстройстве здоровья вещает апостол, но о всеобщей смерти. Не о случайном падении возвещает Павел, но о радикальном повреждении самой природы. Не о временном плене свидетельствует избранный сосуд благодати, но о всецелом рабстве греху.
Страшная картина встает перед нашим взором: человечество, некогда венчанное славой и честью, ныне повержено в прах – безвольное, бессильное, мертвое. Ни искра добра, ни луч света не пробивается сквозь эту тьму падения. Ни один мускул духовного естества не способен к движению. Ни единый вздох покаяния не может родиться в сердце без действия благодати.
Но именно эта непроглядная тьма становится преддверием величайшего чуда. Там, где замирает последняя надежда на человеческие силы, где окончательно умолкают все притязания твари, где смерть торжествует свою последнюю победу – там начинается заря нового творения. И мрак падения, сгустившийся до предела, становится фоном, на котором еще ярче воссияет слава спасающего Бога.
Возможные возражения
Возражение 1
Мне могут возразить: «Можно же говорить, что грех это повреждение природы и болезнь, но при этом признавать, что эту болезнь может вылечить только благодать, а не сам человек. Другими словами, можно непротиворечиво утверждать, что природа осталась отчасти доброй, но без благодати к любому добру всегда будет примешиваться некое зло, которое никогда не даст человеку спастись самому. Это вполне последовательная логическая альтернатива учению о «полной испорченности», и эта альтернатива лучше соответствует эмпирическим фактам: нас окружают не одни только злодеи, причем даже атеисты иногда могут сделать нечто доброе».
Отвечу на это так. Действительно, можно признавать относительную способность падшего человека к добрым делам, не отрицая при этом его абсолютной неспособности к самоспасению. Однако суть проблемы лежит глубже.
Дело не в том, может ли падший человек совершать добрые дела (может!), и не в том, насколько сильно повреждена его природа. Ключевой вопрос – в природе самого спасения. Если мы понимаем спасение только как исцеление поврежденной природы, то неизбежно приходим к идее постепенного восстановления через синергию благодати и человеческих усилий. Но апостол Павел говорит о спасении прежде всего как об оправдании от вины и примирении с Богом.
Способность грешника к добрым делам не отменяет того факта, что он находится под осуждением. Даже если бы человек мог творить относительное добро (что он и делает), это не снимает с него вмененной вины Адамовой. Именно поэтому спасение должно начинаться не с исцеления природы, а с оправдания от вины через заместительную жертву Христа.
Таким образом, вопрос не в степени повреждения природы, а в характере спасения. Если спасение – это прежде всего примирение виновного с Богом, то оно может совершиться только через заместительную жертву, а не через постепенное самосовершенствование, каким бы благодатным оно ни было.
Возражение 2
Мне возразят: «Одно дело – исполнять некоторые заповеди. Другое дело – исполнять все заповеди («весь закон»). Первое делать люди могли и до Христа (доказывается эмпирически, не все до одного были убийцами, значит некоторые исполняли заповедь «Не убивай»). Второе (исполнять все заповеди) никто сделать без Христа не мог и не может. Поэтому даже в праведных людях оставались грехи, не допускавшие их к той полноте «спасения», которая возможна только через Христа. Однако люди могли и могут жить лучше или хуже. Отвергать это – значит спорить с фактами, ведь одни люди живут лучше (не убивают), а другие – хуже (убивают сотни людей)».
Я отвечу на это так. Различие в степени нравственного падения людей неоспоримо – одни действительно живут лучше, другие хуже. Однако суть проблемы не в количестве исполненных или нарушенных заповедей, а в качестве самого человеческого существования после грехопадения.
Проблема греха лежит глубже, чем нарушение отдельных заповедей. Даже если человек внешне исполняет заповедь «не убий», он всё равно находится под осуждением вины Адамовой. Более того, само это внешнее исполнение заповедей может быть формой греховного самоутверждения, попыткой установить собственную праведность.
Апостол Павел показывает это на примере своей прежней жизни: «По правде законной – непорочный» (Флп. 3:6), однако именно эта праведность от закона стала для него препятствием к принятию праведности от веры. Внешнее исполнение заповедей не только не приближало его к Богу, но, напротив, укрепляло в греховном состоянии самоправедности.
Такая форма праведности привела Павла к активному богоборчеству – он гнал и преследовал христиан, противясь единому истинному Богу, открывшему себя в Иисусе Христе.
Поэтому Крестная Жертва была необходима не потому, что люди не могли исполнить некоторые заповеди (могли!), а потому что само их существование находилось под осуждением. Требовалось не помощь в исполнении закона, а оправдание от вины и примирение с Богом. Именно эту глубинную проблему решает Крест Христов – не улучшение морального поведения, а изменение статуса человека перед Богом: из осужденного преступника в оправданное чадо.
Критика православного понимания первородного греха
Обратимся теперь к тому, как богословская мысль православного Востока разрабатывает эту тему. Посмотрим, как это ясное и очевидное учение Писания о грехе и духовной мертвости, что в позднем богословии принято называть «тотальным повреждением», искажено в православии.
Закон греховного расстройства
Архиепископ Феофан (Быстров) пишет:
«Изучение это показывает, что святой Апостол ясно различает в учении о первородном грехе два момента: «παράβασις», или преступление, и hamartia, или грех. Под первым разумеется личное преступление нашими прародителями воли Божией о невкушении ими плода от древа познания добра и зла; под вторым – закон греховного расстройства, привзошедший в человеческую природу, как следствие этого преступления.
Когда речь идет о наследственности первородного греха, имеется ввиду не “παράβασις”, или преступление, наших прародителей, за которое ответственны они одни, а “ἁμαρτία”, то есть закон греховного расстройства, поразивший человеческую природу вследствие падения наших прародителей» 1.
Попытка православных богословов объяснить передачу первородного греха через некий «закон греховного расстройства» представляет собой удивительный пример богословской несостоятельности. В стремлении «оправдать» Бога от обвинений в несправедливости они создают метафизическую конструкцию, которая фактически ограничивает Божий суверенитет и противоречит самой идее Бога как Творца и Законодателя.
Представление о «законе греховного расстройства» как о чем-то, действующем автономно от Божьей воли, сравнимом с законами физики, является откровенным абсурдом. Получается, что существует некая сила или принцип, стоящий над Богом, некий «естественный закон», которому даже Бог вынужден подчиняться. Бог в этой схеме предстает как бессильный наблюдатель, который только разводит руками: «Вот, согрешили, и теперь по естественным законам неизбежно должны умереть».
Это представление не только умаляет Божье всемогущество, но и искажает саму природу греха и его последствий. Грех – это не нарушение безличного космического закона, а оскорбление личного Бога, вызывающее Его праведный гнев и суд. Смерть приходит не как автоматическое следствие нарушения некоего метафизического принципа, а как прямое проявление Божьего суда.
Более того, такой подход создает ложное представление о спасении. Если проблема в некоем автономном «законе расстройства», то для спасения нужно было бы просто отменить или обойти этот закон. Но Писание говорит нам о необходимости умилостивления, искупления, примирения с личным Богом – все это предполагает личные отношения, а не механическое действие безличных законов.
Попытка представить последствия грехопадения как действие некоего автономного закона является по сути попыткой деперсонализировать отношения между Богом и человеком, свести их к механистическому взаимодействию причин и следствий. Это типичный пример рационалистического мышления, пытающегося объяснить духовные реальности в категориях природных закономерностей.
В конечном счете, учение о «законе греховного расстройства» является еще одной попыткой уклониться от признания прямой ответственности человека перед личным Богом и Его суверенного права судить Свое творение. Это очередной пример того, как человеческая мудрость пытается «улучшить» библейское откровение, но в результате только искажает его суть.
Удобопреклонность
Когда православные богословы утверждают, что последствием первородного греха является лишь «удобопреклонность ко греху», они фактически воспроизводят ключевой тезис Пелагия почти дословно.
Пелагий учил, что грех Адама повредил человечеству только примером, создав некую «привычку» или «склонность» ко греху. При этом человеческая природа осталась неповрежденной, сохранив полную способность выбирать между добром и злом. По его мнению, теоретически возможно жить без греха, хотя исторически таких примеров (кроме Христа) мы не находим.
Православное учение об «удобопреклонности ко греху» по сути повторяет эту логику:
Человек сохраняет свободу выбора;
Он только «более склонен» ко злу, чем к добру;
Теоретически возможно избрать добро;
Грех не является неизбежным следствием падшей природы.
Однако это прямо противоречит решениям Карфагенского собора 418 года, который анафематствовал тех, кто утверждает:
Что благодать нужна только для познания заповедей;
Что без благодати возможно исполнение заповедей;
Что человек своими силами может избежать греха.
Собор ясно утверждает, что благодать Христова необходима не только для познания добра, но и для:
Желания исполнять заповеди,
Способности их исполнять,
Самого исполнения.
Таким образом, учение о простой «удобопреклонности ко греху» представляет собой уже не скрытую, а открытую форму пелагианства, где:
Отрицается тотальная испорченность человеческой природы;
Сохраняется теоретическая возможность безгрешной жизни;
Благодать рассматривается как помощь, а не как необходимое условие;
Человеческая воля сохраняет автономию в выборе добра.
Это учение несовместимо не только с решениями антипелагианских соборов, но и с самим библейским свидетельством о глубине человеческой греховности и абсолютной необходимости благодати для спасения.
Идолопоклонство
При внимательном анализе православного богословия обнаруживается фундаментальная проблема герменевтического подхода к Священному Писанию. В основе этого подхода лежит не столько искреннее стремление к пониманию Божественного откровения, сколько бессознательное или сознательное служение определенным «идолам» – предустановленным концепциям, которые определяют интерпретацию текста.
В случае греческих отцов церкви таким идолом выступал морализаторский образ Бога, унаследованный из эллинистической философской традиции. Этот образ требовал абсолютной свободы человеческой воли как необходимого условия нравственной ответственности. Отсюда проистекает настойчивое стремление греческих отцов защитить и обосновать человеческую свободу даже ценой искажения ясного библейского учения о первородном грехе.
Этот герменевтический уклон привел к тому, что в центре православного богословия оказались не вменяемая праведность Христа и оправдание по благодати, а человеческие усилия по достижению спасения. По сути, мы наблюдаем здесь своеобразную форму пелагианства, замаскированную под православное учение о синергии. Различие между классическим пелагианством и православным учением оказывается во многом терминологическим, тогда как сущностно оба подхода отводят решающую роль человеческим усилиям в деле спасения.
Ситуация усугубляется тем, что современные православные богословы находятся в ситуации профессиональной зависимости от своей конфессиональной корпорации. Их благополучие – как материальное, так и социальное – напрямую связано с поддержанием определенной богословской традиции. В результате мы наблюдаем не столько искренний поиск истины, сколько изощренную апологетику унаследованных позиций.
Эта ситуация порождает глубокий конфликт между словом Божьим и человеческим преданием. Вместо того чтобы смиренно принять библейское откровение во всей его полноте, богословы либо создают собственный фантомный образ Бога, под который подгоняют библейские тексты, либо сознательно защищают корпоративные интересы своей конфессии, жертвуя истиной ради сохранения институционального статус-кво.
В результате мы имеем дело не с подлинным библейским богословием, а с рационализацией предвзятых позиций, где экзегетика замещается апологетикой, а поиск истины – защитой конфессиональных интересов. Это особенно ярко проявляется в учении о первородном грехе, где ясное библейское учение о реальной вине и вменении праведности Христа подменяется сложными философскими конструкциями, призванными сохранить иллюзию человеческой автономии в деле спасения.
В истории богословской мысли мы сталкиваемся с поразительным феноменом: человек, творение, пытается судить своего Творца и требует от Него оправдания. Само появление теодицеи как богословской дисциплины является симптомом глубокого духовного кризиса – человек ставит себя в положение судьи над Богом, требуя объяснений Его действий в соответствии с человеческими представлениями о справедливости.
Эта претензия особенно ярко проявляется в вопросе первородного греха. Православные богословы, движимые желанием «защитить» Бога от обвинений в несправедливости, создают сложные теории, объясняющие, почему наследование греха Адама якобы не противоречит справедливости. При этом они не замечают кощунственности самой попытки оправдать Бога перед человеческим судом.
В Священном Писании мы встречаем множество случаев, когда человек дерзает вопрошать о справедливости Божиих путей. Иов требует объяснения своих страданий, Давид взывает о невинных овцах, гибнущих за его грех, Иеремия недоумевает о благоденствии нечестивых, Аввакум вопрошает о торжестве зла, Иона негодует о помиловании Ниневии. Но каждый раз ответ Божий сводится к одному: «Мои пути – не ваши пути». Апостол Павел доводит эту истину до предельной ясности: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Всякая попытка поставить Божественную правду перед судом человеческого разума встречает в Писании решительное осуждение, ибо как небо выше земли, так пути Господни превышают наше разумение.
Вот самые яркие библейские примеры, где человек пытается судить о справедливости Божиих действий и получает отповедь:
Книга Иова – классический пример. Иов требует от Бога объяснений своих страданий: «Покажи мне, за что Ты со мною борешься?»(Иов. 10:2) Но Господь отвечает ему вопросом: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь» (Иов. 38:4).
Апостол Павел в Послании к Римлянам прямо обращается к этой теме: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: “Зачем ты меня так сделал?” Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» (Рим. 9:20–21).
Пророк Иеремия вопрошает о благоденствии нечестивых: «Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых благоуспешен?» (Иер. 12:1).
Пророк Аввакум недоумевает о Божием попущении зла: «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия?» (Авв. 1:3). Но получает ответ: «Праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4).
История Ионы показывает пророка, спорящего с Богом о справедливости помилования Ниневии: «О, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» (Иона 4:2). Но Господь отвечает ему притчей о растении, показывая ограниченность человеческого понимания справедливости.
Вопрос Давида: «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно; а эти овцы, что сделали они? да будет же рука Твоя на мне» (2 Цар. 24:17), остается без ответа. Царь пытается указать Богу на «несправедливость» наказания невинных за его личный грех. Это тот же самый вопрос, который задают православные богословы относительно первородного греха: как могут быть наказаны потомки за грех Адама, если они лично не согрешили? Как справедливый Бог может наказывать невинных?
Однако в Библии мы не находим ответа на эти вопросы. Бог не объясняет Давиду принцип коллективной ответственности, не оправдывается перед ним, не доказывает справедливость Своих действий. Само желание судить о справедливости Божиих путей, требовать от Него отчета – есть проявление греховной гордыни.
Так же как попытка Давида апеллировать к справедливости не отменила наказания народа, так и все богословские усилия «оправдать» действия Бога в вопросе первородного греха являются проявлением того же самого греховного стремления поставить Божественную правду перед судом человеческого разума.
Во всех этих случаях ответ Божий заключается не в рациональном объяснении Его действий, а в указании на несоизмеримость Божественной премудрости и человеческого разумения. Попытка «оправдать» Бога перед судом человеческого разума всегда встречает в Писании решительное осуждение.
«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8–9).
Это провозглашение абсолютной трансцендентности Божественной премудрости становится как бы рефреном всего Писания. Как невозможно земными мерками измерить высоту небес, так невозможно человеческим разумом постичь или оценить справедливость путей Господних.
Вместо того чтобы смиренно принять Божественное откровение о всеобщей виновности человечества в Адаме, богословы конструируют собственный образ «справедливого» Бога, соответствующий человеческим представлениям о справедливости. Этот рукотворный бог не может вменить вину Адама его потомкам, потому что это «несправедливо» по человеческим меркам. Он не может предопределить одних к спасению, а других оставить, потому что это не соответствует человеческим представлениям о равенстве.
Такой подход обнаруживает глубинное непонимание или неприятие Божественного суверенитета. Творение пытается установить границы для действий Творца, определить, что Он может, а что не может делать. Это есть не что иное, как проявление того же греха гордыни, который привел к падению первых людей – желание быть «как боги», определяющие добро и зло.
В результате православное богословие создает образ предсказуемого, управляемого бога, действующего по понятным человеку правилам. Этот бог не может спасать по одной лишь благодати – это было бы «несправедливо». Он обязан дать каждому человеку равные возможности и учитывать его заслуги. Такой бог становится удобным объектом для религиозных манипуляций, ведь его действия можно просчитать и на них можно влиять.
Создав образ контролируемого и предсказуемого бога, православная традиция неизбежно скатывается в практическое идолопоклонство – целую систему религиозной магии, замаскированной под христианское богослужение. Благодать начинает восприниматься как некая безличная сила, которой можно манипулировать через определенные ритуальные действия. Святой Дух это уже не Личность, не Лицо Троицы, но расходный материал: его можно получить, приобрести, накопить, растратить, потерять. Это магическая сила – мана у шаманов или космическая энегрия ци у китайцев и прана у индусов.
Таинства из знаков благодати превращаются в магические обряды, где правильное исполнение ритуала гарантирует определенный духовный результат.
Особенно показательно отношение к иконам, которые фактически становятся языческими фетишами. Им приписываются чудотворные свойства, их носят крестными ходами, ими освящают пространство и предметы, через них якобы исцеляются болезни. Некоторые иконы становятся настоящими религиозными «знаменитостями», совершающими турне по стране подобно поп-звездам. Для языческого сознания было очень важно бога видеть, осязать, управлять им, переносить с места на место. При этом полностью игнорируется вторая заповедь, запрещающая создание изображений для поклонения.
Параллельно развивается система психофизических практик, называемых «умным деланием» или «исихазмом», где через определенные техники дыхания и медитации человек якобы может управлять действием благодати. Это прямое наследие языческих мистических практик, где человек пытается техническими средствами достичь общения с божеством.
В результате формируется целая система религиозной коммерции, где благодать становится предметом торговли. ее можно заработать постами и молитвами, купить пожертвованиями, получить через поклонение определенным святыням. Бог превращается в партнера, в одного из контрагентов, по религиозной сделке, где человек предлагает свои духовные или материальные усилия в обмен на благодать. Это объясняет мегапопулярность бестселлера «Беседа Мотовилова с преп. Серафимом» где не просто говорится о торговле, но торговле «с барышом», то есть о валовой и чистой прибыли в такой торговле.
Таким образом, отвержение библейского учения о суверенном даровании Богом благодати и попытка создать «справедливого» бога приводят к полному извращению христианства. Вместо поклонения живому Богу в духе и истине мы получаем сложную систему религиозного магизма, где человек пытается манипулировать божеством через установленные им самим ритуалы и практики.
Особенно трагично, что эта система полностью затемняет евангельскую весть о спасении по благодати через веру. Человек оказывается замкнут в бесконечном круге религиозных упражнений, никогда не достигая уверенности в спасении, потому что оно всегда зависит от его собственных усилий, а не от совершенного дела Христа.
Справедливость
Попытка защитить «справедливость» Бога в вопросе первородного греха приводит православных богословов к неразрешимому противоречию. Отрицая возможность вменения вины Адама его потомкам как якобы «несправедливую», они сталкиваются с гораздо более сложным вопросом: почему «справедливый» Бог установил закон наследования поврежденной природы?
Если мы следуем логике православных богословов, то получается следующая картина: Бог не может вменить вину Адама его потомкам, потому что это было бы «несправедливо» – дети не должны отвечать за грехи отцов. Однако тот же самый Бог устанавливает закон, по которому все потомки Адама неизбежно наследуют поврежденную природу. Возникает вопрос: в чем провинились дети Адама, чтобы получить такое наследство?
Более того, если Бог действительно руководствуется человеческими представлениями о справедливости, почему Он не дает каждому человеку такой же шанс, какой получили Адам и Ева? Почему каждый младенец не рождается в том же состоянии невинности и бессмертия, с возможностью сделать собственный выбор? Если вменение вины несправедливо, то разве не столь же несправедливо обрекать людей на рождение в состоянии поврежденной природы?
Православное богословие не может дать удовлетворительного ответа на эти вопросы, потому что сама попытка судить Бога по человеческим меркам справедливости ведет в тупик. Если мы начинаем оценивать Божественные действия с позиции человеческой справедливости, мы должны признать, что установление закона наследования поврежденной природы ничуть не более «справедливо», чем вменение вины.
Единственный выход из этого противоречия – признать, что Божественная справедливость превосходит человеческое понимание, и смиренно принять библейское откровение о реальности как вмененной вины, так и унаследованной поврежденной природы. Попытка «защитить» Бога от обвинений в несправедливости только создает новые, еще более серьезные богословские проблемы.
Таким образом, православная попытка «оправдать» Бога, отрицая вменение вины, приводит к гораздо более серьезным богословским проблемам, чем те, которые она пытается решить. Она не только не защищает Божественную справедливость, но и подрывает самые основы христианского учения о спасении.
Крещение
Если мы следуем православной логике, получается следующая цепочка утверждений:
Первородный грех – это не вмененная вина, а только повреждение природы.
Основное проявление этого повреждения – грех и смертность.
Крещение исцеляет это повреждение природы.
Так как в православии в практическом аспекте, то есть в практике верующих, нет примирения, оправдания, второго рождения, предопределения и избрания, уверенности в спасении, то, спрашивается, в чем сила крещения? Зачем оно вообще нужно? Православные богословы пытаются разрешить это противоречие, говоря о «потенциальном» исцелении природы, которое полностью реализуется только в воскресении. В итоге, крещение это начаток и семечка, которую верующий развивает сам, с помощью благодати, которая является ведомой человеческим усилием. Какой конечный результат и какова цель такой синергии, каково, конечно, условие спасение? Определенного ответа на этот вопрос нет. Лучший ответ у епископа Игнатия (Брянчанинова). По его мнению, те из православных христиан, кто полностью очистили себя от страстей, попадают в рай. Остальные христиане, которые не успели принести достойные плоды покаяния за какой-либо грех или не очистили себя от страстей, идут в ад. Впрочем, получают там облегчение по молитвам Церкви.
«Христиане, одни православные христиане, и притом проведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием, исповедью пред отцом духовным и исправлением себя, наследуют вместе с светлыми Ангелами вечное блаженство. Напротив того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики (протестанты, католики и проч.), и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами. Патриархи Восточно-Кафолической Церкви в послании своем говорят: “Души людей, впавших в смертные грехи, и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлучения с настоящею жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, каковы: молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных бдениях, сокрушение сердечное, утешение бедных и выражение делами любви к Богу и ближним, что все Кафолическая Церковь с самого начала признает богоугодным и благопотребным, – души таких людей нисходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от них. Облегчение же получают они по бесконечной благости, чрез молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а особенно силою Бескровной Жертвы, которую в частности приносит священнослужитель для каждого христианина о его присных, вообще же за всех повседневно приносит Кафолическая Апостольская Церковь”» (Слово о смерти)2.
Перед нами не просто богословские разногласия, а совершенно иная религиозная система, чуждая самой сути евангельского благовестия. В православном исповедании нет ни одного из тех оснований, на которых зиждется христианская вера:
Нет рождения свыше, дарующего непоколебимую уверенность в усыновлении Богом. Нет оправдания кровью Христовой, очищающей от всякого греха. Нет избрания и предопределения к вечной жизни. Нет твердого упования на завершенное дело искупления. Вместо этого – бесконечная лестница самосовершенствования, где спасение зависит от степени очищения от страстей, от количества принесенных плодов покаяния, от молитв священников и бескровных жертв.
Как может человек, рожденный от Бога, предопределенный к усыновлению, омытый кровью Христа, запечатленный Духом Святым, все еще нуждаться в «облегчении мук» через молитвы и жертвоприношения? Как может чадо Божие, имеющее внутри себя свидетельство Духа о своем усыновлении, все еще страшиться вечных мук за «неочищенные страсти»?
Это не христианство апостолов, положивших в основание Церкви благую весть о совершенном спасении через веру во Христа. Это религия бесконечного самосовершенствования, где никто и никогда не может быть уверен в своем спасении, ибо оно зависит не от законченного дела Христа, а от степени личного преуспеяния в борьбе со страстями.
Это показывает, что попытка православного богословия избежать учения о вине Адама и праведности во Христе приводит к неразрешимым противоречиям в учении о крещении. Стремясь сделать учение более «рациональным» и «справедливым», они создают систему, которая не соответствует ни библейскому откровению, ни очевидной реальности.
Однако Библия и Церковь учат нас иначе. В священных водах крещения свершается великое чудо искупления: тяготеющее над человечеством проклятие Адамово встречается с искупительной жертвой последнего Адама. Здесь, в таинственных глубинах крещальных вод, вина праотца, державшая в плену всё человечество, встречает свой конец в крови Агнца. Не природа исцеляется, но вина снимается – вот суть крещального таинства! Где хоть слово у Павла про болезнь и исцеление? Безусловно, онтологически рождается новое творение. Новое, а не исцеленное. Об этом новом рождении я буду писать в последующих главах.
Как некогда грех одного человека соделал многих виновными, так ныне послушание Единого соделывает многих праведными. В крещении верующий погружается не в простую воду, но в смерть Христову, где всякая вина упраздняется, всякий долг уплачивается, всякое осуждение прекращается. Здесь совершается великий обмен: Христос берет на Себя вину Адамову, тяготевшую над каждым младенцем, рождающимся в мир, а верующий облекается в ризу Христовой праведности.
Но крещение – это больше, чем снятие вины. В этих спасительных водах верующий погружается во Христа как в новую стихию бытия. Ветхий человек, носитель унаследованной вины, умирает в крещальных водах, а новая тварь восстает, запечатленная Духом Святым. Так крещение становится и смертью, и рождением: смертью для царства вины Адамовой и рождением для Царства благодати Христовой.
Отныне верующий стоит пред Богом не как сын виновного Адама, но как возлюбленное чадо во Христе. Всякое обвинение закона умолкает, всякая тень прародительского греха рассеивается, и сам престол правосудия Божия становится престолом благодати. Вот она – слава крещального таинства, где Божественное правосудие и милость встречаются в совершенной гармонии!
В крещальных водах верующий обретает совершенную полноту во Христе. Не семя будущего совершенства, не росток грядущего преображения, но саму полноту Божественной жизни получает он в этом святом таинстве. Здесь человек облекается во Христа не частично, не постепенно, но всецело и совершенно.
О, бездна премудрости Божией! В едином действии Святой Троицы верующий получает всё потребное для жизни и благочестия. Отец усыновляет его в возлюбленном Сыне, Христос облекает его Своей совершенной праведностью, Дух Святой запечатлевает его в день искупления. Что может быть прибавлено к этой полноте? Что может быть усовершенствовано в том, что уже совершенно?
И только безумец, ослепленный гордыней человеческих измышлений, может утверждать, будто это великое действие благодати есть нечто неполное, незавершенное, недостаточное, несовершенное! Как может тварь дополнить то, что соделал Сам Бог? Как может немощный человек усовершенствовать то, что запечатлено печатью Духа Святого?
Нет! В крещении верующий получает не начаток, но полноту, не обещание, но исполнение, не предвкушение, но само обладание всеми сокровищами премудрости и ведения, сокрытыми во Христе. Здесь конец всякому человеческому усилию, всякому самосовершенствованию, всякой попытке достичь того, что уже даровано по благодати!
Мнение древней Церкви об этом вопросе я подробно изложу в последующих главах. Конечно, верующему предстоит долгий и трудный путь «совлечения ветхого человека», но это не относится к его спасению, которое раз и навсегда совершенно Богом во Христе. Совлечение ветхого человека, освящение – это жизнь в спасении, а не жизнь для спасения.
Конечно же, речь идет не о том мнимом крещении, которое производят в нашей церкви в 99% случаев, когда человек даже не верит в Бога, и тем более не знает основания своей веры. Я говорю о крещении не как о церковном таинстве, а как о таинственном акте Божественной благодати, который может быть связан с церковным обрядом, может быть после него, может быть до него.
Я говорю здесь о настоящем рождении свыше, а не о том, что профанируется в православной церкви, где атеисты, вечером раскладывающие пасьянс на картах таро, с утра приносят своих детей крестить за деньги, потому что без денег, как мы знаем, крестить нельзя. Все строго по прейскуранту. В таких случаях нет ни веры, ни покаяния, ни истинного понимания совершающегося – есть только внешний обряд, лишенный всякого духовного содержания.
Поэтому, когда я говорю о полноте и совершенстве крещения, я имею в виду именно действительное рождение свыше, а не формальное совершение обряда над неверующими людьми.
Праведность
Здесь мы подходим к самому сердцу проблемы православного богословия первородного греха. Отрицание реальности вмененной вины Адама неизбежно подрывает саму возможность вмененной праведности Христа. Эта связь не случайна – она лежит в основе павловской аргументации в Послании к Римлянам.
Апостол Павел строит параллель: «Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим. 5:18). Это не просто аналогия, а глубокая богословская истина о механизме спасения. Если мы отрицаем возможность вменения вины Адама как «несправедливую», мы тем самым отрицаем и возможность вменения праведности Христа.
Православное богословие, пытаясь защитить «справедливость» Бога в вопросе первородного греха, фактически разрушает основание спасения по благодати. Если человек не может быть виновен в чужом грехе (грехе Адама), то он не может быть и праведен чужой праведностью (праведностью Христа). В результате остается только один путь – путь личных заслуг и дел.
Но здесь мы сталкиваемся с прямым противоречием словам апостола Павла: «Если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2:21). Это не просто риторическое преувеличение – это принципиальный богословский тезис. Если человек может достичь праведности собственными усилиями, пусть и с помощью благодати, то жертва Христа становится излишней.
Единственный выход – принять библейское учение о том, что как вина Адама реально вменяется нам, так и праведность Христа реально вменяется верующим. Это не «юридическая фикция», а глубокая реальность нашего единства со Христом, так же как грех Адама – это реальность нашего единства с ним как главой человечества.
Отвергая учение о вмененной вине, православное богословие неизбежно скатывается в пелагианство, где спасение становится результатом человеческих усилий, а не даром благодати. Это прямо противоречит всему учению апостола Павла и делает крестную жертву Христа если не бессмысленной, то по крайней мере недостаточной для спасения.
Так попытка «защитить» справедливость Бога приводит к полному извращению Евангелия благодати. Истинное смирение требует принять библейское учение о вмененной вине и вмененной праведности, даже если оно не соответствует нашим представлениям о справедливости.
Человекообразные боги
В результате создания «удобного» образа Бога православие утратило ключевые элементы, которые делают христианство уникальным откровением. Вместо величественного библейского Бога, суверенного в Своих действиях и непостижимого в Своих решениях, мы получаем образ божества по своему образу и подобию, которое действует по понятным человеческим правилам и поддается манипуляции через религиозные практики.
Эта редукция привела к утрате фундаментальных доктрин христианской веры. Учение об избрании, которое подчеркивает абсолютную суверенность Бога в деле спасения, практически отсутствует в православном богословии. Оно заменяется расплывчатыми рассуждениями о «синергии», где человек становится соработником Богу в деле собственного спасения.
Концепция второго рождения, радикального преображения природы верующего действием Святого Духа, подменяется постепенным «обожением» через аскетические практики и участие в таинствах. При этом теряется сама суть возрождения как сверхъестественного действия Бога в душе человека.
Особенно показательна утрата понимания веры как духовного подвига. В православии вера сводится к простому принятию исторических фактов и традиционных догматов. Исчезает измерение веры как постоянной борьбы с сомнениями, как усилия принять истины, которые противны нашему падшему разуму и испорченной природе. Подвиг веры раскрывается в поразительном парадоксе: чем яснее верующий видит бездну своей греховности, тем тверже его упование на совершенную праведность во Христе. В этой священной диалектике познание собственного ничтожества становится основанием для дерзновенного усыновления Богу.
Естественный разум противится такому устроению. Как может тот, кто ежедневно обличается совестью в тысяче грехов, именовать себя чадом Божиим? Как смеет носитель растленной природы называться новым творением? Но именно здесь является сила веры, дарованной свыше: видя море своих грехов, верующий еще тверже держится за якорь обетования.
Это не мечтательное самообольщение и не благочестивая фантазия о будущем совершенстве. Это реальность нового бытия во Христе, где верующий, среди самых горьких слез покаяния, непоколебимо стоит в дарованном усыновлении. Такая вера – дар Божий, ибо никакие человеческие усилия не могут удержать вместе эти две истины: видение своей крайней греховности и твердую уверенность в своем совершенном оправдании во Христе.
Священное Писание, которое должно быть центром христианской жизни, отодвигается на периферию, уступая место преданию, которое часто, по словам апостола Павла, сводится к «бабьим басням». Живое слово Божие заменяется бесконечными житиями святых и назидательными историями, которые больше говорят о человеческих достижениях, чем о величии Бога.
Самое трагичное – это утрата радости спасения и уверенности в нем. Православный верующий никогда не может быть уверен в своем спасении, потому что оно всегда зависит от его собственных усилий и заступничества святых. Он не может просто положиться на совершенную жертву Христа, потому что в православном понимании эта жертва недостаточна – она должна быть дополнена человеческими делами и молитвами святых.
В православной традиции, отвергнувшей учение о вмененной праведности Христа, неизбежно развился культ личной праведности, воплощённый в почитании святых. Вместо библейского понимания, где все верующие названы святыми благодаря праведности Христа, появляется особая категория людей, достигших святости собственными усилиями.
Это фундаментальное искажение проявляется в том, как изменилось само понятие «святой». Если апостол Павел обращается ко всем членам церкви как к «святым и верным во Христе Иисусе», то в православии святость становится редким достижением исключительных личностей. Эти люди канонизируются именно за их личные достижения, особые подвиги и необычайные качества характера.
Показателен сам термин «праведный» в православной агиографии. Он применяется к тем, кто якобы достиг праведности собственной жизнью, как, например, праведный Иоанн Кронштадтский. Это прямо противоречит библейскому учению о том, что «нет праведного ни одного» и что единственная доступная нам праведность – это праведность Христа, принимаемая верой.
В результате благодать перестает быть незаслуженным даром и становится наградой за духовные подвиги. Святые в православном понимании – это не те, кто омыт кровью Христа, а те, кто своими делами заслужил особый статус. Они предлагаются как пример того, что человек может достичь праведности собственными усилиями, что является по сути возвратом к законническому пониманию спасения.
Это создает порочный круг: отрицание вмененной праведности Христа ведет к необходимости достигать праведности собственными силами, что в свою очередь порождает культ тех, кому это якобы удалось. Вместо того чтобы указывать на совершенную праведность Христа, Церковь начинает превозносить человеческие достижения, пусть даже и в духовной сфере.
Так православие фактически возвращается к тому, против чего боролся апостол Павел – к идее достижения праведности делами закона. Только теперь это не закон Моисеев, а православный подвижнический идеал, но суть остается той же – попытка заслужить то, что может быть только даром благодати.
В результате вместо живой веры в живого Бога мы получаем сложную систему религиозных практик, где человек пытается заслужить спасение через бесконечные подвиги и обряды. Величественное евангельское учение о спасении по благодати через веру подменяется утомительным религиозным марафоном, где человек никогда не может быть уверен, достаточно ли он сделал для своего спасения.
Это не просто искажение отдельных доктрин – это фундаментальное извращение самой сути христианства, превращение его из религии благодати в религию человеческих усилий. И корень этого извращения – в создании ложного образа Бога, соответствующего человеческим представлениям и желаниям, вместо смиренного принятия Бога таким, каким Он открыл Себя в Писании.
Гуманизм
Современное сознание, пропитанное гуманистическими идеалами, сталкивается с радикальным вызовом библейского откровения. Фундаментальный конфликт заключается в том, что Писание последовательно богоцентрично, тогда как современный человек пытается сделать центром вселенной себя и свои представления о справедливости.
Библия говорит о суверенном Боге, который избирает одних и оставляет других, не спрашивая их мнения и не объясняя Своих действий. Это глубоко оскорбляет гуманистическое сознание, для которого высшей ценностью является человеческая автономия и равенство прав. Современный человек не может принять Бога, который действует вопреки его представлениям о справедливости и равенстве.
В этом контексте учение о вменении вины Адама становится особенно неприемлемым. Сама идея о том, что человек может быть виновен в чужом грехе, противоречит гуманистическому индивидуализму, где каждый отвечает только за свои действия. Современное нравственное чувство, воспитанное на идеях прав человека и индивидуальной автономии, восстает против такого «несправедливого» установления.
При этом происходит характерная подмена: вместо того чтобы позволить Писанию формировать наши нравственные представления, мы пытаемся втиснуть библейское откровение в рамки современной этики. Мы ищем в Библии подтверждение наших представлений о правах человека, гендерном равенстве, толерантности, хотя эти концепции совершенно чужды библейскому мировоззрению.
Особенно ярко это проявляется в современных попытках «прочтения» Библии через призму борьбы за права различных групп. Писание рассматривается не как откровение о Боге и Его замысле, а как инструмент для продвижения современной социальной повестки. При этом игнорируется тот факт, что Библия не ставит своей целью решение социальных проблем или установление справедливого общества по человеческим меркам.
В результате библейское учение о грехе, суде и спасении подменяется гуманистической этикой самореализации и прав человека. Суверенный Бог, действующий по Своей воле, заменяется «богом» человеческих желаний и представлений о справедливости. Это и есть современное идолопоклонство, где человек создает бога по своему образу и подобию.
Именно поэтому учение о вмененной вине становится камнем преткновения – оно обнажает несовместимость библейского теоцентризма с современным гуманистическим мировоззрением. Принять это учение означает смириться с тем, что Бог действует не по нашим правилам и что наши представления о справедливости не являются абсолютным мерилом.
Это требует радикального смирения, отказа от претензий на моральную автономию и признания абсолютного суверенитета Бога. Но именно на такое смирение современный человек, воспитанный на идеях гуманизма и прав личности, оказывается неспособен.
Учение Церкви
Краткий обзор
Исторически первой попыткой систематического осмысления механизма передачи первородного греха можно считать концепцию Тертуллиана, развившего теорию традуционизма.
Тертуллиан учит о передаче от Адама его потомкам осуждения (damnatio).
Наиболее влиятельной в западной традиции стала августиновская концепция первородного греха, развитая блаженным Августином в полемике с Пелагием. Августин настаивал на реальности унаследованной вины, утверждая, что все люди согрешили «в Адаме» не только в смысле получения поврежденной природы, но и в смысле реального участия в его преступлении. Эта позиция была поддержана и развита такими богословами как Фульгенций Руспийский, Проспер Аквитанский и впоследствии стала доминирующей в западном богословии.
Противоположный полюс представляет пелагианская концепция, отрицающая наследование как вины, так и существенного повреждения природы. Согласно Пелагию, грех Адама повредил ему одному, а его потомки рождаются в том же состоянии, в котором был создан Адам. Эта позиция была осуждена Церковью как ересь, но ее умеренные формы периодически возрождались в истории богословия.
Восточная патристическая традиция, представленная такими отцами как Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, Иоанн Дамаскин, делала акцент на повреждении природы, избегая юридической терминологии вины и подчеркивая искажение образа Божия в человеке как следствие грехопадения. Восточные отцы не отрицали реальности первородного греха, но предпочитали говорить о нем в терминах онтологического повреждения, а не юридической вины.
Схоластическое богословие, особенно в лице Фомы Аквинского, попыталось синтезировать различные аспекты учения о первородном грехе. Фома различал материальный аспект первородного греха (concupiscentia; вожделение) и формальный (privatio iustitiae originalis; лишение первоначальной праведности), подчеркивая как реальность унаследованной вины, так и онтологическое повреждение природы.
Реформация внесла свой вклад в осмысление первородного греха. Мартин Лютер и Жан Кальвин подчеркивали тотальную испорченность человеческой природы и реальность унаследованной вины. Особое развитие получила федеральная теория, разработанная в реформатском богословии, согласно которой Адам был юридическим представителем всего человечества, и его грех вменяется потомкам на основании завета.
В современном богословии можно выделить несколько основных подходов к интерпретации первородного греха:
Традиционный августиновский подход, подчеркивающий реальность унаследованной вины.
Восточно-православный подход, акцентирующий внимание на повреждении природы.
Федеральный подход, рассматривающий вменение греха Адама в юридических категориях.
Экзистенциальный подход (К. Барт, Р. Нибур), интерпретирующий первородный грех как универсальную ситуацию человеческого существования.
Современные попытки переосмысления доктрины в свете научных данных и современной антропологии.
Полупелагианское учение
Учение православия о первородном грехе как простом повреждении природы обнажает глубочайший разрыв между восточным богословием и евангельской истиной. В этом учении, словно в зеркале, отражается древняя ересь Пелагия, где благодать превращается в помощницу человеческих усилий, а не в животворящую силу воскресения из мертвых.
Пелагий учил, что грех Адама повредил человечество лишь силой дурного примера. Каждый человек рождается с той же свободой выбора, какой обладал Адам. Грех не передается по наследству – передается лишь склонность к греху, которую человек способен преодолеть силой своей воли. Благодать в этой системе превращается в естественный дар – разум, свободную волю, закон Божий и пример Христа.
Когда православное богословие утверждает, что вина Адама не наследуется, а человек сохраняет первозданную свободу выбирать спасающее добро, оно вторит заблуждениям Пелагия. Утверждение о возможности веры и исполнения заповедей без предваряющей благодати есть не что иное, как возрождение древней ереси в новых одеждах.
В свете этого учения таинство крещения теряет свой подлинный смысл. Если первородный грех – лишь болезнь или повреждение, то зачем нужно прощение? Отпущение грехов (remissio peccatorum) – термин, указывающий на отпущение вины, а не на исцеление природы. Крещение младенцев становится бессмысленным ритуалом, если нет реальной вины, требующей прощения.
Еще более острый вопрос встает о смысле Крестной Жертвы. Если человек способен своими силами исполнять заповеди и избирать добро, то смерть Христа превращается в трагическое недоразумение. Зачем нужна искупительная жертва там, где достаточно морального усилия? Само понятие примирения с Богом теряет смысл, если нет реального отчуждения и вражды.
Пелагианство, древнее и новое, разбивается о скалу апостольского свидетельства: «мертвы по преступлениям и грехам». Не больны, не повреждены, но мертвы. И как мертвый не может сам себя воскресить, так падший человек не может сам начать движение к Богу. Требуется чудо воскресения, а не помощь в самосовершенствовании.
История церковной мысли показывает, что полупелагианские тенденции возникают всякий раз, когда человеческий разум пытается смягчить беспощадную истину Писания о глубине падения. Православное учение о первородном грехе представляет собой классический пример такой рационализации, где библейское учение приспосабливается к человеческим представлениям о справедливости и свободе воли.
В конечном итоге вопрос о природе первородного греха оказывается вопросом о природе спасения. Либо спасение есть всецело дело Божественной благодати, воскрешающей мертвых, либо оно превращается в систему нравственного усовершенствования, где Бог лишь помогает человеку в его духовном восхождении. Третьего не дано.
История о сотнике Корнилии
Симеон Новый Богослов
«Корнилий – муж благоговен и бояйся Бога со всем домом своим. Не себя только одного держал он в страхе Божием, но и всех, живущих в доме его, научил бояться Бога. И сие добро есть и приятно пред Богом (1 Тим. 2:3), да печется всяк не о том одном, что ему собственно полезно, но и о том, что полезно всем, живущим вместе с ним. Таким образом, сотник оный, прежде чем научен был Апостолами, уже исполнял заповедь апостольскую, которая повелевает: «Никтоже своего си да ищет, но еже ближняго кийждо» (1 Кор. 10:24). Творил он также и милостыни многи, и Богу молился день и ночь; и таким образом, прежде чем уверовал, явно исполнял заповедь Господа нашего и Бога, которая повелевает: «Бдите и молитеся, да не внидете в напасть» (Мф. 26:41), и еще: «Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцыте, и отверзется вам» (Мф. 7:7). Видишь, что делал этот неверующий еще во Христа и почти язычник? Не слышал еще он слова благовестия, а уже усердно исполнял заповеди евангельские, прежде чем научен им был от кого-либо. Просил он посредством благоговеинства, и получил; искал посредством милостыни, и нашел; толкал посредством поста и молитвы, и отверзалось ему» (Слово 113).
В словах Симеона Нового Богослова обнаруживается глубокое искажение евангельской истины, где благодать подменяется природными способностями падшего человека. Его толкование истории Корнилия представляет собой классический образец пелагианского заблуждения, где человеческая воля предваряет действие благодати.
Утверждение, что Корнилий мог научить других страху Божию до принятия благодати, противоречит самим основам библейского откровения. Как может слепой вести слепого? Как может духовно мертвый передать жизнь? Здесь природные религиозные чувства ошибочно принимаются за истинное богопознание.
Особенно показательно утверждение о возможности исполнения евангельских заповедей прежде познания Евангелия. Это не просто богословская ошибка, но радикальное извращение самой природы спасения. Внешнее подобие добрых дел принимается за их духовную сущность, словно мертвые дела плоти могут быть угодны Живому Богу.
В этом толковании разрушается сама основа благодати: получается, что человек может сам искать Бога, а Бог лишь отвечает на человеческие усилия. Но Писание свидетельствует об обратном: «Нет разумеющего, никто не ищет Бога» (Рим. 3:11). Само искание Бога возможно лишь как ответ на предваряющее действие благодати.
Симеон превращает историю о суверенной благодати, избирающей язычника, в повествование о человеческих достижениях. В его интерпретации Корнилий предстает не как пример действия благодати среди язычников, но как образец природной праведности, что полностью противоречит учению апостола Павла о всеобщей греховности.
После рассмотрения пелагианского толкования Симеона Нового Богослова обратимся к свидетельству древней Церкви. Фульгенций Руспийский, этот светоч богословия VI века, раскрывает перед нами совершенно иное понимание истории сотника Корнилия. В его толковании, сохранившем чистоту апостольского учения о благодати, история языческого сотника предстает не как пример природной праведности, но как торжество предваряющей благодати Божией. Особую значимость словам Фульгенция придает его близость к эпохе великих богословских споров о благодати.
Фульгенций
«И Кто же, послав ангела, наставил сотника Корнилия, чтобы он призвал апостола Петра, если не Тот, Кто [ранее] вложил безвозмездно в этого же сотника дар страха Божия и добродетельной жизни? Ведь для того, чтобы Богу могли прийти на память молитвы и милостыни Корнилия, Бог сначала вспомнил о самом Корнилии – не за какое-либо его доброе дело, а по Своему благоволению, чтобы вложить в него дар страха Божия, которым Бог вдохновил его на усердие в милостыне и на стремление к святой молитве. Итак, Тот, Кто нашел в Корнилии нечто угодное Ему, Сам предоставил ему благодать быть угодным Ему. Ведь Он – Тот самый Бог, о Котором апостол говорит: «Бог мира, Который воскресил из мертвых великого пастыря овец кровью вечного завета, нашего Господа Иисуса Христа, пусть сделает вас пригодными ко всякому добру, чтобы вы исполняли волю Его, делающего в вас то, что угодно Ему» (Евр. 13:20–21). И то, что Корнилий был наставлен призвать к себе Петра, было до такой степени делом Божественной благодати, что и самому блаженному Петру, когда к нему пришли посланные от Корнилия, Святой Дух не только повелел идти с ними, но и, устраняя робость всякого сомнения, подтвердил, что эти люди были посланы Им Самим. В самом деле, Святой Дух сказал этому блаженному Петру: «Вот, три мужа ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, не сомневаясь, потому что Я послал их» (Деян. 10. 19–20)» (Об истине предопределения и благодати Бога, 1, 20; перевод Д. В. Смирнова4).
В толкованиях Симеона Нового Богослова и Фульгенция раскрывается фундаментальное противостояние двух богословских парадигм: синергизма, где человек предваряет благодать, и монергизма, где всякое духовное движение души есть плод суверенного действия Божия.
Фульгенций раскрывает истину о предваряющей благодати с поразительной ясностью: даже сам страх Божий в сердце Корнилия был не природным достижением, но даром свыше. Подобно тому как свет предшествует всякому зрению, так благодать предваряет всякое духовное движение души. Молитвы и милостыни сотника были не причиной, но следствием Божественного избрания.
В противоположность этому Симеон рисует картину природной праведности, где язычник собственными силами достигает исполнения евангельских заповедей. В этой перспективе благодать превращается в ответ на человеческие достижения, а Бог становится должником человеческих добродетелей. Здесь обнаруживается классическое пелагианское извращение: природа предваряет благодать, человеческое усилие определяет Божественное действие.
Особенно показательно различие в понимании самой природы духовной жизни. Для Фульгенция всякое доброе движение души есть плод благодати: Сам Бог даровал Корнилию «благодать быть угодным Ему». Для Симеона же духовная жизнь начинается с природных способностей и лишь увенчивается благодатью. В одном случае перед нами чудо воскресения мертвых, в другом – история человеческого самосовершенствования.
Толкование Фульгенция сохраняет целостность евангельского благовестия: Бог не только завершает, но и начинает дело спасения. Даже само желание искать Бога оказывается плодом предваряющей благодати. В системе же Симеона благодать низводится до уровня помощницы человеческих усилий, что неизбежно ведет к извращению всего домостроительства спасения.
История Корнилия в руках этих богословов становится либо свидетельством суверенной благодати, избирающей язычника, либо примером природной праведности, достигающей Божественного признания. За этими толкованиями стоят два непримиримых понимания отношений между природой и благодатью, между человеческой волей и Божественным избранием.
Ефрем Сирин
«Но кроме того, соделал всех людей единым телом, и, говорит, в одном лице Адама грешника, и начал доказывать, что Он есть Адам сравнительно с Адамом. Как первый тот (Адам) посеял греховную нечистоту в чистые тела, и вложена была закваска зла во всю нашу массу (естество), – так Господь наш посеял праведность в тело греха, и закваска Его всю нашу массу (естество) смешала: «как чрез Адама грех вошел,.. и чрез грех… смерть», так и на всех эта самая смерть распространилась, ибо все, как предки, так и потомки грехом согрешили» (Толкование на Послание к Римлянам, 5, 125).
В толковании Ефрема Сирина обнаруживается характерное для восточного богословия смещение акцентов с юридического на онтологический аспект спасения. Сам образ «закваски зла», проникающей во всю массу человеческого естества, указывает на природный, а не личностный характер греха.
За этим, казалось бы, поэтическим образом скрывается глубокое богословское заблуждение. Если грех передается подобно закваске в тесте, то и спасение неизбежно мыслится как природный процесс преображения, где благодать действует наподобие естественной силы. В этой схеме крещение становится не актом прощения и оправдания, а своего рода духовным семенем, которое человек должен взрастить собственными усилиями.
Такое понимание неизбежно ведет к искажению самой сути евангельского благовестия. Вместо радикального разрыва между смертью и жизнью, между осуждением и оправданием, мы получаем плавный процесс духовной эволюции, где человек постепенно «обоживается» посредством своих подвигов. Благодать здесь превращается в некую природную силу, содействующую человеческому восхождению.
В этой системе координат сама идея вмененной праведности Христа становится чуждой и непонятной. Если спасение есть процесс преображения природы, то какой смысл в юридическом акте оправдания? Если человек способен развивать семя благодати в силу своего ума и сил, то зачем нужна всепокрывающая праведность Христа?
За этим смещением акцентов стоит фундаментальное непонимание глубины человеческого падения. Грех рассматривается не как состояние виновности и отчуждения от Бога, требующее юридического разрешения, но лишь как повреждение природы, требующее исцеления. В результате все здание сотериологии оказывается построенным на зыбком основании полупелагианского оптимизма относительно человеческих возможностей.
Митрополит Макарий (Булгаков)
«Под следствиями же первородного греха Церковь разумеет те самые следствия, какие произвел грех прародителей непосредственно в них и которые переходят от них и на нас, каковы: помрачение разума, низвращение воли и удобопреклонность ее ко злу, болезни телесные, смерть и прочие. «А бременем и следствиями падения, – говорят восточные Патриархи в своем Послании о православной вере, – мы называем не самый грех… но удобопреклонность ко греху и те бедствия, которыми Божественное Правосудие наказало человека за его преслушание, как то: изнурительные труды, скорби, телесные немощи, болезни рождения, тяжкая до некоторого времени жизнь на земле странствования, и напоследок телесная смерть» (чл. 6).
Примеч. Это различение следствия первородного греха от самого греха надобно твердо помнить особенно в некоторых случаях, чтобы правильно понимать учение православной Церкви, – например, о плодах таинства Крещения, которое хотя изглаждает, уничтожает в нас первородный грех, т.е. очищает собственно греховность нашей природы, и соделывает нас чистыми и невинными пред Богом, но не уничтожает в нас самих следствий первородного греха, каковы: удобопреклонность ко злу, болезни, смерть и другие (Рим. 7:23)» (Руководство к изучению христианского, православно-догматического богословия, 3, 656).
Соборы, бывшие в пятом веке, по случаю ереси Пелагиевой, отвергавшей действительность первородного греха в людях. Известно, что с 412 года по 431 в разных местах христианского мирa, и на востоке, и в особенности на западе, было более двадцати соборов, которые рассматривали означенную ересь, и все единодушно предали ее анафеме. Объяснить такое единодушное восстание против заблуждения Пелагиева было бы невозможно, если бы в Церкви Христовой со времен самих Апостолов не было распространено и глубоко укоренено учение о первородном грехе» (Руководство к изучению христианского православно-догматического богословия, 3, 667).
Если крещение «соделывает нас невинными», то логично предположить, что вина есть? Если крестят младенца, то, вероятно, он, согласно учению о таинстве крещения, имеет вину? Выражение «очищает собственно греховность нашей природы… и соделывает нас невинными» нельзя понимать иначе, чем в том смысле, что поврежденная природа имеет наследованную вину.
Митрополит указывает на 20 соборов с 412 по 431 год. Однако, это не верно. Вот соборы прямо или косвенно причастные к рассмотрению пелагианского учения:
Синод в Карфагене (411 год).
Синод в Иерусалиме (415 год).
Диоспольский собор (415 год).
Карфагенский собор (416 год).
Милевский собор (416 год).
Синод в Риме под председательством папы Зосимы (417 год; оправдание Пелагия).
Карфагенский собор (417 или 418 год; протест против оправдания Пелагия).
Карфагенский собор (418 год; принятие антипелагианских постановлений).
Синод в Риме под председательством папы Зосимы (418 год; осуждение пелагианства).
Третий Вселенский (Эфесский) собор (431 год; косвенно, осуждение пелагианства).
Примечательно, что все эти соборы происходили на западе империи. Кроме Диоспольского, который Пелагия оправдал – характерный эпизод, хотя в дальнейшем Августин в сочинении «О деяниях Пелагия» (De gestis Pelagii) указал на то, что Пелагий избежал осуждения из-за своих уловок. Эфесский Собор лишь поддержал решение Римской кафедры об осуждении предводителей пелагианства и сообщил об этом папе Римскому Целестину I.
Если приводятся эти соборы, как нормативные в учении о первородном грехе, то надо заметить, что они прошли полностью под теологическим руководством Августина. Именно он сформулировал богословские идеи, которые легли в основу этих соборов. А его учение о первородном грехе в своей основе имеет вменение вины Адама его потомкам. Изучение Карфагенского собора (418) – отдельная тема для специалистов, но позволю выразить свое мнение: хотя в постановлениях Карфагенского собора (418) отсутствует прямое упоминание о наследуемой всеми людьми от Адама вине, нет оснований сомневаться в том, что участники собора были в этом вопросе единомышленниками Августина. Поэтому для них вполне могло быть самоочевидным, что учение о повреждении природы и о необходимости крещения младенцев предполагает также признание перехода на всех людей вины Адама.
Поэтому, мнение митрополита Макария, как и все православное понимание первородного греха полно противоречий, как я покажу ниже, в комментарии к цитате из сочинения Августина «О благодати Христовой и о первородном грехе».
Толковая Библия Лопухина
«Какое же было участие потомков Адама в его грехе? Оно не было сознательным и свободным – потомки Адама в то время еще не существовали, как личности. Но так как, по представлению Апостола, все человечество является неразрывным и единым организмом и каждый отдельный человек имеет предшествующее бытие в своих предках и последующее – в потомках, то, очевидно, все люди, по представлению Апостола, уже существовали в Адаме в форме общечеловеческой природы. Человек самою природою своею участвовал в преступлении Адама. Вступивший в природу первого человека грех поселил в ней начало смерти, и она уже с этим началом так и осталась и перешла к потомкам Адама (Мышцын, стр. 140–144). Но если участие всех людей в грехе Адама было безвольным и бессознательным, то возможно ли допустить, чтобы вечная судьба свободного и разумного индивидуума зависела от этого акта? Конечно, нет – это было бы несправедливо» (Толковая Библия. Толкование на Рим. 5:12 )8.
Вот классический аргумент против учения о вине Адама. Однако об оценке действий Творца со стороны своего творения я уже довольно писал выше.
Архиепископ Феофан (Быстров)
«Блаженный Августин, вследствие слабого знания греческого языка, недостаточно внимательно отнесся к подлинному греческому тексту послания апостола Павла и по той же причине не мог в надлежащей мере воспользоваться толкованиями на эти послания православных восточных отцов…
Поэтому св. Иоанн Златоуст, лучший знаток подлинного апостольского текста, находил в 5:12 только ту мысль, что “как скоро он Адам пал, то чрез него соделались смертными и не евшие от запрещенного древа”.
Так и блаженный Феодорит говорит: “Посему, когда Адам, находясь уже под смертным приговором, в таком состоянии родил Каина, Сифа и других, то все, как происшедшие от осужденного на смерть, имели естество смертное”»9.
Здесь нужно остановиться подробнее.
Современные православные богословы нередко утверждают, что учение о вменении вины за первородный грех возникло исключительно благодаря неправильной интерпретации Рим. 5:12 Августином, якобы из-за его слабого знания греческого языка.
Августин действительно знал греческий не в совершенстве, хотя и знал. Действительно, Августин пришел к своему толкованию еще до того, как сверился с греческим текстом. Свое понимание он использовал на основе латыни, это научно доказывается из его текстов. При этом Августин не первый, кто так понял это место у Павла. Он согласился с толкованием Амвросиаста на этот стих.
Это просто очередной невежественный анекдот, которых, к сожалению, большинство. Как, например, анекдот, что западная традиция основывается на Боге латинского права (Deus iuris), а православная на Боге любви (Θεὸς τῆς ἀγάπης). Якобы запад слишком любит закон, а вот для востока закон не нужен, потому что везде сплошная любовь. Анекдот про невежественного Августина основан на попытке обесценить его авторитет и западной традиции в целом, а не на объективном анализе текстов.
Прежде всего, аргумент о «слабом знании греческого» Августином сам по себе является слабым. Да, Августин предпочитал латынь, но он владел греческим достаточно для работы с оригинальными текстами.
Его интерпретации основывались на богословском видении и традиции, а не только на лингвистических деталях. Более того, обвинение, будто бы идея вменения вины появилась из-за Августина, просто абсурдно. До него о передаче вины за первородный грех уже говорили такие церковные авторы, как:
Ириней Лионский;
Тертуллиан, который в своих трудах утверждал, что грех и вина Адама передаются его потомкам через рождение;
Киприан Карфагенский, который настаивал на крещении младенцев для отпущения вины Адама;
Амвросий Медиоланский, который в своих трудах говорил о первородном грехе как о состоянии вины, передающейся через человеческую природу.
Таким образом, аргумент, что Августин «придумал» вмененную вину, противоречит историческим фактам. Уже задолго до него западные отцы Церкви рассматривали вину Адама как передающуюся его потомкам.
После Августина учение о передаче вины за первородный грех получило дальнейшее развитие и поддержку в западной традиции. В течение столетий это учение утвердилось как важнейший аспект христианской антропологии. Следует отметить, что богословы после Августина, такие как Проспер Аквитанский, Фульгенций Руспийский, Григорий Двоеслов, папа Лев Великий, Кассиодор, Боэций, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, Алкуин Йоркский, Раббан Мавр, Иоанн Скотт Эриугена, Ансгар Гамбургский, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, а позже и реформаторы – Мартин Лютер и Жан Кальвин, глубоко анализировали этот вопрос и укрепили его место в христианском учении.
Ансельм, например, утверждал, что Божий суд и наказание всегда справедливы. Если смерть и страдания передаются всему человечеству, это означает, что люди разделяют вину Адама. Его знаменитый труд «Почему Бог стал человеком» («Cur Deus homo») подчёркивает необходимость искупления, основанную на вмененной вине.
Фома в своем труде «Сумма теологии» чётко заявил, что первородный грех есть состояние вины, передаваемое от прародителей к потомкам. Он рассматривал передачу первородного греха как универсальное состояние, которое делает всех людей нуждающимися в благодати.
Лютер, опираясь как на латинский, так и на греческий текст, настаивал, что «все согрешили» означает универсальность греха и вины. Он подчеркивал, что в Адаме мы все не просто пострадали, но согрешили.
Для этих богословов это не просто богословская идея, а центральная истина христианской веры, связанная с благодатью Христа.
Критика аргумента о «греческом языке»
Все эти богословы, начиная с Тертуллиана и заканчивая Лютером и Кальвином, прекрасно знали греческий язык (лучше, чем большинство современных православных критиков). Они опирались не только на латинскую Библию, но и на оригинальный греческий текст.
Аргумент, что знание греческого как-то опровергает учение о вмененной вине, просто несостоятелен. Слова «πάντες ἥμαρτον» при любом толковании понимаются как «все согрешили»; спор идет том, как понимать стоящую перед этими словами конструкцию «ἐφ’ ᾧ» – «потому что» или «в котором». Из понимания «потому что» выводится пелагианская идея о том, что все согрешили сами, не в Адаме, а по его примеру. Любое прочтение не отменяет вывод о вменении, так как проблема не в лингвистике, а в богословском смысле. Павел дает аналогию: в Адаме – во Христе. Это центр его аргументации.
1. Проклятие и вина: взаимосвязь
Как утверждали учителя Церкви, невозможно представить проклятие над человечеством без вины. Божий суд всегда справедлив, и если все потомки Адама подвержены смерти, страданиям и изгнанию из райской благодати, то это происходит не только из-за повреждения природы, но и из-за вины. Проклятие предполагает справедливое основание, и это основание – вина за грех.
Таким образом, даже если читать Рим. 5:12 как «потому что все согрешили» вместо «в котором все согрешили», это не отменяет факта, что проклятие распространяется на всех, а проклятие Божье всегда справедливо.
2. Вмененная вина и Божия справедливость
Грех Адама – это не просто повреждение природы, но и акт, который изменил юридическое состояние человечества перед Богом. Если проклятие передается всем, это означает, что все виновны перед Богом.
Эта логика универсальна и разделяется как реформаторами, так и средневековыми католическими богословами. Если смерть и страдания – это результат осуждения, значит, это осуждение основывается на вине, разделённой всем человечеством в Адаме.
3. Вменение как акт благодати и спасения
Учение о вменении вины не только подчёркивает проблему первородного греха, но и делает ясным величие Божией благодати. Если грех Адама вменен всем его потомкам, то праведность Христа вменяется всем, кто верует в Него. Павел пишет:
«Ибо как через непослушание одного человека многие стали грешниками, так и через послушание одного многие станут праведниками» (Рим. 5:19).
Это параллель между Адамом и Христом. Вмененная вина и передача греха подчёркивают необходимость искупления через Христа. Без этого мы бы не могли понять, насколько велико дело искупления.
Такое понимание связывает всю христианскую традицию – от древних отцов до реформаторов, которые поддерживали учение о вмененной вине как фундаментальное выражение истины Божией справедливости и благодати.
Еще до Августина мы находим учение о наследуемой вине у Иринея, Тертуллиана, Киприана Карфагенского, Амвросия Медиоланского.
После Августина это учение исповедуют папа Лев Великий, Григорий Двоеслов, Фульгенций Руспийский и множество других отцов. Более того, оно получило соборное утверждение на Карфагенском соборе 418 года и было воспринято как неотъемлемая часть кафолического предания всей Церковью. Представлять учение о наследственной вине как частное богословское мнение Августина – значит игнорировать огромный пласт святоотеческого наследия и соборных определений Церкви. Это не «августинизм», а кафолическая истина, исповедуемая Церковью от апостольских времен. Учение о крещении младенцев во оставлении грехов закреплено Карфагенским собором (418), который принимался всегда всей Церковью. Осуждение пелагианства было выражено на Эфесском Вселенском соборе, где были подтверждены послания папы Целестина I. И хотя точной формулировки насчет наследуемой вины не содержится в актах собора, однако логика выражения «во оставление грехов» для младенцев и осуждение пелагинского учения, которое помимо прочего отрицало вину Адама, говорит о том, что суть учения о первородном грехе в контексте вины понималась как не просто теологическое мнение, а как неизбежная и неотъемлемая часть христианского вероучения. Осуждение пелагианства, которое отрицало необходимость благодати для спасения и утверждало, что человек может быть оправдан только своими собственными усилиями, неизбежно влекло за собой утверждение важности учения о первородном греха и его наследственном воздействии на все человечество. Именно это учение о первородном грехе, как наследственной вине, объясняло необходимость крещения, которое было доступно даже младенцам, поскольку оно очищает их от греха, унаследованного от Адама.
Эфесский собор 431 года, хотя и не формулировал напрямую учение о наследственной вине, также поддержал в своем контексте те решения, которые были направлены против пелагианства и признали неизбежность необходимости Божьей благодати для спасения. Послания папы Целестина I, поддерживающие осуждение пелагианства, были включены в акты собора и имели важное значение для дальнейшего укрепления истинного понимания первородного греха и роли благодати в спасении.
Таким образом, даже если Эфесский собор не дал точного определения учению о первородном грехе как наследственной вине, его решения тесно связаны с этим учением, и в контексте осуждения пелагианства оно воспринималось как основное вероучение Церкви. Хотя эти соборы стали частью универсального учения, признанного не только в западной, но и в Восточной Церкви, однако святоотеческая традиция на Востоке осталась, по сути, пелагианской или в лучшем случае полупелагианской, с акцентом не на незаслуженной благодати Бога, а не усилиях адепта по выбиванию этой благодати как энергии для самоспасения. И фактически, отвергая учение о наследуемой вине, восток отвергает авторитеты древних соборов.
Учение о полном повреждения и наследовании вины
Полное повреждение
Лактанций
«Итак, мы были прежде, казалось, слепы, и сидели, словно заключенные в темницу неразумия, не видя Бога и истины, теперь же мы озарены Тем, Кто усыновил нас заветом Своим, и нас, освобожденных от пут зла и приведенных к свету мудрости, принял [Господь] в наследие Царства Небесного» (Божественные установления, 4, 20, 1310).
Иларий Пиктавийский
«В заблуждении одного Адама стал заблудшим весь человеческий род» (Толкование на Евангелие от Матфея, 18, 6; перевод Д. В. Смирнова11).
«Мы обнаруживаем в человеке три вещи, а именно, тело, душу и волю. Ведь как телу была дана душа, так и каждому из них была дарована власть пользоваться собой по своей воле, и потому закон был дан воле. Однако это обнаруживается в тех людях, которые были сотворены Богом первыми, у которых начало их происхождения было впервые произведено, а не передано откуда-то еще. Но из-за греха и неверия первого родителя грех стал отцом нашего тела, а неверие – матерью нашей души для последующих поколений, поскольку мы приняли свое происхождение от них из-за преступления первого родителя. И притом каждому принадлежит его собственная воля. Таким образом, теперь в одном доме находятся пятеро: отец тела – грех, мать души – неверие, и проявляющаяся свободная воля, которая связывает с собой человека целиком неким союзом, подобным брачному. Неверие – это свекровь этой воли; оно принимает нас, рожденных им и удаляющихся от веры и страха Божия, чтобы удерживать нас, находящихся во власти неверия и греховного вожделения, пользуясь нашим неведением о Боге и услаждением всяческими пороками. Итак, когда мы обновляемся омовением крещения через силу Слова, мы отделяемся от грехов и властей, связанных с нашим происхождением; как бы отсеченные мечом Божиим, мы избавляемся от привязанностей к отцу и матери. Сняв с себя ветхого человека с его грехами и неверием, и обновленные Духом в душе и в теле, мы должны ненавидеть привычку к тому рождению и к той ветхости, от которых мы были избавлены» (Толкование на Евангелие от Матфея, 10, 23–24; перевод Д. В. Смирнова12).
Амвросий
«В одном человеке можно увидеть род человеческий. Был Адам, и в нем были все мы; погиб Адам, и в нем все погибли» (Изъяснение Евангелия от Луки, 7, 23413).
Амвросиаст
«“Продан греху” (Рим. 7. 14). Это и значит быть проданным греху: происходить от Адама, который первым согрешил, и становиться подчиненным греху из-за собственного преступления. Как говорит пророк Исаия: “Вы проданы за грехи ваши” (Ис. 50:1). Адам продал себя первым, и вследствие этого все его семя было подчинено греху. Поэтому человек слишком слаб, чтобы соблюдать предписания закона, если он не будет укреплен Божественной помощью. Отсюда слова: “Закон духовен, а я плотян, продан греху”. То есть: закон тверд, справедлив и не несет в себе вины, но человек хрупок и подчинен родительскому или собственному преступлению, так что он не может воспользоваться своей властью в деле послушания закону» (Толкование на Послание к Римлянам, 7, 14, 2–3; перевод Д. В. Смирнова14).
Августин
«Итак, зачем несчастные люди дерзают гордиться собственным свободным решением еще до того, как они освобождены, или собственными силами после того, как они были освобождены. Они не понимают, что в самом наименовании «свободное решение» в любом случае звучит слово «свобода»; ведь «где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17). Итак, если они рабы греха (Ин. 8:34), зачем они хвалятся своим свободным решением? Ведь «кто кем побежден, тот тому и отдан в рабы» (2 Пет. 2. 19). А если они уже были освобождены, зачем они хвастаются этим, словно каким-то собственным делом, и хвалятся, как будто бы они это не получили?» (О Духе и букве, 30, 52; перевод Д. В. Смирнова15).
«О человек, в заповеди познай, что должен ты иметь; в упреке познай, чего ты не имеешь по своей порочности; в молитве познай, откуда принять тебе то, что желаешь иметь» (Об упреке и благодати, 3, 516)
«Пусть умолкнут здесь человеческие заслуги, погибшие по вине Адама; и пусть царствует царствующая благодать Божия через Иисуса Христа, Господа нашего, единственного Сына Божия, единого Господа» (О предопределении святых, 15, 3117).
«Ведь то, что обещает Бог, – это делаем не мы своим [свободным] решением или природой, но Он Сам Своей благодатью» (О благодати Христовой и о первородном грехе, 1, 30, 31; перевод Д. В. Смирнова18).
«Но люди трудятся, чтобы найти в нашей воле нечто доброе, что было бы нашим и не происходило бы от Бога; как это можно найти – я не знаю» (О воздаянии за грехи и об отпущении грехов, 2, 18, 28; перевод Д. В. Смирнова19).
Проспер
«Нет необходимости вновь трудиться, излагая то, что уже хорошо известно: каким учением пелагианская ересь замышляла разрушить кафолическую веру и какими ядами нечестий эта ересь желала отравить внутренности Церкви и важнейшие жизненные органы Тела Христова. Однако среди всего этого нечестия есть одно богохульство, наиболее негодное и наиболее изощренное семя прочих, а именно, когда пелагиане говорят, что благодать Божия дается по заслугам людей. Ведь сначала пелагиане желали наделить человеческую природу весьма великим здоровьем, утверждая, будто она может посредством одного только свободного решения приобрести Царство Божие, и указывая в качестве основания этого на то, что само ее устроение оказывает ей достаточную поддержку и помогает ей в том, чтобы она, естественным образом обладая размышляющим разумом, с легкостью избирала доброе и избегала злого; и поскольку деятельность воли может свободно склоняться как в одну, так и в другую сторону, злые люди не лишены способности совершать добро, но не имеют собственного стремления к этому» (Письмо Руфину, 1, 2; перевод Д. В. Смирнова).
Здесь мы сталкиваемся с поразительным фактом: то, что Проспер Аквитанский обличает как «самое негодное богохульство» пелагианской ереси, стало основой православного учения о спасении. Православное богословие утверждает именно то, что было осуждено Церковью как пелагианство:
что благодать дается в ответ на человеческие усилия и заслуги;
что падшая природа сохраняет достаточное здоровье для самостоятельного избрания добра;
что человек своими силами может искать Бога и приходить к вере;
что он способен собственными усилиями эту веру удерживать;
что через подвиг веры он стяжает благодать.
Это не просто отдельные элементы пелагианства в православном учении – это само существо пелагианской ереси. Когда православные богословы говорят о «свободе воли», о «синергии», о «стяжании благодати», они почти дословно повторяют те самые формулировки, которые были осуждены Церковью в борьбе с Пелагием.
Поэтому неверно называть православие «полупелагианским» – оно воспроизводит именно чистое пелагианство в его сущностных утверждениях о способности падшей природы к добру и о зависимости благодати от человеческих усилий. То, что древняя Церковь единодушно осудила как ересь, стало краеугольным камнем православной сотериологии.
Наследование вины
Ириней
«Но так как посредством того же самого, через что мы оказали непослушание к Богу и не поверили Его Слову, Он привнес послушание и покорность Слову Его, то Он через то ясно показал Того же Бога, Которого мы в первом Адаме оскорбили неисполнением Его заповеди, и с Которым мы примирились во втором Адаме, «быв послушны даже до смерти». Ибо не другому кому мы были должниками, а Тому, Коего заповедь преступили вначале» (Против ересей, 5, 16, 320).
Тертуллиан
«Итак, всякая душа до тех пор оценивается по Адаму, пока не будет переоценена во Христе; до тех пор нечистая, пока не будет переоценена; грешница, ибо нечистая, принимающая также и бесчестие плоти из-за их общности» (О душе, 40, 121).
В этом выражении Тертуллиана ключевым является слово «оценивается». Речь идет не о физическом повреждении природы, а о юридическом и личностном отношении Бога к человеку. До Христа каждая душа рассматривается Богом в свете преступления Адама – находится под гневом и осуждением, независимо от механизма передачи вины.
Тертуллиан улавливает важнейший аспект учения апостола Павла: первородный грех – это прежде всего состояние отчуждения от Бога, положение вражды и гнева. Как все человечество находилось под осуждением «в Адаме», так теперь верующие обретают оправдание и примирение «во Христе».
Эта параллель между двумя состояниями – осуждения в Адаме и оправдания во Христе – составляет сердце евангельского благовестия. Без понимания того, что проблема греха лежит прежде всего в сфере отношений с Богом, а не в области природных повреждений, невозможно постичь суть спасения как примирения и усыновления. Тертуллиан прозревает эту истину, говоря об «оценке» души – речь идет о том, как Бог рассматривает человека: либо как преступника в Адаме, либо как возлюбленного сына во Христе.
Киприан Карфагенский
«Не должно возбранять [принять крещение] младенцу, который, недавно родившись, ни в чем не согрешил, а только, родившись по плоти от Адама, воспринял заразу древней смерти, проистекающую от первого рождения, и который тем удобнее приступает к принятию отпущения грехов, что ему отпускаются не собственные, а чужие грехи» (Письмо 64, 5, 2; перевод Д. В. Смирнова22).
Эта цитата акцентирует внимание на осуждении, переданном от Адама, которое снимается только через крещение. Это свидетельствует о том, что для Киприана грех Адама имеет как индивидуальное, так и коллективное значение.
Киприан Карфагенский утверждал, что все люди рождаются под влиянием первородного греха, который передается от Адама. Он не использовал термин «вмененная вина» в западно-схоластическом смысле, но его учение подразумевает коллективное осуждение человеческого рода из-за грехопадения.
Амвросий Медиоланский
«Несомненно, все мы вольноотпущенники Христа, и никто не свободен, потому что все рождены в рабстве. Почему ты позволяешь себе высокомерие свободного при рабском положении? О рабское наследие, почему ты присваиваешь себе благородные звания? Разве ты не знаешь, что грех Адама и Евы продал тебя в рабство [в оригинале: culpa mancipauerit, вина продала]? Разве ты не знаешь, что Христос выкупил тебя, а не впервые купил? “Не золотом и не серебром искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровью Агнца” (1 Пет. 1:18–19), – восклицает апостол Петр» (Об Иакове и блаженной жизни, 1, 3, 1223).
«Ведь грех – от Адама, от него – вина, от него же и Ева, от него же – преступление, от него же – и человеческое состояние. Но именно для того и пришел Христос, чтобы уничтожить все ветхое, создать новое и обновить благодатью то, что было обветшавшим из-за вины» (О Товите, 23, 88; перевод Д. В. Смирнова24).
«И смерть распространилась на всех, хотя и через грех одного [человека]. Итак, не отказываясь от него как от причины рождения, мы не должны отказываться от него и как от причины смерти. Пусть для нас будет как через одного смерть, так через одного и воскресение. Не будем отвергать бедствия, чтобы достичь благодати. Ведь, как мы читаем, Христос пришел спасти то, что погибло (Лк. 19:10), чтобы Он был Господом не только живых, но и мертвых (Рим. 14:9). Я пал в Адаме, я был изгнан из рая в Адаме, я умер в Адаме. Кого же [Бог] возвратит [к жизни], если не найдет меня в Адаме? Как в Адаме я связан виной и обречен на смерть, так во Христе я оправдан» (О кончине брата Сатира, 2, 6; перевод Д. В. Смирнова25).
Святой Амвросий являет нам в этих словах кристальную ясность апостольского учения о первородном грехе. Как солнечный луч, преломляясь в драгоценном камне, являет всю чистоту его граней, так и мысль святителя Медиоланского раскрывает перед нами непреложную истину о наследственной вине.
Здесь нет места двусмысленности или уклончивости! В едином исповедании веры святой отец соединяет и всеобщность вины Адамовой, и универсальность искупления во Христе. «В Адаме я пал… в Адаме умер» – этот горький плач о реальности унаследованной вины находит свое разрешение только в торжественном возглашении: «Во Христе я оправдан»!
Величие святоотеческой мысли являет себя здесь в абсолютной верности апостольскому благовестию: как вина праотца вменяется всему роду человеческому, так и праведность последнего Адама даруется всем верующим. В этом исповедании Амвросия звучит та же Божественная логика спасения, которую начертал апостол Павел: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).
Амвросиаст
«“В котором” – то есть в Адаме – “все согрешили” (Рим. 5:12). Ясно, что в Адаме все согрешили как бы в смеси (in massa), ведь он был испорчен грехом, так что все, кого он родил, были рождены под грехом. Итак, от него мы все грешники, поскольку от него мы все происходим. Ведь он потерял благоволение Божие, когда совершил преступление, стал недостойным вкушать от древа жизни, и потому умер. Смерть же есть разделение души и тела. Есть и другая смерть, которая называется второй, в геенне, но ее мы терпим не из-за греха Адама; она приобретается собственными грехами, для совершения которых он дал повод. От этой смерти добрые освобождены, хотя они и находились в аду, но в его высшей, как бы свободной части, поскольку не могли подняться на небеса; ведь они были удерживаемы приговором, данным в Адаме. Этот приговор был стерт в постановлениях смертью Христа. А сам приговор этого постановления заключался в том, чтобы тело каждого человека распадалось на земле, а его душа, удерживаемая узами ада, претерпевала состояние погибели» (Толкование на Послание к Римлянам, 5, 12, 3–4; перевод Д. В. Смирнова26).
Августин
«Теперь уже обратите пристальное внимание и на то, с какой осторожностью вы должны слушать людей подобного рода, когда они рассуждают о крещении младенцев. Они не осмеливаются открыто отрицать для этого возраста купель возрождения и прощение грехов, поскольку христианские уши не смогли бы этого вынести. Однако они продолжают упорно отстаивать и защищать свое мнение, согласно которому телесное потомство не повинно (obnoxiam) в грехе первого человека, хотя, как кажется, они соглашаются с тем, что крещение преподается младенцам для отпущения грехов» (О благодати Христовой и о первородном грехе, 2, 1; перевод Д. В. Смирнова27).
Это не случайное сходство, а признак одной и той же богословской ошибки. Пелагий, стремясь сохранить формальную верность церковной традиции, произносил правильные слова о крещении младенцев «во оставление грехов», но опустошал их смысл своим учением об отсутствии наследуемой вины. Точно так же сегодня, когда мы слышим, что младенцы нуждаются в крещении, но не имеют вины первородного греха, мы должны ясно понимать: перед нами та самая ересь, которую Церковь осудила в лице Пелагия.
Нельзя укрываться за православными формулами, отрицая их существенное содержание. Если младенцы не имеют вины, то зачем им прощение? Если их природа только повреждена, но не виновна, то почему крещение совершается «во оставление грехов»? Эти противоречия обличают пелагианскую сущность такого богословия, сколь бы православным оно ни казалось внешне.
Фульгенций
«Ведь блаженный апостол говорил о безвозмездном милосердии, которым Бог спасает тех, кого хочет, без каких-либо их заслуг, и о справедливом суде, которым Он с безупречной праведностью осуждает остальных. Говоря сперва о младенцах, Исаве и Иакове, он сам поставил перед собой вопрос о том, почему одному из них была безвозмездно дарована любовь по незаслуженному милосердию, а другому справедливо воздано осуждение по заслуженному приговору, хотя обоих связывала вина первородного греха, и они не имели никакой заслуги собственных дел, поскольку еще не родились и еще не сделали ничего доброго или злого». (Об истине предопределения и благодати Бога, 2, 19, 33; перевод Д. В. Смирнова28).
Мысль Фульгенция возносит нас к престолу Божественного правосудия, где милость и суд изливаются не по делам человеческим, но по предвечному изволению. Исав подпадает под праведный гнев Божий не за преступления, которых он еще не совершил, но за вину Адамову, тяготеющую над всем человеческим родом. А Иаков, носитель той же наследственной вины, восхищается из бездны осуждения непостижимым избранием любви – не по заслугам, которых не могло быть у нерожденного, но по неисследимому совету предвечной благодати. Так в судьбе двух братьев, еще не вкусивших ни добра, ни зла, являет себя двойное действие Божие: правосудие, карающее за вменяемую вину Адама, и милость, спасающая без всякой заслуги со стороны человека.
Лев Великий
«Вступает в этот дольний мир Сын Божий, нисходя с небесного престола… Новым же рождением рожден – ибо нерушимое девство не знало похоти, но предоставило сущность плоти. От матери Господа взята природа, но не вина. Создан образ раба без рабского состояния, и новый человек так соединился с ветхим, что и истину рода воспринял, и порок ветхости исключил» (Проповеди, 22, 2; перевод Е. В. Жукова29)
«Да познает же кафолическая вера в смирении Господа славу свою, и да радуется Церковь, которая есть тело Христово, о таинствах своего спасения. Ибо если бы Слово Божие не стало плотью и не обитало с нами, если бы Сам Творец не снизошел в общение с творением и Своим рождением не призвал ветхое человечество к новому началу, царствовала бы смерть от Адама до конца, и над всеми людьми пребывало бы нерушимое осуждение, поскольку по одному только условию рождения для всех была единая причина погибели. Итак, один только среди сынов человеческих Господь Иисус родился невинным, ибо один лишь был зачат без скверны плотского вожделения, став человеком нашего рода, чтобы мы могли стать причастниками Божественного естества» (Проповеди, 25, 5; перевод Е. В. Жукова).
Папа Лев Великий однозначно говорит о вмененной вине первородного греха. Это видно из нескольких ключевых фраз:
1) «Поскольку по одному только условию рождения для всех была единая причина погибели». Здесь прямо утверждается, что само условие рождения (то есть происхождение от Адама) является причиной осуждения.
2) «Над всеми людьми пребывало бы нерушимое осуждение». Важно слово «condemnatio» (осуждение), которое имеет юридический характер и указывает именно на вину, а не просто на повреждение природы.
3) Контраст между Христом и всеми остальными людьми: «Единственный среди сынов человеческих Господь Иисус родился невинным». Это означает, что все остальные рождаются виновными.
Таким образом, для Льва Великого первородный грех – это не просто повреждение природы или наследственная порча, но именно вина, юридическое осуждение, которое распространяется на всех потомков Адама по самому факту их рождения от него.
Григорий Великий
«Если бы он [т.е. Иов] умер сразу, как только вышел из утробы, разве он приобрел бы самой этой погибелью какую-нибудь заслугу, предполагающую воздаяние? Разве умершие в утробе младенцы наслаждаются вечным покоем? Ведь всякий, кто не освобожден водой возрождения, удерживается связанным виной первых уз. Причем то, что у нас ныне имеет силу сделать вода крещения, у древних для младенцев делала одна лишь вера, для взрослых – сила жертвоприношения, а для тех, кто происходили из рода Авраама, – таинство обрезания. О том, что каждый человек зачинается с виной первого родителя, свидетельствует пророк, говоря: “Вот, в беззакониях я зачат” (Пс. 50:7). А о том, что тот, кого не омыла спасительная вода, не избежит наказания за первородную вину, открыто утверждает сама Истина, говоря: “Если кто не родится от воды и Духа Святого, не будет иметь жизни вечной” (ср.: Ин. 3:5)» (Нравственные толкования на Книгу Иова, 4, предисловие, 3; перевод Д. В. Смирнова30).
Григорий уточняет, что первородный грех нельзя рассматривать только как наказание (например, смертность и страдания). Грех Адама оставил в людях вину, которая делает их ответственными перед Богом.
Григорий Великий подчеркивает, что первородный грех – это не просто состояние повреждённой природы или наказания, но и вина, передающаяся каждому человеку от Адама.
Профессор А.В. Иванов
Интересно, что когда православные богословские институты получили достаточное развитие, когда профессора стали всерьез воспринимать монументальные работы своих западных коллег, то они уже не могли отмахнуться от очевиднейших истин Писания так просто, не погрешая против научной достоверности. Это был период середины и конца XIX века. Вот, например, что пишет православный богослов, профессор Александр Васильевич Иванов (1837–1911):
«Чтобы показать, каким образом заслуги Иисуса Христа вменяются нам, Апостол представляет всё Человечество как нечто органически целое, в котором действия и свойства одного члена, одного человека сообщаются и другим членам, находящимся с ним в каком-либо родстве. Разительный пример этого представляет грех первого человека. Согрешил один человек, и между тем грех этот, а с ним и смерть, перешли ко всем людям. И что особенно замечательно, смерть царствовала над людьми и до Моисея, хотя Закона еще не было, и потому не должно было быть и вменения греха (Рим. 5:12–14). Это должно доказывать, что подсудность человека и смерть зависела не от личной неправедности его, а была наследственна. Так может сделаться наследственною и праведность и жизнь, приобретенная заслугами Единого Иисуса Христа (Рим. 5:15–19). Как Закон пришёл после и только для того, чтобы умножить преступление, так и благодать явилась в изобилии, чтобы умножить праведность (Рим. 5:20–21).
Стих 12. «В нем же вси согрешиша» (ἐφ’ ᾧ). В первом человеке все согрешили, потому что все были в нём. Возможность совершения такого греха всеми людьми в одном человеке со стороны естественной объясняется происхождением всех людей и по телу и по душе от одной четы. По выражению Оригена, Адам как бы в зародыше, в семени (in potentia) носил в себе всё Человечество: и как он, так и каждый из потомков его, «роди сына по виду своему и по образу своему» (Быт. 5:3). Со стороны юридической возможность передачи греха от одного человека всем его потомкам объясняется тем, что Адам был представитель всех людей, в лице котораго Бог заключил Свой Завет со всем Родом Человеческим. Такую именно передачу греха доказать важно было для мысли Апостола (1 Кор. 15:22); посему неправильно Пелагий и другие принимали “ἐφ’ ᾧ” в значении подобно, как ниже (Рим. 5:14): “ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι”, делая таким образом первородный грех не наследственным, а личным. Учение о первородном грехе, находящееся в тесной связи с догматом об Искуплении, с самых первых времён было исповедуемо Церковью и яснейшим образом выражено в Церковной практике, в крещении младенцев, но особенно оно было раскрыто и определённо выражено на Поместном Карфагенском Соборе 418 года – по случаю появления ереси Пелагия, прямо отвергавшего это учение» (Руководство к изучению Нового Завета31).
Мы видим, что в данном случае профессор Иванов прямо передает учение о вменении вины потомкам Адама. Он прямо цитирует Августина и ссылается на антипелагианскую полемику. Также, прямо обращает внимание на так называемый юридический аспект наследования вины, при этом использует греческий оригинал, а не латинский перевод.
Соборы
Диоспольский собор (415)
Августин сообщает об оглашенных на Диоспольском соборе тезисах, извлеченных из некоего сочинения Целестия, ныне утраченного:
«Далее были предъявлены Пелагию как обвинения другие наиболее важные главы Целестия, несомненно, подлежащие осуждению; если бы Пелагий не анафематствовал их, то он сам, без сомнения, был бы осужден вместе с ними… В третьей главе Целестий писал, что “благодать Бога и Его помощь не подаются нам для отдельных действий, но заключаются в свободном решении, или в законе и учении”; и еще, что “благодать Бога дается в соответствии с нашими заслугами, поскольку Бог показался бы несправедливым, если бы дал ее грешникам”; и он сделал вывод такими словами: “Поэтому и сама благодать помещена в моей воле; она зависит от того, буду ли я достоин или недостоин”… Теперь, после этого суда, если мы станем оспаривать такого рода изречения, мы, конечно же, будем вести спор против уже осужденной ереси» (О деяниях Пелагия, 14. 30).
В свете постановлений Диоспольского собора 415 года современное православное учение о синергии и стяжании благодати предстает как трагическое возрождение осужденной ереси. Как весенние воды размывают древний фундамент, так полупелагианские тенденции подтачивают основы евангельского благовестия.
Когда православное богословие утверждает принцип «дай кровь и прими дух», оно вторит осужденному учению Целестия о благодати, даруемой по заслугам. В этой формуле человеческий подвиг становится условием излияния благодати, словно смертный может поставить условия Вечному. Сама мысль о том, что благодать может быть «стяжана» через аскетические усилия, есть не что иное, как утонченная форма древнего заблуждения.
Учение об обожении через подвиг разбивается о камень соборного определения. Если Целестий был осужден за утверждение, что «благодать должна даваться по заслугам», то как может устоять православная доктрина о стяжании благодати через аскетические труды? В обоих случаях благодать превращается из свободного дара в награду за человеческие достижения.
Особенно показательно утверждение Целестия о том, что благодать содержится в свободной воле. Разве не то же самое утверждает православная синергия, где человеческая воля предстает как независимый соработник благодати? Здесь древняя ересь облекается в одежды мистического богословия, но суть остается той же: человек становится распорядителем благодати.
Карфагенский собор (418)
«Всякий, кто отвергает, что младенцам, недавно [происшедшим] из материнской утробы, надлежит принимать крещение, или кто говорит, что они принимают крещение для отпущения грехов, однако не заимствуют от Адама ничего, относящегося к первородному греху, что и очищается купелью возрождения, – и вследствие этого чин крещения для отпущения грехов понимается применительно к младенцам [уже] не в истинном, а в ложном смысле, – таковой да будет анафема.
Ведь то, что говорит апостол: через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, и таким образом перешел во всех людей, в котором все согрешили, следует понимать не как-то иначе, но только таким образом, каким это всегда понимала повсюду распространившаяся кафолическая Церковь. Итак, в соответствии с этим правилом веры, младенцы, которые сами по себе еще не могли совершить никакого греха, также вполне истинно все принимают крещение для отпущения грехов, чтобы посредством возрождения в них очистилось то, что они заимствовали по происхождению [от Адама]».
Оранжский собор (529)
«Если кто утверждает, что преступление Адама повредило только ему одному, но не повредило также и его потомству, или заявляет, что в действительности через одного человека на весь человеческий род перешла только телесная смерть, являющаяся наказанием за грех, но не перешел также и грех, являющийся смертью души, – таковой припишет несправедливость Богу и будет противоречить апостолу, говорящему: Через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, и таким образом перешел во всех людей, в котором все согрешили» (Глава 2).
Как мы пониманием, наказание может быть только там, где есть вина. Равно как и справедливость в наказании может быть только при наличии вины.
«Если кто утверждает, что человек силами [собственной] природы может с пользой помыслить или избрать нечто благое, относящееся к спасению и вечной жизни, либо может согласиться со спасительной, то есть евангельской, проповедью, [причем это происходит] без просвещения и вдохновения Святого Духа, Который подает всем наслаждение при согласии с истиной и при вере в нее, – таковой обманывается еретическим духом».
Это как раз адресовано пелагианскому учению, утверждающему, что «вера – это дар человека Богу» (Глава 7).
«[Свободное] решение воли, ставшее немощным у первого человека, не может быть восстановлено иначе, как благодатью крещения; то, что было потеряно [человеком], может вернуть [ему] только Тот, Кто [прежде] дал [ему] это; поэтому Сама Истина говорит: Если Сын освободит вас, тогда вы истинно будете свободны» (Глава 17).
Это также ответ пелагианскому учению, на предмет того, что человек сохраняет полностью свободу к спасающему добру.
«Бог делает в человеке много добра, которого не делает сам человек, однако человек не делает никакого добра, которое Бог не дарует человеку сделать» (Глава 20).
«Ни у кого нет ничего своего, кроме лжи и греха; если же человек обладает чем-то, относящимся к истине и праведности, то это происходит из того источника, к которому мы должны с жаждой устремляться в этой пустыне, чтобы, словно освеженные из него некими каплями влаги, мы не ослабли в пути.
Итак, в соответствии с вышеприведенными изречениями Священного Писания и определениями древних отцов, мы, по благоволению Бога, должны проповедовать и веровать, (1) что свободное решение [воли] было весьма сильно испорчено и ослаблено грехом первого человека, поэтому (2) никто после этого не может ни любить Бога так, как надлежит, ни веровать в Бога, ни делать ради Бога что-либо доброе, если человека не предварит благодать Божественного милосердия. Поэтому мы веруем, (3) что не благом природы, которое было дано [людям] прежде в Адаме, а благодатью Бога была предоставлена та преславная вера, которую имели праведный Авель, Ной, Авраам, Исаак, Иаков и все древние святые; эту веру, восхваляя их, проповедует апостол Павел.
Мы также знаем и веруем, что (4) уже после пришествия Господа эта благодать не зависит от свободного решения всех тех, кто желают принять крещение, но предоставляется им по щедрости Христа…
Мы также спасительно исповедуем и веруем, (7) что во всяком добром деле не мы полагаем начало, а затем нам помогает милосердие Бога, но Сам Бог первым внушает нам без всяких [наших] предшествующих добрых заслуг и веру, и любовь к Себе, чтобы мы и стремились по вере к таинству крещения, и после крещения могли исполнять с Его помощью то, что Ему угодно» (Глава 27)32.
Глава
II
. Гнев
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:18–32).
Предисловие
В бездонной глубине падшего человечества лежит камень преткновения, о который разбиваются волны самодостаточности и гордости. Первородный грех – не просто древняя богословская концепция, но живая реальность, пульсирующая в каждой человеческой судьбе. Невозможно постичь масштаб Божественного негодования, открывающегося с небес на всякое нечестие, не углубившись в корни трагедии, произошедшей на заре человеческой истории. Адамово падение – это не изолированное историческое событие, оставшееся в тени веков, но космическая катастрофа, отголоски которой слышны в каждом биении сердца, в каждом вздохе человечества.
Вмененная вина Адама – не просто юридическая фикция в Божественном судопроизводстве, но онтологическая реальность, пронизывающая все бытие человека. Подобно тому, как корни дерева, уходящие в отравленную почву, передают яд каждой ветви, каждому листку, так и корень человеческого рода передал горечь своего отступления всем потомкам. Не по произволу Божественной власти, но по неумолимой логике сотворенного бытия распространился яд греха, растекаясь по артериям человеческого рода.
В свете откровения гнева Божия первородный грех предстает не как абстрактное богословское построение, но как фундаментальная диагностика человеческого состояния. Без этого диагноза лечение остается поверхностным, не затрагивающим корень болезни.
Апостол Павел, начиная свое послание с открытия гнева Божия, строит величественную арку богословской мысли, основание которой – не первородный, а личный грех. Не случайно апостол погружается в бездну человеческого нечестия прежде, чем возвести взор к вершинам Божественной благодати. Ибо глубина падения определяет высоту спасения.
В главах 1–3 Послания к Римлянам апостол Павел разворачивает беспощадную диагностику человеческого состояния. Он рисует поражающую своей правдивостью картину нравственного падения человечества – сначала языческого мира (глава 1), затем самоправедного иудейства (глава 2), и, наконец, выносит вселенский приговор: «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10).
Личные грехи, столь ярко изображенные апостолом в 1-й главе, представляют собой не изолированные акты плохого выбора, но системные проявления глубинной поврежденности человеческой природы. Они являются неизбежным следствием первородного греха – того изначального разрыва с Богом, который лишил человечество направляющей и укрепляющей благодати.
Апостол указывает на причинную связь между отвержением Бога и нравственным разложением: «Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства» (Рим. 1:28). В этом «предании» обнаруживается действие Божественного гнева, который проявляется не в произвольном наказании, но в закономерном удалении благодати от тех, кто отверг ее источник.
Человек, лишенный благодати вследствие первородного греха, не обладает внутренними ресурсами для жизни в святости. Он может проявлять отдельные добродетели, производить впечатляющие нравственные поступки, но неспособен к системной праведности, к целостному соответствию Божественному закону.
Эта неспособность не отменяет ответственности – парадоксальным образом человек свободно совершает то, что не может не совершить. Его выбор реален, но предопределен внутренней испорченностью. Как раб, который добровольно остается в рабстве, так грешник свободно избирает свои оковы.
История человечества знает множество примеров выдающихся добродетелей среди язычников и ветхозаветных праведников. Благородство Сократа, мудрость Сенеки, верность Руфи, мужество Даниила – эти и многие другие примеры свидетельствуют о том, что образ Божий в человеке не уничтожен полностью.
Однако эти проявления добродетели, при всей их ценности, не преодолевают фундаментального разрыва между человеком и Богом. Даже самые праведные из людей не достигают абсолютного стандарта святости. Как утверждает Писание: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).
Библейское учение указывает на радикальное следствие греха: «Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Для вынесения этого приговора достаточно единственного преступления. Подобно тому, как разбитое зеркало не может отражать совершенный образ, так и душа, пораженная хотя бы одним грехом, утрачивает способность к истинному богообщению.
Эта строгость Божественного стандарта не является произвольной жестокостью, но отражает саму природу святости, не допускающую никакого компромисса с грехом. Как одна капля яда может отравить весь сосуд с водой, так один грех поражает всю личность, все ее отношение с Богом.
Логика, раскрытая апостолом Павлом в первых главах Послания к Римлянам, ведет к неизбежному выводу: человек не может спасти себя сам. Никакое нравственное самоулучшение, никакое религиозное рвение не способно преодолеть пропасть, созданную грехом. Только сверхъестественное вмешательство, только незаслуженная благодать может изменить фундаментальное состояние человека.
И именно к этому вмешательству – к искупительной жертве Христа – ведет апостол свою мысль, подготавливая читателя к восприятию благой вести о спасении через веру. Только осознав глубину своего падения, человек может оценить высоту Божественного дара.
Апостол Павел в первых главах Послания к Римлянам разворачивает перед нами панораму человеческого нечестия, рисуя картину личных грехов с беспощадной ясностью. Языческий мир погружен во мрак идолопоклонства, иудейский – в трясину самоправедности. Арена истории предстает как поле битвы, где каждый человек своими поступками возводит баррикады против Творца.
Однако в этой мрачной симфонии грехопадения звучит глубинный вопрос: почему картина столь универсальна? Откуда эта поразительное единодушие в отступлении от Бога? Почему небесный приговор так категоричен: «Нет праведного ни одного»?
Здесь обнаруживается парадокс апостольской мысли. Описывая явление, Павел начинает с видимого – личных преступлений. Но, исследуя причину, он восходит к невидимому – первородному греху. Как опытный врач, он сначала описывает симптомы болезни, чтобы затем указать на ее глубинную природу.
Между 1-й и 5-й главами Послания к Римлянам существует не хронологическая, но логическая связь. Плоды предшествуют в описании, но корни первичны в бытии. Мы сначала видим действия греха в истории, чтобы затем постичь его исток в метаистории.
Состояние вражды, о котором говорит апостол, не просто результат множества неправильных выборов. Напротив, эти выборы – неизбежное следствие глубинного отчуждения от Источника жизни. Человек не потому враг Богу, что грешит; он грешит потому, что уже находится в состоянии вражды.
В этом заключается глубочайшая трагедия человеческого бытия: мы не просто совершаем отдельные преступления против небесного закона, но носим в себе закон противления Богу. Не отдельные поступки, но само устроение человеческого существа подверглось катастрофической деформации.
В богословской мысли Павла личный и первородный грех не противостоят, но дополняют друг друга в страшной диалектике падения. Первородный грех создает онтологические предпосылки, а личный грех – их экзистенциальное воплощение. Один действует как глубинный принцип, другой – как его конкретная манифестация.
Потому так важно начать повествование с первородного греха, хотя апостол в своем послании движется от личного к первородному. Ибо в порядке познания мы восходим от очевидного к сокрытому, но в порядке бытия именно сокрытое порождает очевидное.
И здесь раскрывается величайшая тайна Евангелия: Бог не отменяет Свой гнев, но берет его на Себя.
Не устраняет пропасть между святостью и грехом, но перекрывает ее крестом. Не объявляет грех незначительным, но платит за него высочайшую цену.
Таким образом, начав с первородного греха прежде рассмотрения личных преступлений, мы обретаем ключ к пониманию всей сотериологии апостола Павла. Не случайно апостол в 5-й главе переходит от Адама к Христу, от первого человека ко второму, от источника проклятия к источнику благословения.
Павел настаивает: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Этот приговор не знает исключений, не допускает градаций. Он указывает не на количественное различие в грехах, но на качественное состояние всего человечества перед лицом святого Бога.
Бог, будучи источником всякой жизни, святости и блага, по самой Своей природе противостоит всему, что отрицает эту жизнь и это благо. Его гнев – не эмоциональная реакция, подобная человеческому раздражению, но онтологическое противление всякому искажению изначального порядка творения.
В лабиринтах современной православной мысли теряются драгоценные жемчужины апостольского богословия. Утренний свет Посланий апостола Павла затмевается сумеречным туманом псевдо-восточной сентиментальности. Там, где апостол громом обрушивает истину о Божественном гневе, византийские эпигоны шепчут об энергиях и синергии, о восхождении и обожении.
Пелагианская струя, пробившаяся сквозь плотину соборных анафем, разлилась широким потоком в восточном богословии. Она принесла с собой иллюзию человеческого достоинства, мираж нравственной самодостаточности, призрак свободы, не сокрушенной грехом. В этой системе координат Божественный гнев становится досадным недоразумением, литературным преувеличением, метафорой, которую следует поскорее истолковать до полного исчезновения.
Как может гневаться Творец на творение, если творение сохранило в себе искру добра? К чему удовлетворение правосудия, если нет преступления, достойного вечной смерти? Зачем искупление, если человек способен сам взобраться по лестнице добродетелей к престолу Всевышнего?
Православное богословие, увлеченное неоплатоническими категориями, вытеснило юридические образы Писания на периферию своей рефлексии. «Гнев», «удовлетворение», «оправдание», «искупление» – эти термины заклеймлены как «западные», как будто географическая привязка может умалить их богодухновенность. Само слово «запад» в церковной риторике превратилось в ярлык, указывающий на богословскую порчу, на трещину в фундаменте, на измену апостольской вере.
Но чьи же это термины на самом деле? Не Ансельма Кентерберийского, не Фомы Аквинского, не Мартина Лютера. Это лексикон апостола Павла. Это его образный строй, его система координат, его богословская парадигма.
Отвергая «юридическое» понимание спасения, восточное богословие невольно отвергает не средневековую схоластику, но апостольский способ мышления. В стремлении защитить теплоту Божественной любви от холода закона, оно жертвует целостностью богооткровенной истины.
Когда из уст церковных апологетов звучат обвинения в адрес «западного» боговидения, якобы зараженного римской юриспруденцией, юридизмом и законничеством, в противоположность «восточной» традиции чистой любви, не знающей ни суда, ни закона – эти слова вызывают духовное отторжение. Этот риторический прием не просто искажает историю богословской мысли, но извращает самую суть Евангелия.
Профессор А. И. Осипов с кафедры утверждает: «Бог есть любовь и только любовь». Красота этой фразы подкупает своей эмоциональной теплотой. Однако это утверждение представляет собой опасную редукцию библейского откровения. Да, Бог есть любовь. Но Он также свят, праведен, и – да! – гневен по отношению к греху.
Полнота нашего знания о Боге черпается не из философских интуиций, не из мистических созерцаний, но из корпуса текстов, собранных под одним переплетом – Библии. И апостол Павел, чье богословие составляет сердцевину Нового Завета, ставит гнев Божий в начало своего величайшего богословского трактата: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие» (Рим. 1:18).
В пелагианской системе, где человеческая природа сохраняет свою фундаментальную доброту, а грех понимается как болезнь, но не как смерть – гнев Божий становится излишним элементом, нарушающим гармонию теологической конструкции. Если человек способен собственными силами, пусть даже с помощью Божественной энергии, подняться из праха, то искупление превращается не в необходимость, но в один из возможных путей спасения.
Православие, формально отвергая пелагианство, фактически впитало его антропологический оптимизм. Отсюда проистекает минимизация значения гнева и искупления. Если человек от природы сохраняет способность к добру, может сам прийти к Богу и вере, сам (хотя и с помощью благодати как духовной энергии) участвовать в своем спасении – тогда гнев Божий и примирение через кровь Христову становятся периферийными, непонятными, необязательными элементами сотериологии.
Между тем, апостольская логика неумолима: если все согрешили и лишены славы Божией, если возмездие за грех – смерть, если человек мертв по преступлениям и грехам, то спасение возможно только через искупительную жертву, удовлетворяющую требования Божественной справедливости.
Отбросим ли мы павловскую логику повествования и богословия ради мнимой «любвеобильности» Востока, противопоставленной холодному западному разуму (ratio) и закону (lex)? Пожертвуем ли ясностью апостольской мысли ради туманных спекуляций византийских мистиков?
Не трагедия ли это – когда Церковь, призванная хранить апостольское предание, вытесняет апостольские категории мышления на периферию своего богословия? Не измена ли это – когда слова «гнев Божий» вызывают смущение у православных богословов, хотя именно с этих слов апостол начинает объяснение благой вести?
Возвращение к истокам апостольского богословия – вот насущная задача современной православной мысли. Не отрицание «западных» категорий, но признание их библейского происхождения. Не изгнание юридических образов, но восстановление их в полноте богооткровенного смысла. Не противопоставление любви и гнева, но понимание их таинственного единства в Божественной природе.
Только тогда православие сможет избавиться от пелагианского наследия и вернуться к целостному восприятию Евангелия, где гнев Божий и любовь Божия не противоречат, но дополняют друг друга в непостижимой тайне искупления.
В тенетах православного умозрения утрачена огненная субстанция Павловой керигмы. Там, где громы Синая и молнии Дамаска высвечивают пропасть между тварью и Творцом, византийские софисты плетут вязь эфемерных дистинкций. Где апостол языков возвещает о вулканической мощи Божественного негодования, пурпурные риторы воспевают квиетические экстазы и перихорезы. Где Павел дробит мрамор духовного самодовольства молотом гнева Божия, византийские риторы возводят воздушные замки теозиса.
Те из сынов Адамовых, кого Вседержитель предопределил в Своем предвечном совете к сыноположению, взирают на Библию не как на лампаду, которую достаточно возжечь в субботний день, но как на светильник, озаряющий тьму каждого мгновения их земной юдоли. Для них Писание – не сакральный объект, облаченный в оклады и виньетки, но живое дыхание Духа, проникающее до самых глубин мозга костного.
В этом теофорическом корпусе, запечатлевшем откровение Неизреченного, словосочетание «гнев Божий» раздается более пятисот раз сквозь пергаменты Библии. Это не периферийная тема, не случайная обмолвка богодухновенных авторов, но лейтмотив всей священной истории от Эдема до Армагеддона.
Чтобы постичь архитектонику спасения, проникнуть в лабиринты сотериологии, необходимо сначала осознать, от какой бездны нас отторгла десница Всевышнего. И здесь обнаруживается метафизическая близорукость восточной догматики. Спросите православного богомудра, от чего спасает нас Христос, и услышите сакраментальную формулу: «от греха и смерти».
Формула верна, но в своей абстрактности подобна бронзовому колоколу без языка.
Произнеся эту формулу, мы тотчас низвергаемся в адские глубины антропологической ловушки. Ибо грех, словно левиафан, все еще извергает свой яд в сердцевину нашего существа. А смерть, верховная жрица тления, по-прежнему собирает свою нещадную жатву, не делая исключения ни для патриархов в саккосах, ни для схимников в веригах, ни для иерархов в омофорах.
В этой оптике спасение немедленно испаряется из актуальной реальности и переносится в эсхатологическую потенциальность. Оно становится не данностью, но заданностью, не полученным наследством, но призрачным призовым венцом, который еще нужно заслужить бесчисленными метаниями, утомительными стояниями и стенаниями, изнурительным «озлоблением плоти».
Так совершается роковая транспозиция: спасение из категории обязательного переходит в категорию опционального, из области объективной онтологии – в царство субъективной аскетики. В этой концепции Божественное деяние, совершенное во вневременной полноте, подменяется человеческим усилием, распластанным по оси времени.
И вот что примечательно: в своих богословских прогулках адепт православия обходит стороной огненную тему гнева. Он избегает этой рубрики не по случайности, не по забывчивости, но по глубинному отторжению. Говорить о Боге в категориях гнева кажется ему вульгарным антропоморфизмом, непростительным ляпсусом «западного» мышления. Но для Нового Завета ответ на вопрос «от чего мы спасены» буквален и очевиден: «И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1 Фес. 1:10), «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9). И что получается, если мы убираем гнев Божий из сотериологии? Очевидно, мы убираем и спасение. Поэтому православный никогда не спасен. Он очень надеется на свои успехи, по которым, его, якобы, помилуют. На свой уровень обожения, на свой уровень «стяжанного Духа». Но раз гнева нет, то нет и Павлова спасения в прошедшем времени или лучше сказать вечном, профетическом перфекте. Он ставит «спасемся» как бы в будущее. Но так как «будучи оправданы Кровию Его» уже совершено, то «спасемся» – это решенный вопрос, хотя и грамматически стоит в будущем времени. Вот что мы получаем раз за разом в православной сотериологии: ничего не произошло, все нужно сделать самому. Нет первородного греха как вины, значит нет и настоящего, случившегося оправдания. Нет гнева, значит нет и уже полученного спасения от него. Как мы увидим, это относится ко всем дальнейшим элементам: нет жертвы, нет креста, нет духовного рождения, нет предопределения и избрания – в итоге что есть? Я покажу это ниже.
О, эта «восточная» утонченность, этот православный эстетизм! Как несовместимы с ним суровые контуры апостольского благовестия! Как оскорбительны для византийского уха грубые аккорды Павлова богословия! Как невыносимы для изнеженного эллинистическими мистериями сознания жесткие императивы Послания к Римлянам!
В этом селективном подходе к Писанию обнаруживается не просто экзегетическая причуда, но онтологическая предпосылка: отрицание первородного греха как тотального повреждения человеческой природы. Ибо только в пелагианской антропологии, где человек сохраняет интактной свою изначальную благость, гнев Божий становится чужеродным элементом, который необходимо извергнуть из теологической системы.
В лампадном полумраке храмов культивируется миф о «любвеобильном» Востоке, противостоящем «законническому» Западу. Здесь Бог представляется не как «огонь поядающий» (Евр. 12:29), но как эфирная субстанция, растворенная в золотистом мареве фаворского света. В этой тонкой атмосфере нет места для вулканических извержений гнева, для тектонических сдвигов правосудия.
Так православие, призванное хранить апостольское преемство, совершает эпистемологический разрыв с самой сердцевиной апостольского богословия. Отцы церкви превращаются из экзегетов Павла в его корректоров. Традиция, вместо того чтобы служить интерпретационным ключом к Писанию, становится герменевтическим фильтром, отсеивающим «неудобные» элементы библейского откровения.
Только возвращение к изначальным категориям новозаветного мышления способно восстановить целостность христианского благовестия. Не отказ от «западных» категорий, но признание их аутентично-библейского характера. Не вытеснение юридических образов на маргиналии богословия, но восстановление их в исконном достоинстве богодухновенной речи.
Ни эллинистический эстетизм, ни византийская мистагогия не способны заменить апостольскую ясность и бескомпромиссность. Церкви необходимо вернуться к той точке, откуда начинается подлинная сотериология: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков» (Рим. 1:18).
Только через огненные врата гнева лежит путь к райским кущам благодати. Только через признание глубины падения открывается перспектива высоты восстановления. Только через осознание безнадежности проклятия можно постичь неизреченность благословения.
Вражда между Богом и человеком имела глубинный, фундаментальный характер. Она возникла не из недостатка информации или неверного восприятия, но из реального противостояния воль. Человек, созданный в гармонии с Творцом, превратился в антагониста Божественной святости.
Грех, подобно раковой опухоли, поразил не отдельные аспекты человеческой природы, но саму ее сущность. Разум омрачился, чувства извратились, воля ослабела. В каждой сфере человеческого бытия обнаруживался симптом метафизического заболевания, превратившего венец творения в узурпатора Божественных прерогатив.
Писание не оставляет места для антропологического оптимизма. Пророки и апостолы единогласно свидетельствуют о тотальном повреждении человеческой природы. «Сердце человеческое крайне испорчено» (Иер. 17:9), – констатирует Иеремия, а Павел вторит ему: «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10).
Но самое страшное заключалось не в моральной испорченности, а в юридическом положении. Человек стал не просто грешником, но преступником, заслуживающим наказания. Между ним и Богом встал не просто барьер непонимания, но стена осуждения.
В этом контексте абсолютного разрыва происходит невероятное: Бог инициирует примирение. Не человек, погрязший в нечестии, но Тот, против Кого было направлено острие бунта, делает шаг навстречу. Логика небес опрокидывает земные представления о справедливости и воздаянии.
Примирение совершается через жертву. Не через компромисс, не через забвение прошлого, не через снижение стандартов, но через добровольное принятие на Себя последствий вражды. «Смертью Сына Его» (Рим. 5:10) – это не просто способ, это единственный путь, соответствующий как святости Бога, так и глубине человеческого падения.
Крест становится точкой пересечения противоположностей – гнева и любви, справедливости и милости, суда и прощения. В этом средоточии мировой истории происходит нечто невообразимое: Судия занимает место подсудимого, Святой берет на Себя проклятие грешников, Царь облекается в одежды раба.
Результатом этого космического события становится не просто отмена вражды, но установление радикально новых отношений. Павел использует термин «мир», который превосходит простое отсутствие конфликта. Это не нейтральная зона между противниками, но живое единство, основанное на совершённом искуплении.
Трансформация отношений с Богом от вражды к миру преображает всю систему человеческого бытия. Это не просто изменение статуса, но перерождение личности. Примиренный с Богом человек получает новую идентичность, новые мотивы, новые цели.
Прежде всего, меняется направленность жизни. Если раньше человек, даже в своих религиозных стремлениях, центрировался на себе, то теперь центром становится Христос. Эгоистическая орбита сменяется теоцентрической. Даже благие дела совершаются уже не для самооправдания, но из благодарности.
Меняется и эмоциональная палитра духовной жизни. Страх как доминирующее чувство перед лицом гнева уступает место радости. Не страх наказания, но страх огорчить Возлюбившего – вот новая мотивация нравственного поведения. Тревога сменяется доверием, борьба – сотрудничеством.
Наконец, меняется восприятие страдания. В контексте примирения любая скорбь воспринимается уже не как проявление Божественного гнева, но как средство формирования характера. Страдающий верующий видит в своих испытаниях не знак отвержения, но знак усыновления.
Путь от вражды к миру, от противостояния к примирению – это центральная тема Евангелия. Осознание глубины прошлой враждебности позволяет оценить высоту настоящего примирения. Чем яснее мы видим бездну, из которой извлечены, тем отчетливее понимаем величие дара, которым наделены.
В этом заключается парадокс христианской вести: лишь признав себя врагом Бога, человек может стать Его другом; лишь осознав абсолютное отчуждение, он может обрести абсолютную близость; лишь увидев гнев во всей его полноте, он может постичь любовь во всей ее глубине.
Примирение через смерть Сына Божьего – это не одна из возможностей среди многих, но единственный мост, перекинутый над пропастью греха. И тот, кто проходит по этому мосту, не просто избегает наказания, но входит в новую реальность – реальность мира с Богом, превосходящего всякое разумение.
Свидетельства Писания
Примеры Божьего гнева в Ветхом Завете включают события строгого наказания и предостережения.
В книге Исход Бог говорит: «И воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами» (Исх. 22:24). Эти слова подчеркивают последствия непослушания и идолопоклонства: «Они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их; ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поядает землю и произведения ее, и попаляет основания гор; соберу на них бедствия и истощу на них стрелы Мои: будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою; и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле; извне будет губить их меч, а в домах ужас – и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца» (Втор. 32:21–25).
Суть гнева Божьего раскрывается не в желании наказания ради наказания, а в стремлении к исправлению, в восстановлении Божественного порядка, который был нарушен грехом. Это выражение Божественной справедливости, направленной на то, чтобы привести заблудшие души обратно к пути истины и спасения.
Важно осознавать, что каждый человек на Земле, не обретший спасение, находится в состоянии вражды с Богом. Это не просто разногласия или недопонимание, это фундаментальный конфликт в отношениях с Богом. Бог и грешник становятся противниками друг друга. И одно из первых зримых проявлений греха – что невозрожденные люди отвергают Библию. Это не должно вызывать удивления, ведь они находятся под влиянием сатаны, как говорится в Евангелии от Иоанна: «Отец ваш дьявол» (Ин. 8:44), и в Послании к Ефесянам: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф. 2:1–3). Первое послание Иоанна также подтверждает: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19).
Отвержение Библии – это не академический вопрос, а отражение враждебности к Богу, характерной для падшего человека. Эта ненависть к Божественной истине сохраняется даже среди спасенных, поскольку плоть продолжает существовать и сопротивляться истине.
Но в невозрожденных людях это сопротивление доминирует, и они ведут борьбу против Бога, который, в свою очередь, ведет борьбу против них. Ветхий Завет полон примеров Божьего гнева на непокорность и отступничество: «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним и они к вам, то знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь, Бог ваш» (Нав. 23:12–13).
Сопротивление Слову Божьему, отвержение Божественного откровения встречает гнев Бога. В Послании к Ефесянам говорится, что весь мир буквально находится под властью князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления (Еф. 2:2). В этом и заключается проблема. Есть люди, которые принадлежат к царству сатаны, у которых сатанинские наклонности, которые управляются сатаной.
Поэтому я теперь понимаю, когда люди говорят: «Неверующие не хотят слушать Библию», и не удивляюсь, когда слышу, что даже верующие сопротивляются Писанию, потому что в них не совершилось перерождение. Вот несколько цитат из Ветхого Завета, дающих ощущение отношения Бога к грешникам:
Ис. 5:25 «За то возгорится гнев Господа на народ Его, и прострёт Он руку Свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах. И при всём этом гнев Его не отвратится, и рука Его еще будет простерта».
Ис. 53:6 «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас».
Ис. 13:9 «Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее».
Ис. 63:3–6 «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя – она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их».
Ис. 66:15–16 «Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его – как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом».
Иер. 21:5–6 «И Сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою, во гневе и в ярости и в великом негодовании; и поражу живущих в сем городе – и людей и скот; от великой язвы умрут они».
Наум. 1:2–3 «Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако – пыль от ног Его».
Пс. 7:12–14 «Бог – судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими».
Из Нового Завета лишь приведу лишь несколько мест:
Еф. 5:6 «Да не обольщает вас никто пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов непослушания».
Гнев Божий есть неизбежное будущее падшего мира, согласно Писанию:
Мф. 3:7 «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?»
Откр. 16:1 «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю».
Откр. 16:19 «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его».
Откр. 19:5 «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя».
Рим. 2:5 «Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога».
Рим. 2:8 «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, – ярость и гнев».
Рим. 12:19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь».
1 Фес. 2:16 «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца».
Евр. 10:26 «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников».
Средоточием онтологической реальности «гнева» могут быть стихи псалма: «Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих, и потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой» (Пс. 94:10–11).
Грех вызывает гнев, гнев приводит к вражде – состоянию противоположному миру (шалом) Божию, или миру с Богом.
И Павел, как я говорил выше, ставит гнев и вражду в одно предложение со спасением, это единый неразрывный сотериологический конструкт:
Рим. 5: 9–10 «Поэтому, оправданные теперь кровью Его, мы тем более будем чрез Него спасены от гнева, ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом чрез смерть Сына Его…».
Общее откровение
Человек в своем падшем состоянии не знает Бога. Всеобщее согласие о существовании богов или иных сверхъестественных существ человек получал из опыта. Вместе с тем, такой опыт является с точки зрения Библии универсальным, повсеместным. Именно универсальность такого опыта и создает вину человека за отказ в поклонении единому Богу. Всеобщая вина и Божий гнев на весь человеческий род и на каждого человека в отдельности являются результатом того, что Бог дает человеку чувственный опыт, через который он может осознать бытие единого Творца.
Павел пишет об этом так: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1.18–20).
Богословская мысль издревле различает два сущностно разных пути, которыми Творец открывает Себя творению. Эти пути не конкурируют, но соотносятся как универсальное с частным, как шепот с прямой речью, как общий контур с точным портретом. Первый доступен всем живущим под небесами; второй предназначен для избранных слушателей, способных принять особую тяжесть познания.
Общее откровение раскрывается как универсальное свидетельство, доступное всякому человеку, в какую бы эпоху он ни жил, к какому бы народу ни принадлежал. Оно говорит через гармонию мироздания, через упорядоченность космоса, через непреложность нравственного закона в человеческой совести. Это откровение не требует ни пророческого дара, ни особой мудрости – только открытые глаза и чуткое сердце.
Однако при всей своей доступности общее откровение ограничено в глубине. Оно свидетельствует о бытии Божием, о Его могуществе и премудрости, но молчит о Его природе. Из созерцания творения человеческий разум может вывести существование Творца, но не постичь Его внутренней жизни. Это откровение подобно фундаменту здания – необходимому, но недостаточному.
Общее откровение формирует своеобразный монотеистический минимум – представление о едином, всесильном, разумном начале всего сущего. Такое представление объединяет и иудеев, и христиан, и мусульман, и деистов, признающих отдаленного Творца, устранившегося от созданного мира. Но здесь же проходит граница общего откровения – оно не раскрывает сердца Бога, Его целей, Его отношения к человеку.
В противоположность всеобщему характеру первого пути, особое откровение ограничено определенным кругом получателей. Оно не разлито по всему миру, но направлено к конкретным личностям и народам. Это не всеобщий доступ, но избирательное призвание; не общий поток, но узкое русло, направленное к избранным сосудам.
Если общее откровение говорит языком творения, то особое откровение использует слова человеческой речи. Оно передается через пророков, апостолов, записано в священных текстах, а в христианском понимании достигает высшей точки в воплощении Сына Божия. Это не косвенное, но прямое обращение Бога к человечеству, не намек, но ясное слово.
Содержание особого откровения несравненно богаче общего. Здесь раскрывается не только существование Божие, но и Его природа; не только Его могущество, но и Его замыслы; не только Его разум, но и Его сердце. В особом откровении мы узнаем о тринитарной структуре Божества, о плане спасения падшего человечества, о средствах восстановления разорванной связи между небом и землей.
Два потока Божественного самораскрытия не противоречат друг другу, но существуют в иерархическом отношении. Общее откровение создает предпосылки для восприятия особого, формирует базовый фундамент теизма, на котором возводится здание конкретного богопознания. Особое откровение не отменяет, но восполняет общее, дает ключ к его правильному пониманию.
Избирательность особого откровения не означает произвольности или элитарности. В экономии спасения эта избирательность имеет инструментальный, а не финальный характер. Бог избирает немногих не для того, чтобы отвергнуть многих, но чтобы через немногих достичь всех. Избрание Израиля, призвание апостолов, формирование Церкви – все это звенья единой цепи универсального спасительного замысла.
В конечной перспективе две сферы откровения должны соединиться, когда «земля будет наполнена познанием Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9). Партикулярное станет универсальным, избранное – всеобщим. Однако на нынешнем этапе истории сохраняется дихотомия между всеобщим свидетельством творения и избирательным гласом откровения.
Полнота богопознания достигается только в гармоничном сочетании обоих потоков откровения. Общее откровение без особого остается бессловесным, неопределенным, открытым для искажающих интерпретаций. Особое откровение без общего висит в пустоте, лишается универсального основания, превращается в эзотерическое знание отдельной группы.
Сочетание универсального и партикулярного, всеобщего и избирательного, имплицитного и эксплицитного создает необходимый баланс в богопознании. Бог говорит и через величественное молчание Вселенной, и через конкретные слова Откровения. Он открывает Себя и в общем порядке мироздания, и в конкретных событиях священной истории.
От созерцания творения к слышанию слова, от восхищения мудростью Творца к трепету перед жертвой Искупителя – таков путь истинного богопознания, соединяющий оба потока Божественного самораскрытия.
1 Пар. 29:11 «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий».
1 Пар. 29:12 «И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все».
Пс. 110:3 «Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек».
Последний стих наиболее показателен в нашем размышлении. Человеку присуще от рождения чувственное познание красоты, силы, могущества «через рассматривание творений видимых». Человек также может познавать Бога через выводимые из познания окружающего мира общие понятия и категории, такие как разумность, мудрость, осмысленность. Именно все это делает человека «безответным» перед Богом – Божие творение и управление миром с одной стороны и человеческие формы познания, служащие для интерпретации опыта взаимодействия с окружающим миром. Безусловно, Библия не собирается доказывать, что такие формы мышления должны с математической точностью приводить любого человека к одному и тому же монотеистическому выводу. Как раз здесь и начинается разделение: я могу понять, что говорит Библия, но если я не согласен, и мне кажется это неприятным, то я начинаю менять учение Библии, разрабатывая свое новое учение, и создавая вместо Бога Библии фантом у себя в голове. Потом распространяя этот фантом на окружающих, мы вместе получаем ложного бога, которому поклоняемся, становясь идолопоклонниками. Даже если этого ложного бога мы оденем в ризы проповедника из Галилеи и нарисуем ему красивую бороду с завитушками.
Теперь рассмотрим этот же аргумент с точки зрения естественной теологии. Павел говорит о том, что незримое в Боге, Его вечная сила и Божественность, стали ясно видимыми разуму во всем созданном Им (Рим. 1:20). Это означает, что природа и нравственный закон могут служить свидетельством о существовании Бога. Многие люди испытывают интуитивное ощущение или внутреннюю уверенность в присутствии Божьей благодати, когда они наблюдают красоту природы или ощущают глубину моральных принципов.
Также и в Книге Премудрости Соломона мы находим схожее понимание универсальности общего откровения:
«Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, Виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их; ибо от величия красоты созданий сравнительно познается Виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его: потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны: если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его?» (Прем. 13:1–9).
Как мы видим, текст весьма близок к тексту апостола Павла. И в Послании к Римлянам и в Книге Премудрости Соломона ключевым является представление о «неизвинительности» (ἀναπολόγητος) человека перед гневом Бога в отношении поклоняющихся «твари вместо Творца».
В Деяниях апостолов мы находим также мысль об общем откровении и общей благодати универсально, для всех людей:
«И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян. 14:15–17).
Также, важным элементом знания о Боге является совесть. Апостол Павел продолжает в Послании к Римлянам:
«Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14–15).
Некоторые богословы универсалисты приводят эту цитату, которая якобы должна «спасать» всех людей, которые не веруют во Христа, но живут по совести. Однако, как мы видим из контекста, все как раз наоборот. Это все делает людей «неизвинительными», а не оправданными. Имея совесть и хоть раз преступив ее повеления, человек становится преступником Божественного закона и подлежит как Адам изгнанию и смерти. В этом мысль Павла. А не в том, что «живущие по совести имеют шанс на спасение».
Праведность язычников и иудеев до Христа
Вопрос о возможности истинного богопознания в падшем мире проходит красной нитью через все Писание. От пророческого обличения Осии, указывающего на отсутствие подлинного богопознания на земле, до новозаветного учения о познании Бога только через Христа, библейское свидетельство остается последовательным – падшее человечество не имеет доступа к спасительному знанию Бога. Есть многие христианские мыслители и пастыри, которые утверждают, что, люди, жившие «по совести» или по законам своей религии также будут спасены, вне зависимости от их отношения к Христу в земной жизни.
Священное Писание проводит фундаментальное различие между интеллектуальным осознанием существования Бога и личным познанием Его через опыт общения. В греческом языке Нового Завета это различие выражается не столько разными терминами, сколько разными смысловыми оттенками одних и тех же слов, в зависимости от их контекста.
Глагол «γινώσκω» (познавать) используется в Новом Завете в различных значениях. В некоторых случаях он обозначает общее и неопределенное знание – обычную интеллектуальную осведомленность, как, например, в словах Христа: «Вы знаете (γινώσκετε), как различать лицо неба» (Мф. 16:3). В других контекстах этот же глагол указывает на особое, глубоко личностное познание через непосредственный опыт. Существительное «διάνοια» (разум, мысль) также не противопоставляется этому личностному познанию, но может выступать как инструмент для него. Как говорит апостол Иоанн: «Сын Божий пришел и дал нам разум (διάνοιαν), да познаем (γινώσκωμεν) Бога истинного» (1 Ин. 5:20).
Именно второй тип познания Бога является спасительным. В этом смысле глагол «γινώσκω» используется также для описания интимной близости между супругами, указывая на глубокую, личностную природу настоящего богопознания. Когда Иисус говорит, что «жизнь вечная в том, чтобы знать Тебя» (Ин. 17:3), Он подразумевает именно этот смысл – речь идет не о теоретическом понимании, но о личном общении.
Новозаветное свидетельство однозначно – никто не знает Отца, кроме Сына и того, кому Сын хочет открыть (Мф. 11:27). Это исключительное право Христа – раскрывать истинную природу Бога. Без этого откровения человечество остается во тьме, даже при наличии религиозного рвения или интеллектуального осознания существования высшей силы.
Дохристианское человечество, включая ветхозаветных праведников, могло иметь определенный уровень понимания Бога, но не то спасительное познание, о котором говорит Новый Завет. Язычники совершенно не заботились иметь Бога в разуме, за что и были преданы превратному уму (Рим. 1:28). Иудеи имели закон и пророков, но их познание оставалось неполным и несовершенным.
Положение ветхозаветных праведников представляет особую сложность. С одной стороны, они жили в рамках заветных отношений с Богом, получали откровения, проявляли веру. С другой стороны, они не имели того полного откровения, которое принес Христос, и не могли иметь совершенного спасительного познания Бога.
Моисей, Авраам, Давид и другие праведники Ветхого Завета были орудиями Божьими, через которых Он действовал в мире. Они имели определенные отношения с Богом, но эти отношения не давали им «жизни вечной» в том смысле, о котором говорит Христос. Их праведность, при всей своей искренности, не могла быть совершенной.
Если бы законническая праведность – будь то праведность язычников по закону совести или иудеев по закону Моисееву – была достаточной для спасения, то жертва Христа стала бы излишней. Как пишет апостол Павел: «Если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2:21). Сама необходимость крестной смерти Спасителя свидетельствует о невозможности спасения через человеческую праведность.
Я глубоко убежден, что вся библейская линия свидетельствует об исключительности Христа как единственного пути спасения. Праведники Ветхого Завета спасались не своей праведностью, но верой в грядущего Мессию, чья жертва имела ретроспективную силу.
Их положение можно сравнить с положением человека, получившего кредит под будущее обеспечение. Они жили в состоянии «отсрочки платежа», и окончательное их спасение зависело от того, что Христос действительно исполнит все обетования.
Идея о возможности спасения вне Христа – через естественное богопознание или через закон Моисеев – подрывает центральное учение Нового Завета об исключительности и необходимости жертвы Спасителя. Если множество путей ведут к спасению, то зачем был необходим крест? Если праведность по закону достаточна, то для чего Сыну Божию принимать мучительную смерть?
Подлинное богопознание, дающее жизнь вечную, возможно только через Христа и только после возрождения от Духа. Вне этого остается лишь интеллектуальное осознание существования высшей силы, которое объединяет христиан с последователями других религий, но не дает им спасения. Только во Христе открывается полнота Божества, только через Него мы можем познать Отца тем спасительным знанием, которое есть жизнь вечная.
Свидетельства Писания
Ос. 4:1 «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле».
1 Кор. 1:21 «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих».
1 Рим. 1:28,32 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства… Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти».
2 Фес. 1:8 «В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа».
Еф. 4:18,20–21 «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их… Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе».
И самое главное:
Мф. 7:23 «И тогда объявлю им: “Я никогда не знал (ἔγνων) вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”».
Ин. 17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».
1 Ин. 5:20 «Знаем (οἴδαμεν) также, что Сын Божий пришел и дал нам разум, да познаем (γινώσκωμεν) Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе».
Ин. 8:55 «И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его».
Ин. 10:15 «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец».
Мф. 11:27 «Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
Неизвинительность
В Рим. 1:20 и 2:1 греческое слово «ἀναπολόγητος» означает «неизвинительность», «безответность». Переводится и понимается всеми в одном смысле: люди под гневом и не могут оправдаться невежеством: «Ибо что невидимо – как Его вечная сила и божественность, – то от создания мира открывается человеку в размышлении о сотворенном Богом мире» (Рим. 1:20; перевод Десницкого). Я не хотел бы начинать приводить тексты церковных учителей, но в данном случае есть абсолютное согласие среди всех насчет однозначного понимания «неизвинительности» для язычников.
А в 3-й главе апостол Павел переходит с язычников на иудеев и говорит:
«Мы же знаем: если подчиняться закону, то целиком, без изъятия. Так что нечего тут говорить: весь мир подлежит Божьему суду. Никто из людей не достигнет праведности перед Ним соблюдением закона, закон дает человеку лишь представление о грехе» (Рим. 3:19–20; перевод Десницкого).
И да, здесь стоит другое прилагательное – «ὑπόδικος» – подлежать суду, быть подсудным, как говорят некоторые. Однако результат этого суда не в том, что кто-то оправдается, а в том, что «кто полагается на соблюдение закона, на того падает проклятие, ведь написано: “Проклят всякий, кто не сохраняет всего написанного в книге закона и не соблюдает этого”» (Гал. 3:10; перевод Десницкого).
Таким образом, апостол Павел, начав с причины неизвинительности язычников, затем указывает на неизвинительность иудеев и заключает: «Все они согрешили и лишились славы Божьей» (Рим. 3:23; перевод Десницкого). И уже затем, показав в трех главах полную безответность, вину, грех, вражду между человеком – как язычником, так и иудеем – и Богом, апостол пишет:
«Все они согрешили и лишились славы Божьей, но их искупил Христос Иисус – и так Он наделил их праведностью. Такой дар получили они по Его благодати. Бог по Его вере принял Его кровавую смерть как жертву во очищение людских грехов. Так Бог явил Свою праведность, прощая совершенные прежде грехи» (Рим. 3:23–25; перевод Десницкого).
Прощать можно только тем, у кого есть вина. Даже странно об этом говорить.
Марк Подвижник: «Когда услышишь слова Писания: “Воздаст комуждо по деянием его” (Мф. 16:27), то оно не разумеет дела, которые сами по себе достойны геенны или Царствия, но дела собственного неверия или веры, за которые Христос воздаст каждому не как соразмеряющий вещи, но как Бог Создатель и Искупитель наш. Мы, которые удостоились бани пакибытия, совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты» (О тех, которые думают оправдаться делами. 21–2233).
Поэтому и притча в 25-й главе Евангелия от Матфея, и любые другие места Писания про спасительные дела относятся не к тем, кто был милосерд и жил по совести или по своей религии, а только к истинно верующим, которые без Христа «не могут творить ничесоже», а дела лишь характеризуют спасительный характер их веры в противовес пустым словам о вере: «Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи… И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”» (Мф. 7:22–23).
И проверить это все очень легко. Мы берем классическое доказательство от противного: если вина не всеобщая или ее нет вообще, если есть какие-то особые группы людей, если есть какие-то особые частные механизмы (спасение по совести и делам), если гнев Божий и проклятие на смерть на самом деле лишь преувеличения (как утверждает А. И. Осипов, следуя Исааку Сирину), если все дело в исцелении, обожении и проч., то утверждение апостола Павла о примирении является также относительным и вообще непонятным. И все дальнейшие возвещения истины о жертве, искуплении, прощении, возрождении, смерти для греха и прочем будут непонятными, что и характеризует православие. То есть, если на первом шаге мы не принимаем буквально того, что нам возвещает Писание, придумываем какие-то дополнительные конструкции, сглаживаем, как нам кажется, острые углы, дорисовываем Богу улыбку там, где ее нет, то и получаем в итоге нарисованного Бога, чем славится православие – сплошные рисунки Бога, кто во что горазд.
Спасение по делам, в том числе по делам исполнения закона Моисея, а также возможность для всех людей не грешить, хотя и с большим трудом, чем если бы нам помогала благодать, проповедовал Пелагий. Приведу одну лишь характерную выдержку из сочинения Мария Меркатора, отражающее согласное церковное отвержение данных идей:
«Пелагий не побоялся подвергнуть нас, пребывающих в подчинении Евангелию, похожему или одинаковому проклятию с теми, кто были подчинены закону, уравняв евангельскую благодать с законом обрезания и со всяким иудейством. Потому также и его ученик Целестий дерзнул открыто провозгласить, что “закон приводит в Царство Небесное так же, как и Евангелие”. Ведь понятно, что, согласно Пелагию, если мы все еще находимся в тех же или подобных узах закона, тогда и в евангельское время, если мы как люди в чем-то ошибемся или не исполним одну из заповедей Евангелия, мы будем прокляты. Если это так, – чего да не случится, – однако если это сказано в том смысле, в каком угодно Пелагию, тогда Евангелие уравнивается с ветхим законом. И где тогда будет изречение апостола Павла: “Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись проклятием за нас?” ( Гал. 3:13). Поскольку написано: “Проклят всякий человек, который не пребывает во всем том, о чем написано в книге закона, чтобы он это делал” (Втор. 27:26)» (Предостережение против Целестия; перевод Д. В. Смирнова34).
Итак, Послание к Римлянам возвещает нам универсальность, повсеместность, всеобъемлющий охват гнева. Нет ни одного человека, на которого бы он не падал, не распространялся, не угрожал занесенным мечом.
Рим. 3:10–12: «Как написано: “Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога; все сбились с пути, разом пришли в негодность; нет творящего доброе, нет ни одного”» (перевод еп. Кассиана).
Православное богословие
Самым показательным, собирательным взглядом на этот вопрос мы можем считать небольшую книгу Александра Каломироса – современного греческого богослова и проповедника, автора книг и статей по богословию и апологетике, ревностного защитника православия. В книге «Река огненная»35 он пишет:
«Это диавол заставил людей думать, что Бог не любит нас, но любит только Самого Себя; что Он готов мириться с нами только в том случае, если мы ведем себя так, как Он того желает, и, напротив, если мы не ведем себя так, как Он нам велит, Он нас ненавидит; и что Он до такой степени оскорблен тем, что мы не подчиняемся Ему, что мы должны платить за это вечными муками, которые для этой цели и были созданы Им. Кто же сможет любить мучителя? Даже те, кто пытаются спастись от гнева Божия, вряд ли могут действительно любить Его. Их мнимая любовь вынуждена: они надеются избежать мести и достичь вечного блаженства только благодаря тому, что старались умилостивить этого грозного и чрезвычайно опасного Создателя.
Удалось ли вам распознать диавольскую клевету на нашего всех любящего, ко всем равно милостивого, абсолютно благого Бога? Неслучайно, что диавол в переводе с греческого означает “клеветник”.
Но при помощи чего диавол смог так оклеветать Бога? Какое средство он использовал, чтобы убедить человечество, развратить человеческую мысль?
Он использовал “богословие”. Сначала он внес в богословие незначительное отклонение, которое, будучи принятым богословами, становилось, благодаря его усилиям, все более серьезным, и, наконец, дошло до такой степени, что христианство стало уже невозможно узнать. Речь идет о том, что мы называем «западное богословие».
Тезис 1
Из той же книги Каломироса:
«Приходилось ли вам когда-нибудь заострять внимание на том, какова основная черта западного богословия? Его основная черта – признание того, что Бог – истинная причина всякого зла».
Контраргумент 1
Обвинение в том, что «основная черта западного богословия – признание Бога истинной причиной всякого зла» подобно утверждению, что основная черта океана – его способность топить корабли. Мы не будем касаться вопроса, кто конкретно, какая конфессия или какие богословы, должны подпадать под этот собирательный образ. Я отвечу, принимая всю условность термина «западное богословие».
Итак, в этой чудовищной редукции двухтысячелетней церковной традиции, традиции, которая началась с апостолов, а не с Августина и тем более не с Фомы или Ансельма, скрывается не просто неточность, но глубокое непонимание. Западная богословская мысль, от Климента Римского до современности, никогда не утверждала Бога «причиной зла» в том смысле, который подразумевают критики.
Возьмем, например, Уильяма Перкинса, выдающегося английского богослова XVI века. В трактате «Порядок предопределения»36 он детально разрабатывает вопрос соотношения Божественного провидения и человеческого греха. Его размышления – не безумное приписывание Богу авторства зла, но тщательное богословское исследование тайны, перед которой трепещет всякий мыслящий христианин: как всемогущий и всеблагой Бог соотносится с реальностью зла в мире?
На основании свидетельств древней Церкви и Писания Перкинс проводит тщательное различение между разными аспектами Божественного участия в мировых процессах. Он выделяет три способа Божественного действия:
Прямое волеизъявление, когда Бог «желает чего-то, позволяет этому произойти и радуется результату». Так Бог относится только к благим делам.
Поддержание бытия творения, включая способность действовать: «Мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28). При этом Бог поддерживает саму способность действовать, но не направление этой способности к злу.
Использование даже человеческого зла для достижения благих целей – подобно тому, как искусный врач может использовать даже яд для исцеления.
Ключевой момент учения Перкинса – различение между существованием действия и его моральным качеством. Бог поддерживает способность действовать, но искажение этой способности происходит от самого человека. Подобно хромающему человеку: способность движения дается Богом, но хромота происходит от травмы.
Образ хромоты поразительно точно иллюстрирует мысль Перкинса. Представьте человека с травмированной ногой. Его хромота содержит два аспекта: саму способность двигаться (положительное качество) и искажение этого движения (отрицательное качество). Способность двигаться исходит от Бога как Творца и Промыслителя. Искажение движения происходит от травмы – от несовершенства творения.
Так и в случае греха: способность действовать исходит от Бога, но искажение этой способности – дело свободной воли творения. Именно эту мысль стремится выразить Перкинс своим богословским языком.
Он никогда не утверждает, что Бог «вкладывает» зло в человека или является первопричиной греха в том смысле, что Он – источник нравственного зла. Напротив, Перкинс тщательно различает между Божественным попущением греха в рамках Его провидения и причинением греха в нравственном смысле.
Обвинение, выдвинутое против «западного богословия», представляет собой не просто упрощение, но откровенную карикатуру. Оно игнорирует тщательные различения, проводимые богословами вроде Перкинса, между различными аспектами Божественного участия в мире.
Перкинс прямо пишет: «Мы вовсе не учим, что Бог напрямую создает грех или делает его частью Своего замысла как желанную цель». Подобные утверждения трудно совместить с обвинением в том, что он считает Бога «истинной причиной всякого зла».
Основная проблема критиков в том, что они не различают понятия «причина» в разных смыслах:
причина как первоисточник бытия;
причина как моральный автор;
причина как допускающая инстанция;
причина как использующая следствия.
Перкинс говорит о Боге как о причине в первом, третьем и четвертом смыслах, но категорически отрицает второй смысл. Критики же приписывают ему утверждение второго смысла, игнорируя все его оговорки и уточнения.
Библия полна парадоксов Божественного промысла. В истории Иосифа его братья замышляют зло, но Бог использует это для блага: «Вы замышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро» (Быт. 50:20). В истории Иова сатана причиняет страдания, но действует только в рамках Божьего допущения.
Апостол Павел говорит о Боге, «делающем всё по решению Его воли» (Еф. 1:11), не исключая даже злых деяний из сферы Божественного провидения. Пророк Исаия возвещает слова Господа: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7).
Богословие Перкинса, которое просто продолжает доминирующую церковную традицию, стремится сохранить всю полноту библейского свидетельства, не жертвуя ни всевластием Бога, ни Его святостью, ни человеческой ответственностью. Его противники же, в стремлении «защитить» Бога от вовлеченности в зло мира, рискуют создать образ Бога, который не соответствует библейскому откровению – Бога, чья власть ограничена автономной человеческой волей.
Сведение сложнейшего богословского вопроса к географическому противопоставлению свидетельствует о желании не понять оппонента, но дискредитировать его позицию без содержательного анализа.
Центральное место в размышлениях Перкинса занимает понимание греха не как «нечто», не как положительной реальности, но как искажения, отсутствия должного порядка: «Грех – это не нечто, не вещь и не действие в обычном смысле. Это скорее отсутствие должного, подобно тому, как темнота – это не какая-то субстанция, а отсутствие света».
В этом Перкинс следует классической традиции, идущей от апостолов и разделяемой многими восточными отцами. Грех – не сущность, сотворенная Богом, но искажение благой сущности. Как слепота не является особым качеством глаза, но отсутствием зрения, так и грех не является особым творением Бога, но извращением Его благого творения.
Учитывая это понимание, обвинение «запада» в том, что он считает Бога «причиной зла», теряет всякий смысл. Как можно быть причиной отсутствия или искажения? Бог творит бытие, а грех – его искажение, совершаемое свободной, но падшей волей творения.
Итак, утверждение о том, что «основная черта западного богословия – признание Бога истинной причиной всякого зла», представляет собой не просто неточность, но глубокое искажение.
Богословие Уильяма Перкинса, как и всей реформатской традиции, признает абсолютный суверенитет Бога над всеми событиями истории, включая греховные деяния людей через попущение, оставление «ходить своими путями». Но оно категорически отрицает, что Бог является моральным автором греха или вкладывает зло в человеческие сердца.
Различение между бытийной поддержкой и моральной ответственностью, между допущением и одобрением, между использованием зла для благих целей и его причинением – вот те тонкие богословские инструменты, которыми оперирует Перкинс. Игнорирование этих различений и сведение сложной богословской системы к карикатурному утверждению свидетельствует не о глубине понимания, но о поверхностности критики.
Истина в том, что Бог действительно является верховным Правителем всего творения, и ничто не происходит вне сферы Его провидения. Но Он – не автор греха в нравственном смысле. Он допускает грех,
управляет им, ограничивает его и, в конечном счете, использует даже злые дела людей для достижения Своих благих целей. Как писал сам Августин, которого столь часто цитирует Перкинс: «Бог рассудил, что лучше делать из зла добро, чем вообще не допустить никакого зла» (Энхиридион. 8. 27; перевод Д. В. Смирнова37).
Такова подлинная позиция «западного богословия», очищенная от карикатурных искажений и представленная в своей библейской целостности и богословской глубине.
Тезис 2
«Что есть зло? Разве это не есть отчуждение от Бога, Который есть Жизнь? Разве это не смерть? Чему же учит западное богословие, говоря о смерти? Все католики и большинство протестантов воспринимают смерть как наказание от Бога. Бог вменил в вину всем людям грех Адама и наказал их смертью, то есть тем, что удалил их от Себя, лишив их Своей благодатной дающей жизнь энергии и таким образом уничтожив их —сначала духовно, посредством некоего духовного голода, а затем и физически. Августин интерпретирует отрывок из книги Бытия: “От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь” (Быт. 2:17), как: “если вы вкусите плод от этого древа, Я убью вас”. Некоторые же протестанты воспринимают смерть не как наказание, но как нечто естественное (дескать, разве не Бог создатель всех вещей). Так что в обоих случаях Бог для них – истинная причина смерти…
Смерть не была дана нам Богом как кара за грех. Мы сами впали в смерть в результате своего противления Богу. Бог есть жизнь, и жизнь есть Бог. Мы видим, что смерть пришла не в результате повеления Бога, но как следствие того, что Адам омрачил свои отношения с Источником жизни непослушанием; Бог же по Своей благости предупреждал его об этом. Итак, на языке Священного Писания, “справедливый” означает благой и любящий. Если мы говорим о справедливости праведников Ветхого Завета, это не значит, что они были хорошими судьями, но – добрыми и боголюбивыми людьми. Когда мы говорим, что Бог справедлив, мы не подразумеваем, что Он лишь беспристрастный судья, который только и знает, как наказать людей по справедливости, в соответствии с серьезностью их преступлений».
Контраргумент 2
В темных лабиринтах современного православного богословия блуждает призрак неопелагианства, облаченный в пурпурные одежды мнимой духовности. Стремясь оградить Творца от причастности к смерти, эти богословы невольно покушаются на Его всевластие. Они разрывают неразрывную связь между грехом и возмездием, между преступлением и наказанием, превращая Божественную справедливость в бессильный призрак, а человеческую волю – в автономный источник бытия.
Священное Писание не оставляет места для умозрительных построений. Оно с беспощадной ясностью свидетельствует: смерть – это именно наказание, определенное Творцом для Своих мятежных созданий.
«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Эта формула апостола Павла подобна каменной плите, которую не сдвинуть никакими софистическими ухищрениями. Заметьте: не «естественное следствие», не «автоматический результат», но именно «возмездие» (ὀψώνια) – плата, воздаяние от законодателя.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Здесь апостол языков выстраивает неразрывную цепь причинности: грех – причина, смерть – следствие. Но кто определил эту связь? Кто установил этот закон? Неужели природа сама собой, помимо Творца, издает нравственные законы?
Попытка отделить Бога от акта наказания смертью противоречит многочисленным свидетельствам Писания. В книге Бытия Господь прямо предупреждает: «В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2:17). Это не констатация естественного закона, но прямая угроза наказания.
После грехопадения Бог выносит приговор: «Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Это не безучастное наблюдение, но судебный вердикт. И Писание подтверждает: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского» (Быт. 3:23). Не человек сам себя изгнал, но Божественная рука отторгла его от источника жизни.
Книга Иова свидетельствует: «Господь дал, Господь и взял» (Иов 1:21). Псалмопевец восклицает: «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие!» (Пс. 89:3). И вновь: не природа, не автономный закон, но Сам Вседержитель определяет срок человеческой жизни.
Православные богословы ошибочно противопоставляют справедливость и любовь, суд и милость. Но разве утверждение Божественного наказания исключает Его любовь?
Напротив, именно потому, что Бог есть любовь, Он и наказывает: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 3:19). Именно потому, что Бог благ, Он не оставляет грех без возмездия: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый… но не оставляющий без наказания» (Исх. 34:6–7).
Священное Писание не знает ложной дихотомии между Богом-Судьей и Богом-Любовью. Оно представляет Бога во всей полноте Его качеств, где справедливость и милосердие не противоречат, но дополняют друг друга.
Парадоксальным образом, именно отрицание наказующего аспекта Божественной природы умаляет Его святость. Если Бог остается безучастным к греху, если Он не противится ему всей мощью Своего существа, то Его святость превращается в пустую абстракцию.
Писание свидетельствует: «Ты возненавидел всех, делающих беззаконие» (Пс. 5:6). И это не метафора, но выражение онтологического противостояния между абсолютной чистотой Божественной природы и нечистотой греха.
Пророк Аввакум говорит: «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь» (Авв. 1:13). Святость Бога – не просто моральное качество, но огненная реальность, испепеляющая всё нечистое.
В утверждении, что «смерть не была дана нам Богом как кара за грех», православные богословы невольно ограничивают Божественное всевластие. Они создают мир, где действуют автономные законы, независимые от Творца. Но Писание рисует совершенно иную картину: «Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32:39).
Сам Христос утверждает власть Бога над жизнью и смертью: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). Если смерть – лишь «естественный закон», независимый от Божьей воли, то как понимать это предупреждение?
Утверждение, что в библейском языке «справедливый» означает лишь «благой и любящий», представляет собой непростительное упрощение. Понятия «tsadaq» в Ветхом Завете и «δίκαιος» в Новом имеют широкий семантический спектр, включающий как идею правосудия, так и благости.
Псалом 88 провозглашает: «Правосудие и правота – основание престола Твоего» (Пс. 88:15). Исаия восклицает: «Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!» (Ис. 30:18). Справедливость Бога – не просто Его благость, но Его верность Своему нравственному закону, Своей святости.
Когда пророк Аввакум вопрошает: «Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» (Авв. 1:13), он взывает именно к Божественному правосудию, а не просто к Его благости.
Православная попытка «защитить» Бога от причастности к смерти оборачивается глубоким искажением библейского образа Творца. Бог Писания – не безвольный наблюдатель, но суверенный Правитель, не только любящий благостью, но и судящий по правде.
Смерть – не безличный закон, существующий помимо Божественной воли, но проявление Его суверенной власти, Его святого противления греху. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7) – эти слова пророка Исаии сокрушают все попытки освободить Бога от ответственности за наказание грешников.
Вместо того чтобы искажать ясное свидетельство Писания, восточным богословам следовало бы принять его во всей полноте: Бог и милостив, и справедлив; Он и любит, и гневается; Он и дарует жизнь, и определяет смерть. В этой целостности – величие Его нравственной природы, перед которой остается лишь склониться в благоговейном трепете.
Тезис 3
«Разве западные богословы не воспринимают ад, вечную духовную смерть, как наказание от Бога? И разве они не воспринимают диавола как слугу Божия, осуществляющего наказание людей в аду?… “Бог” Запада —оскорбленный и разгневанный Владыка, переполненный негодованием из-за непослушания людей и жаждущий в Своей разрушительной страсти подвергнуть за грехи вечным мукам все человечество, если только не получит бесконечного удовлетворения Своему оскорбленному величию.
Каков западный догмат спасения? Разве Бог Отец не убил Своего Сына, чтобы принести удовлетворение своей гордыне, которую западные богословы называют эвфемизмом “справедливость”? И разве не благодаря именно этому безмерному удовлетворению Он снисходит, чтобы принять спасение некоторых из нас? Что есть спасение для западного богословия? Разве это не избежание гнева Божия?»
Контраргумент 3
В стремлении создать образ Бога, приятный человеческому слуху, они отсекают грани Божественной природы, превращая огненный алмаз откровения в отполированную гальку религиозного сентиментализма.
Апостол Павел провозглашает с предельной ясностью: «Будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9). Это не периферийное утверждение, но одно из центральных положений апостольской керигмы. Спасение от гнева – не западная выдумка, но сердцевина благой вести.
Что означает это спасение? От чего именно мы спасены? Текст не оставляет места для двусмысленностей: «от гнева» (ἀπὸ τῆς ὀργῆς). Не от безличного закона, не от автоматического следствия, не от естественного процесса, но от Божественного негодования против греха.
Искажение этой истины обнаруживает не «глубину понимания», но глубину отступления от апостольского учения. Как можно спасаться от того, чего нет? Если нет гнева, то и спасение обессмысливается.
Сам Христос предупреждает: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). Кто здесь говорит? Кто изгоняет? Кто проклинает? Не безличный закон, но воплощенный Логос.
В этом изгнании нет противоречия между любовью и справедливостью. Любовь без справедливости вырождается в сентиментальность, а справедливость без любви – в жестокость. Но Божественная природа пребывает в совершенной гармонии. Ад – не изобретение «западных богословов», но реальность, о которой говорит Сам Христос: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46).
Описание «западного Бога» как «оскорбленного и разгневанного Владыки, переполненного негодованием» представляет собой не теологический анализ, но карикатуру, лишенную всякого основания. Настоящее богословие, будь то восточное или западное, никогда не сводило гнев Божий к человекообразной эмоции. Гнев Божий – это не аффект, но проявление Его святости перед лицом греха.
Утверждение, что «Бог Отец убил Своего Сына, чтобы принести удовлетворение Своей гордыне», представляет собой кощунственное искажение учения о заместительной жертве Христа. Западное богословие никогда не учило ничему подобному. Оно утверждало, что Христос добровольно принес Себя в жертву, чтобы удовлетворить требования Божественной справедливости.
Пророк Исаия возвещает: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши… Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению» (Ис. 53:5,10). Это не человеческое измышление, но богодухновенное свидетельство. Апостол Павел подтверждает: «Бог предложил Его в жертву умилостивления (ἱλαστήριον) в Крови Его» (Рим. 3:25).
Учение о заместительной жертве пронизывает все Писание – от жертвоприношения Авраама до Агнца Апокалипсиса. Без этого учения христианство утрачивает свою суть, превращаясь в еще одну разновидность морализма.
Поистине поразительно, насколько православные апологеты игнорируют прямые свидетельства Писания. Апостол Павел говорит: «Спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9). Иоанн Креститель предупреждает: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф. 3:7). Апостол Иоанн пишет: «Гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36).
Это систематическое игнорирование библейских свидетельств невольно наводит на мысль: не с религиозной ли философией мы имеем дело вместо библейского богословия? Не с человеческими ли умозрениями вместо Божественного откровения?
Православный апологет призывает не воспринимать диавола как «слугу Божия, осуществляющего наказание людей в аду». Но Писание свидетельствует: сатана не может выйти за рамки Божественного определения. В книге Иова он не может действовать без Божьего позволения. В Апокалипсисе он будет скован и брошен в бездну. Где здесь автономия? Где независимость от Божественной воли?
Спасение в библейском понимании – это не просто «обожение» или «просветление», но прежде всего избавление от Божественного гнева через заместительную жертву Христа.
Вот суть Евангелия: человек, находившийся под проклятием закона, под гневом Божьим, получает спасение через жертву Христа, принявшего на Себя это проклятие. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал. 3:13). Что это, как не заместительная жертва?
Целостное библейское богословие не противопоставляет Божественную любовь и Божественную справедливость, милость и суд, благодать и гнев. Оно видит их в совершенном единстве, в гармонии Божественной природы. Крест Христов – высшее выражение этого единства, где любовь и справедливость встречаются в совершенной полноте.
Отрицание гнева Божьего, отказ от учения о заместительной жертве, сведение спасения к «просветлению» или «обожению» без искупления – все это не углубление, но обеднение Евангелия, не прозрение, но слепота перед ясным свидетельством Писания.
В этом – трагедия современного православного богословия: стремясь защитить Бога от «западных искажений», оно само отсекает жизненно важные аспекты библейского откровения, создавая образ Бога, более приемлемый для человеческого разума, но менее соответствующий Божественному самооткровению в Писании.
Тезис 4
«В реальности оппозиция между православием и западным христианством есть ни что иное как увековечение оппозиции между духовным Израилем и язычеством. Мы не должны забывать, что Отцы Церкви воспринимали себя как истинных духовных детей Авраама, что Церковь воспринимает себя как Новый Израиль, и что православные люди, равно греки, русские, болгары, сербы, румыны и т. д., сознавали, что они призваны, как Нафанаил, быть истинными израильтянами, людьми Божиими (см.: Ин. 1:47). И в то время, как это являлось действительным сознанием восточного христианства, Запад все больше становился чадом языческих гуманистических традиций Греции и Рима. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, как оклеветан Бог западным богословием. И Августин, Ансельм, Фома Аквинский и все их ученики внесли свой вклад в эту «богословскую» клевету. И это столпы западного богословия, учителя папистов и протестантов».
Контраргумент 4
Какая изощренная ирония скрывается в этих словах! Православие, упрекающее Запад в языческом наследии, само возвело императорский Рим на пьедестал религиозного поклонения. Не кто иной, как Россия веками взращивала в своей духовной утробе идею «Третьего Рима» – политико-религиозного концепта, далекого от евангельской простоты, но пропитанного имперскими амбициями. Византийский орел обратил взор не к Иерусалиму, но к семи холмам цезарей.
Утверждение, что православные народы призваны быть «истинными израильтянами, как Нафанаил», звучит столь же убедительно, как заявление Вольтера о своей глубокой христианской вере. Поразительно, с какой легкостью самопровозглашенные «духовные израильтяне» игнорируют тысячелетнюю традицию библейского толкования, разработанную теми самыми отцами, которых они якобы почитают.
Где в творениях великих восточных отцов обнаруживается отрицание Божественного гнева?
Православная Церковь, высокомерно отрицающая «западное богословие», сама канонизировала значимых отцов, соприкасавшихся с традицией, развитой впоследствии Августином. Амвросий Медиоланский и Иероним Стридонский являлись наставником и современником Августина соответственно, и хотя они не могли разделять полностью его богословскую систему, поскольку она была сформулирована позднее (особенно в вопросах предопределения), они представляли направление мысли, из которого она органично выросла. Григорий Двоеслов и Лев Великий, также почитаемые Православной Церковью как святые, восприняли существенные элементы августинианского учения о благодати. Что касается Фульгенция Руспийского и Проспера Аквитанского, защитников августинианства против полупелагианства, то они формально в православные святцы не входят, хотя некоторые православные богословы и ссылаются на их авторитет.
«Сверх того мы во всем следуем и святым отцам и учителям Церкви, Афанасию [Александрийскому], Иларию [Пиктавийскому], Василию [Великому], Григорию Богослову, Григорию Нисскому, Амвросию [Медиоланскому], Августину [Гиппонскому], Феофилу [Александрийскому], Иоанну Константинопольскому, Кириллу [Александрийскому], Льву [Римскому], Проклу [Константинопольскому], и приемлем все, что они изложили о правой вере и об осуждении еретиков…»38.
Современное «восточное богословие», с таким апломбом отвергающее
«западные заблуждения», само представляет собой синкретическое смешение неоплатонических идей, проникших в христианство через Псевдо-Дионисия Ареопагита – автора, которого даже православные ученые признают сегодня компилятором неоплатонической философии Прокла.
Эта линия развивалась через Максима Исповедника, Григория Паламу. Также об отсутствии Божьего гнева писал Исаак Сирин, который фактически игнорировал постановления Пятого Вселенского Собора, отвергшего идею всеобщего спасения. Впрочем, это, вероятно, объясняется тем, что Исаак принадлежал к несторианской Церкви Востока и мог просто не знать об этих постановлениях (подобно тому, как православные не считают для себя обязательными решения Второго Ватиканского Собора Римско-Католической Церкви). Он также превозносил осужденного ересиарха Федора Мопсуестийского «столпом и светочем Церкви».
Учение Оригена и Евагрия Понтийского о всеобщем спасении было категорически отвергнуто Пятым Вселенским Собором именно потому, что противоречило библейскому учению о Божественном суде и вечном наказании. Примечательно, что похожие идеи, встречающиеся у Григория Нисского, соборному осуждению не подверглись – более того, сам Григорий был включен этим же Собором в авторитетный список отцов Церкви. Тем не менее, эта богословская линия, развивавшаяся в различных вариациях, систематически уклонялась от полного признания реальности Божественного гнева и центральной роли искупительной жертвы Христа – тем, составляющих сердцевину апостольской проповеди.
Поразительно обвинение в адрес Запада в «языческих гуманистических традициях Греции и Рима» из уст тех, кто сам называет себя греческим православием! Не Восток ли, а не Запад, был центром эллинистической учености? Не Византия ли была прямой наследницей римской имперской традиции?
Истинная ирония заключается в том, что и греческое, и русское православие страдают от одной и той же болезни – слияния национального самомнения с религиозной исключительностью. Греческое православие исторически культивирует мессианское самосознание, основанное на убеждении, что именно оно «подарило» христианство миру. Ярко выраженный апломб, с которым греческие богословы выносят приговоры «западным искажениям», питается не столько теологическими соображениями, сколько национальной гордостью хранителей «подлинного эллинизма».
Русское же православие, провозгласившее Москву «Третьим Римом», перенесло этот же шовинистический подход на славянскую почву, обвиняя Западную Церковь в том самом римском наследии, которое само стремилось присвоить. Это все равно что Англия упрекала бы Францию в британском империализме.
Не удивительно, что такие причудливые исторические конструкции возникают в контексте тотального богословского невежества. В то время как западные университеты с XII века развивали систематическое богословие, создавали критические издания отеческих текстов, разрабатывали методы библейской экзегезы, Восточная Церковь погружалась в интеллектуальную спячку.
Первые зачаточные богословские школы появились в России лишь в XVIII веке – почти через семь столетий после основания первых западных университетов! И даже эти школы создавались по западным образцам, с использованием латинских учебников и схоластических методов.
Не удивительно, что в таком контексте возникают фантастические утверждения о «клевете западного богословия» и самопровозглашении себя «истинными израильтянами». Отсутствие критического богословского образования порождает мифы, питаемые национальным самолюбием, но оторванные от исторической и библейской реальности.
Вместо того чтобы выдумывать мифические противостояния «духовного Израиля» и «языческого Запада», православным богословам следовало бы обратиться к изучению подлинной патристической традиции – не избирательно вырванные цитаты из контекста, но целостного учения великих отцов церкви, как восточных, так и западных.
Тогда они обнаружили бы, что Иустин Мученик, Ириней Лионский, Афанасий Великий, Василий Кесарийский, Августин Гиппонский, несмотря на различия в акцентах и формулировках, составляют единую традицию апостольского учения, в котором нет места выдуманной оппозиции «восточного» и «западного» христианства.
И может быть, тогда они перестали бы именовать «клеветниками» тех, кто всего лишь повторяет слова апостола Павла: «Будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9).
Тезис 5
«Нет, братья, мы должны проснуться, чтобы не быть потерянными для Царства Небесного. Наше вечное спасение или наша вечная смерть зависят не от воли и желания Бога, а от нашей собственной решимости, от выбора нашей свободной воли, которую Бог бесконечно ценит. Будучи убеждены в силе Божественной любви, не дадим, однако, одурачить себя. Опасность исходит не от Бога, она исходит от нас самих».
Контраргумент 5
В сумеречном свете полуистин рождаются чудовища. Самое страшное из них – гордыня, облеченная в одежды благочестия. Утверждение, что «наше вечное спасение или наша вечная смерть зависят не от воли и желания Бога, а от нашей собственной решимости», представляет собой не просто богословскую ошибку, но фронтальную атаку на сердцевину Евангелия.
Это не отклонение от христианства – это его полное отрицание, прикрытое узнаваемой терминологией. Здесь воля человеческая не просто возвышается – она воцаряется на престоле, прежде принадлежавшем только Творцу. Это не «одно из мнений» в рамках православной традиции – это иная религия, религия человекобожия.
Если спасение зависит от «нашей собственной решимости», то непостижимой тайной становится сама Голгофа. Зачем нужна крестная жертва, если человек может спасти себя силой своего выбора? В чем смысл мучительного вопля: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46), если достаточно правильно настроенной воли? Христос превращается в пример благочестия, во вдохновляющий образ, но Он никак не необходимый Искупитель.
Уже ветхозаветное откровение гласит: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс. 113:9). Как же далеко от этого смирения самоуверенное заявление о «нашей собственной решимости» как о решающем факторе спасения! Отвергая Божественное предопределение, такое богословие отвергает и вечный замысел Отца о Сыне как Агнце, «предназначенном еще прежде создания мира» (1 Пет. 1:20).
Господь провозглашает: «Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7). И когда Никодим недоумевает, Христос поясняет: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Рождение – не результат выбора рождаемого. Никто не выбирает появиться на свет, тем более – родиться свыше. Никто не управляет ветром, даже путем сильной «решимости»: «Ветер дует где хочет» (Ин. 3:8), —говорит Христос. Нет, не решимость влияет на ветер, но Тот, Кому «даже ветер и волны подчиняются» (Мф. 8:27).
Духовное рождение – не плод решимости, но чудо Божественного действия. Апостол Иоанн прямо говорит о верующих как о тех, «которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:13). Где здесь место для «нашей собственной решимости» как определяющего фактора?
Священное Писание не оставляет места для иллюзий относительно состояния человеческой воли до обращения: «Мертвые по преступлениям и грехам» (Еф. 2:1). Мертвец не может выбирать, не может решаться, не может действовать. Требуется воскрешающее действие Божественной силы.
Предваряющая благодать – не помощь решившемуся, но пробуждение мертвого. Апостол пишет Филиппийцам: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13). Не просто действие, но и само желание действовать – дар свыше.
Вера – не продукт нашей решимости, но дар Божий. Апостол прямо говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). И чтобы не осталось сомнений, добавляет: «Не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:9). Не от решимости, не от выбора, не от усилий воли – только от Бога.
«Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9:16), и «поэтому и сажающий, и поливающий – ничто, но только Бог, взращивающий всё» (1 Кор. 3:7), – говорит Павел всем «усердникам». Спасающая вера не производится человеком – она принимается как дар. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Ин. 6:44), – этими словами Христос опровергает самонадеянную идею о спасении через «нашу собственную решимость».
Центральное место в христианском откровении занимает учение о заместительной жертве Христа. Иисус не просто показал путь – Он Сам стал Путем, Истиной и Жизнью. Не просто оставил пример – но «взял на Себя наши болезни и понес наши немощи… Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши» (Ис. 53:4–5).
Если спасение зависит от человеческой решимости, тогда что означает утверждение, что «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8)? Какой смысл в словах: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1 Пет. 2:24)? Учение о заместительной жертве становится излишним дополнением к главному – силе человеческой воли.
Отрицание решающей роли Божественной воли в спасении приводит к тому, что христианство превращается в одну из множества «духовных практик». Если мы спасаемся своей решимостью, то Христос – лишь один из множества учителей, показывающих путь самосовершенствования. Если благодать – лишь энергия, которую мы используем по своему усмотрению, то мы недалеко ушли от представления о пране или ци.
Учение Григория Паламы о фаворском свете в отрыве от основополагающих библейских истин о спасении через веру, действительно, приближается к мистическим практикам других религий – практикам, обещающим обожение через личное усилие и аскезу. Не случайно русские религиозные философы начала XX века обнаружили так много параллелей между паламизмом и индийской духовностью.
Григорий Палама:
«Награда за добродетель – сделаться Богом и быть озаряему чистейшим светом, став сыном дня, который не прерывается мраком, ибо его производит другое, сияющее истинным светом солнце, кое, единожды осветив нас, уже не скрывается более на западе, но, облекая все своею светозарной силою, непрестанно и беспременно внедряет свет в достойных, делая самих причастников оного света новыми солнцами» (Триады в защиту священнобезмолвствующих. 3. 1. 3439).
А вот для сравнения текст Плотина:
«Собственно говоря, слова «созерцание», «видение» не выражают вполне характера этого состояния души в общении с Богом, ибо это есть скорее всего выход за пределы себя, превращение себя в нечто совершенно простое и чистое, прилив силы, жажда теснейшего единения, напряжение ума в стремлении к, возможно, полному слиянию с Тем, Которого желательно зреть во святая святых единения, а в конце всего – полнейшее успокоение, а кто рассчитывает как-либо иначе узреть Бога, тот едва ли когда достигнет общения с Ним» (Эннеады. 6. 9. 1140).
Вот опять текст Паламы:
«Выше природы, выше добродетели и знания благодать обожения, и «все подобное», по слову св. Максима, «бесконечно далеко от нее» всякая добродетель и всякое зависящее от нас подражание Богу делают праведника удобным для Божественного единения, благодать же совершает само несказанное единение, ибо через нее «всецелый Бог перемещается во всецелых достойных», а всецелые святые всецело перемещаются во всецелого Бога, приняв взамен самих себя всецелого Бога и приобретя, словно бы в награду за свое восхождение к Нему, Самого единого Бога, «Который как с Собственными членами срастается с ними образом срастания души с телом» и удостоивает пребывать в Себе через ипостасное усыновление по дару и благодати Святого Духа. Поэтому когда услышишь, что Бог вселяется в нас за добродетели, или что через память Божию мы носим Его в себе, считай тут обоживанием не просто приобретение добродетелей, но дарованные за добродетель Божественные сияние и благодать, как и Василий Великий говорит: «Душа, приумножившая свои природные порывы собственным усилием и помощью Святого Духа, по праведному Божию суду удостоивается сияния, Божией благодатью даруемого святым» (Триады в защиту священнобезмолвствующих. 3. 1. 2741).
Вот как о слиянии и растворении в йоге пишет известнейший религиовед Е. А. Торчинов:
«Результирующим этот процесс самадхи (нирвикальпа самадхи без различающего сознания) достигается полное переживание тождества Я и Абсолюта, сознание расширяется до беспредельности, и йогин осознает себя как вечного, бесконечного, бескачественного, недвойственного и лишенного каких-либо ограничений Абсолюта, а весь видимый мир исчезает в этом трансперсональном переживании… Это состояние тождественно анупадхишеша нирвана (нирване без остатка) буддистов»42.
Что же является итогом познания? Известный учитель йоги Виктор Бойко пишет:
«Это и есть окончательная истина: основа и материального, и духовного – едина. Если в медитациях мы видим инвариантные образы, то, приходя к своей глубинной основе, мы переживаем одинаковость»43.
Со стороны христианской йоги Исаак Сирин в одном из трактатов Третьего собрания пишет:
«Все сии созерцания касаются словесных существ. Но и сам себя ум удостоверяет без принуждения. И, поистине, [в этом состоянии] нет тех, кто наследует, и тех, кому дают наследство, ведь один и тот же [ум] собирается и оцепеневает для изумления таковой любовью (так что они рассеиваются)
