Нити Морока
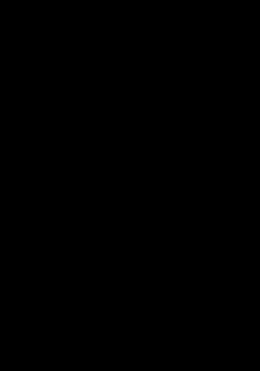
Глава 1. Тишина
Снег в этом году лёг рано. Тяжёлый, мокрый, как саван на покойника. Он глушил все звуки. Шаги тонули в нём, дыхание замерзало белёсым облачком и тут же оседало инеем на бороде. Лес стоял мёртвый. Не скрипнет ветка, не каркнет ворон. Тишина. Вот она-то и была самой хреновой.
«Знаешь, когда боишься по-настоящему? – спросил я у пустоты перед собой, у еловых лап, присыпанных белой дрянью. – Не когда волк воет или медведь ревёт. А вот так. Когда тишина становится такой плотной, что в ушах звенит. Будто весь мир затаил дыхание перед тем, как тебе глотку перегрызть».
Никто, конечно, не ответил. Я поправил на плече тяжёлый охотничий лук, потёр замёрзшие пальцы. Сохатый, которого я гнал с самого утра, ушёл. Ушёл чисто, будто растворился. А ведь след был жирный, чёткий. И кровь на снегу – я его всё-таки зацепил. А потом – раз, и следа нет. Только ровная, нетронутая белизна на добрых сто шагов вокруг. Так не бывает. Зверь не птица, по воздуху летать не умеет.
Я присел на корточки, коснулся снега. Холодный. Никакой магии, никакого тепла, которое могло бы растопить следы. Просто… пустота.
– Что, старые, опять шутки свои шутите? – пробормотал я, глядя в гущу леса. – Леший, дед, это твои проделки? Мясо мне верни, не зли Лисьего.
Тишина. Густая, липкая. И тут я это почувствовал. Запах.
Не запах прелой листвы или сырой земли из-под снега. И не запах хвои. Пахло неправильно. Пахло, как в мясной яме летом, когда мухи гудят так, что кажется – сама земля стонет. Пахло гнилью и страхом. И ещё чем-то сладковатым, тошнотворным.
Мои пальцы сами легли на рукоять ножа у пояса. Я медленно, стараясь не скрипеть снегом, пошёл на запах. Инстинкт орал: «Беги, дурак!», но охотник во мне был сильнее. Что могло так вонять в мёрзлом лесу?
За небольшим холмом, в низине, я увидел его. Моего сохатого. Точнее, то, что от него осталось.
Он был разорван. Нет, не так. Не разорван, как разорвал бы его волк или медведь – с клочьями шерсти, с вырванными кусками мяса. Его будто вывернули наизнанку. Грудная клетка была вскрыта, как сундук, и рёбра торчали вверх, белея на фоне красного месива. Внутренности аккуратной, дымящейся на морозе кучей лежали рядом. Но самое жуткое было не это.
Вокруг туши не было ни одного следа. Ни моего, ни лосиного, ни того, кто это сделал. Снег лежал девственно чистым, если не считать ошмётков плоти, разбросанных вокруг, будто кто-то вытряхнул кровавый мешок. А на шкуре зверя, на его боку, было что-то нацарапано. Не когтями. Ровные, чёткие линии, складывающиеся в узор, похожий на паутину с пустым центром.
Я стоял, и холодный пот катился по спине, смешиваясь с потом от долгой погони. Это работа не зверя. И не человека. Человек бы забрал мясо. Волк бы жрал тут же, оставляя следы. Это было… неправильно. Это было послание. Бессмысленное и оттого ещё более страшное.
«Вот видишь, к чему приводит твоё упрямство? – сказал я себе. Мысленно, конечно, вслух я уже боялся звук издать. – Говорил тебе дед: "Не ходи в лес, когда тихо". Нет же, мы упрямые. Мы не верим в бабские сказки».
Пора было валить. Быстро и без оглядки. Я развернулся и побежал. Не оглядываясь, не разбирая дороги, ломая ветки, проваливаясь по колено в снег. Сердце колотилось где-то в горле, а в голове стучала одна мысль: «Увидеть людей. Увидеть стены. Огонь в очаге».
Запах гнили преследовал меня до самого края леса.
***
Наше городище, Волосово, стояло на холме у слияния двух речушек. Крепкий частокол, дозорная вышка. Дым из труб. Жизнь. Сегодня я был рад этому виду как никогда. Страж на воротах, старый Клим, кивнул мне.
– Что, Всеволод? Пустой? – он хмыкнул в седую бороду. – Лес нынче не кормит.
– Лес нынче жрёт, дед Клим. Жрёт и не давится, – бросил я, проходя мимо.
Клим посмотрел мне вслед, нахмурившись.
Внутри было шумно. Лаяли собаки, визжали дети, бабы таскали воду. Обычная жизнь, от которой на душе стало чуть теплее. Я направился прямо к дому старосты, старого Рогдая. Только он мог понять. Остальные просто покрутили бы пальцем у виска.
Рогдай сидел у очага и строгал рукоять для топора. Седой, морщинистый, с глазами, которые, казалось, видели больше, чем положено человеку.
– Вернулся, – сказал он, не поднимая головы. – Не слышал я от тебя звука рога. Значит, пустой.
– Хуже, – я присел на лавку напротив, протягивая замёрзшие руки к огню. – Я сохатого нашёл. Моего. Его… выпотрошили.
Я рассказал всё. Про тишину. Про пропавшие следы. Про вонь и про узор на шкуре. Рогдай слушал молча, и только желваки ходили на его худых щеках. Когда я закончил, он отложил нож и рукоять.
– Морок, – выдохнул он.
– Да брось, отец. Это сказки для детей. Какая-то тварь завелась. Больная, может. Или…
– Ты видел узор? – он посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд у него был тяжёлый, как могильная плита. – Паутина без паука в центре?
Я кивнул.
– Это его знак. Знак Пустоты. Морок не тварь. Он… обман. Он приходит, когда мир слабеет. Когда вера уходит. Он питается страхом. То, что ты видел – это он играл с тобой. Показывал, что правила больше не действуют. Что волк может летать, а след – исчезать.
Я нервно усмехнулся.
– И что делать? Перуну требу принести? Козла зарезать? Я уже резал, когда мать помирала. Не помогло.
– Не язви, мальчишка, – в голосе Рогдая прорезалась сталь. – Тут не до язвы. Это плохое знамение. Очень плохое. Сегодня он зверя вывернул, завтра…
Он не договорил. Снаружи раздался крик.
Не крик боли или ярости. Это был визг, полный такого животного, запредельного ужаса, что у меня кровь застыла в жилах. А потом закричали другие. Много. И мужчины, и женщины. Визг, рёв, хруст. И тут же – запах. Тот самый. Сладковатый запах гниющего мяса и палёной шерсти, но теперь в сто раз сильнее. Он ворвался в избу, заполнил лёгкие, вызывая рвотные спазмы.
Мы с Рогдаем переглянулись. В его старых глазах я впервые в жизни увидел то, чего не видел никогда – страх.
– Он пришёл, – прошептал старик.
Я выхватил топор, который висел на стене, и бросился к двери.
«А вот сейчас, – пронеслось у меня в голове, пока я бежал навстречу крикам и вони, – мы и посмотрим, чьи сказки страшнее».
Глава 2. Красный снег
Я рванул тяжёлую дубовую дверь на себя, и в лицо ударил не мороз. Ударил рёв.
Это был не рёв битвы, не слаженный крик дружины, идущей на щиты. Это был вой скотобойни, где скотина внезапно сама взялась за ножи. Смесь предсмертных хрипов, гортанных воплей, полного ужаса женского визга и тонкого, пронзающего до самого нутра, детского плача. Воздух был густым, как кисель. Он пах горящей соломой, свежей кровью – этот особый, медно-сладкий запах, – палёным мясом и страхом. О, этот запах страха, его ни с чем не спутать – резкий, как запах мочи и дерьма, когда тело понимает, что оно сейчас умрёт.
«Знаешь, есть такое мгновение? – прошептал я сам себе, пока глаза привыкали к пляшущему красному свету. – Мгновение, когда твой мозг отказывается верить в то, что видят глаза. Он отчаянно ищет объяснение попроще. Набег? Печенеги? Варяги-отморозки? Что угодно, лишь бы не принять правду».
Но правду нельзя было не принять. Она стояла посреди улицы и смеялась.
Правда имела облик кузнеца Микулы. Огромный, как медведь, мужик, который мог согнуть подкову голыми руками. Он стоял над своей женой, Одаркой, маленькой, пухлой женщиной, которая пекла лучший хлеб в городище. И бил по ней своим ковочным молотом. Не со злобой. Не в ярости. Он бил методично, с каким-то жутким, экстатическим рвением, и с каждым ударом, от которого хрустели кости и брызгала во все стороны тёплая жижа, он кричал одно и то же:
– Сгинь, тварь многоногая! Сгинь, паучья матка! Я выпущу из тебя гниль!
Я видел его глаза. Они были широко открыты, но в них ничего не было. Пустые, стеклянные шары, отражающие пламя горящих изб. Он не видел Одарку. Он видел чудовище из своих худших, самых потаённых кошмаров. И он был счастлив, что может наконец его убить.
«Вот так, – пронеслось у меня в голове, пока я цепенел в дверях. – Вот так выглядит безумие. Оно не плачет. Оно смеётся».
Старый Рогдай, выскочивший за мной, охнул и схватился за сердце. Но времени на это не было. Картина разворачивалась во все стороны. Два брата, Фома и Ерёма, всегда неразлучные, катались по снегу, пытаясь выдавить друг другу глаза. Ерёма выл, что Фома «украл его солнце». Старая повитуха Агриппина сидела на крыльце своей избы и монотонно билась головой о столб, что-то напевая себе под нос.
А потом я увидел матерей. Нескольких. Они шли, протягивая руки к своим визжащим детям. Только вместо лиц у них… У них была тьма. Пульсирующий, клубящийся мрак, который искажал черты, превращая их в безглазую, безротую маску пустоты. Дети бежали от них, спотыкаясь, падая в красный снег, а матери шли за ними, и из этой тьмы доносился их обычный, ласковый голос: «Иди к мамочке, сынок… Куда же ты, доченька?..»
– Этого не может быть, – прохрипел я, делая шаг вперёд. – Спиридон! Это я, Всеволод! Что ты творишь?!
Мужик, которого я окликнул, обернулся. Он как раз заносил топор над своей соседкой. Его взгляд скользнул по мне, не останавливаясь. Будто меня не было. Будто я – пустое место, просто часть пейзажа. Он посмотрел сквозь меня на горящий сарай за моей спиной и заорал:
– Огненные бесы! Они повсюду!
Он не видел меня. Никто из них меня не видел. Я был призраком в их общем, персональном аду. Я и Рогдай. Может, были и другие, кто ещё не ослеп, но в этом кровавом хаосе их было не найти.
И тогда я увидел её. Маленькая Лада, дочка ткачихи. Ей лет шесть, не больше. Она стояла посреди улицы, оцепенев от ужаса, и смотрела, как на неё надвигается Горазд, мужик тихий и безобидный, вечно слегка дурковатый. Он тащил в руке тяжёлую дубину. Его губы были растянуты в счастливой, идиотской улыбке.
– А вот и крыса болотная! – бормотал он, глядя на девочку. – Хорь гнилозубый! Сейчас я тебе хребет переломаю!
Время для меня замедлилось, стало вязким. Я видел, как Горазд замахивается. Видел слёзы, замёрзшие на щеках Лады. Слышал хрип Рогдая за спиной: «Всеволод, нет…»
Вы когда-нибудь видели, как мир сходит с ума? Не в книжках, не в сказках пьяного волхва. А вот так, по-настоящему. Когда воздух густеет от криков, а снег под ногами становится тёплым и липким. В этот момент понимаешь одну простую вещь: никаких богов нет. Есть только мясо, страх и острый кусок железа в руке. И ты либо режешь, либо режут тебя. Просто, да?
Я не помню, как принял решение. Тело сделало всё само. Три быстрых шага. Мой топор, тот, что висел на стене у Рогдая, показался лёгким, как пёрышко. Я ударил Горазда в плечо, у ключицы. Не насмерть. Я хотел его остановить.
Но топор вошёл глубоко. С хрустом кости и влажным, рвущимся звуком мяса. Безумная улыбка сползла с лица Горазда. На секунду в его глазах промелькнуло узнавание. Он посмотрел на меня, потом на топор в своём плече, потом снова на меня. В его взгляде был немой вопрос: «За что?»
А потом его глаза остекленели, и он рухнул в снег, дёргаясь.
Я стоял над ним. Руки дрожали. На моём топоре была кровь. Не звериная. Кровь человека, которого я знал всю жизнь. Который, может, и не хотел этого делать. Но сделал бы.
Маленькая Лада смотрела на меня. Она не плакала. Она просто смотрела. В её глазах я был не спасителем. Я был ещё одним чудовищем с топором, от которого пахло кровью.
Всё. Черта пройдена. Что-то во мне сломалось. Затвердело. Превратилось в холодный, острый осколок льда.
– В избу! Ко мне! Живые, ко мне! – раздался за спиной властный рёв Рогдая. Старик нашёл в себе силы.
Я схватил оцепеневшую Ладу за руку и потащил за собой, обратно в дом старосты. Вокруг продолжалась вакханалия. Кто-то пытался зубами перегрызть горло коню. Кто-то плясал в огне, распевая песни. Но я больше не смотрел по сторонам. Я смотрел только на красный снег под ногами. Красный от крови моих людей.
И чувствовал липкое тепло рукояти топора в своей руке. Он стал частью меня. Единственной частью, которая имела смысл в этом обезумевшем мире.
Глава 3. Дом лжи
Мы завалили дверь тяжелой дубовой лавкой и сундуком с добром Рогдая. Стук массивной задвижки прозвучал, как удар могильной лопаты. Конец. Снаружи остался мир, который мы знали. Внутри, в полумраке избы, оказались те, кто успел добежать. Горстка. Не больше дюжины.
Мужики, которых я знал как крепких, здравомыслящих охотников и пахарей, теперь выглядели как затравленные звери. Глаза бегают, руки дрожат. Бороды слиплись от пота и, возможно, крови. Женщины сбились в дальнем углу, прижимая к себе уцелевших детей. Они не плакали. Слёзы, кажется, закончились там, снаружи. Теперь они просто тихо, прерывисто выли, как волчицы над мёртвыми щенками. И маленькая Лада, которую я притащил, сидела у моих ног, вцепившись в мой сапог. Её глаза были взрослыми, пустыми, она смотрела на тлеющие угли в очаге и молчала. Молчание детей страшнее любого крика.
«А вот сейчас самое весёлое и начнётся, – подумал я, прислонившись спиной к холодной стене и чувствуя, как липнет к коже рубаха. – Снаружи – обезумевшее стадо. Внутри – клетка с перепуганными до усрачки крысами. Угадайте, где опаснее?»
Снаружи доносились приглушённые крики и треск горящего дерева. Время от времени в дверь с той стороны глухо ударялось что-то тяжёлое. Чьё-то тело. Мы старались не слушать.
Рогдай, бледный как полотно, но с твёрдым взглядом, взял на себя командование.
– Воды всем, – его голос был хриплым, но не дрожал. – Бабы, найдите тряпки, раны перевязать. Мужики – к окнам. Закрыть ставнями. И тихо. Не издавать ни звука.
Люди задвигались, подчиняясь знакомому голосу власти. На мгновение показалось, что всё будет хорошо. Что мы отсидимся, дождёмся утра, и этот кошмар закончится. Как же мы были наивны.
Морок не ломился в дверь. Он уже был здесь. Он просочился вместе с нами, въелся в нашу одежду, забился в наши лёгкие с запахом крови. Он не кричал. Он шептал.
Первым сломался Онуфрий, здоровенный дровосек. Он сидел и тупо смотрел на свои ладони. А потом тихо сказал, ни к кому не обращаясь:
– Руки… Они не мои. Кожа чужая.
Ему сказали заткнуться. Он послушно замолчал. Но я видел, как он продолжает украдкой разглядывать свои пальцы, будто это приползшие на его тело пауки.
Потом кто-то тихо всхлипнул в женском углу. Молодая девка Весняна, известная на всё городище своим звонким смехом, сидела, скорчившись, и смотрела на Рогдая. Просто смотрела, не отрываясь, и по её щекам текли слёзы.
Паранойя густела в воздухе, как дым от сырых дров. Люди начали коситься друг на друга. Взгляд соседа, который ты вчера встречал за кружкой медовухи, теперь казался тяжёлым, испытующим. Ты чего смотришь? У тебя кровь на рукаве. Чья это кровь? Может, моей сестры? Ты почему дышишь так громко? Хочешь меня оглушить, а потом напасть?
Страх – заразная тварь. Хуже любой лихорадки.
– Рогдай… он не моргает, – прошептал Ратибор, один из мужиков у окна. Его голос дрожал так, что слова рассыпались. – Я считал… уже минуту… он не моргает!
Рогдай сидел в своём кресле у очага, прямо, как изваяние. Он действительно не моргал, глядя на пляшущие языки пламени.
– Заткнись! – шикнул я на Ратибора, подходя ближе. – Мы все на пределе! Это обман! Не поддавайся!
Я положил руку старосте на плечо. Оно было каменным.
– Отец Рогдай? Ты в порядке?
Он медленно повернул голову, и его глаза впились в меня. Они были ясными, спокойными, но в их глубине прятался такой холод, от которого у меня волосы на загривке встали дыбом.
– Порядок, Всеволод. Я думаю, – сказал он ровно и снова отвернулся к огню.
Но этого хватило. Весняна вскочила. Её глаза были безумны.
– Его глаза! – взвизгнула она, указывая на Рогдая дрожащим пальцем. – Я видела! Там огня нет! Там уголья чёрные! Он – не он!
– Тихо, дура! – рявкнул на неё её собственный муж, пытаясь усадить. – С ума сошла от страха!
– Его тень… – продолжала всхлипывать она, вырываясь. – Посмотрите на его тень! Она неправильно падает! Она длиннее его самого! Она… она тянется!
Я посмотрел. Очаг отбрасывал на стену за Рогдаем пляшущую, кривую тень. У всех нас были такие же. Ничего необычного. Я уже хотел сказать ей это. И тут язык прилип к гортани.
«А ведь она, сука, права…»
На мгновение, когда пламя в очаге качнулось, тень старосты действительно отделилась от его плеч. Она вытянулась, изогнулась, как чёрная змея, дотянулась до потолочной балки, обвила её и снова вернулась на место. Это длилось не дольше удара сердца. Никто, кроме меня, кажется, не заметил. Или все заметили, но испугались поверить.
Но мой мир перевернулся. Всё. Ловушка захлопнулась. Он внутри. Он носит лицо нашего старосты.
А дальше всё произошло быстро, как удар молнии.
Весняна, видя, что ей никто не верит, выхватила из-за пояса маленький, остро отточенный нож для чистки рыбы. Тот, который всегда носила с собой. С воплем, в котором смешались ужас и какая-то отчаянная решимость, она бросилась к креслу.
– Не он! Не наш!
Никто не успел её остановить. Лезвие с глухим, влажным звуком вошло Рогдаю в бок, под рёбра. Староста не вскрикнул. Он крякнул, как будто его просто толкнули. Медленно посмотрел на рукоять ножа, торчащую из его бока, потом на Весняну. На его лице не было боли. Только удивление.
– Девка… что же ты…
А потом в его глазах погас последний огонёк разума. Муж Весняны с рёвом бросился на жену. Ратибор, который видел, как «не моргает» Рогдай, заорал, что она спасла их всех, и вцепился в волосы мужа Весняны. Ещё один мужик решил, что Ратибор тоже «заражён», и ударил его поленом по голове.
Изба взорвалась. Началась резня. Слепая, бессмысленная, страшная в своей замкнутости. В крошечном пространстве люди, полчаса назад бывшие соседями и друзьями, калечили друг друга, крича обвинения, вырванные из самых глубин их параноидального ужаса.
– Ты смотрел на мою жену!
– Ты украл моего поросёнка в прошлом году, я видел!
– В твоих глазах плещется вода из Нави!
Я оттолкнул от себя Ладу, запихнул её под лавку. И поднял топор.
Морок снова смеялся. Только теперь он смеялся внутри. Смеялся моим собственным голосом.
«Видишь, охотник? – шептал он мне. – Не нужно ломать стены. Нужно просто чуть-чуть подтолкнуть. Они всё сделают сами. Всегда. Просто дай им хороший повод бояться друг друга».
Я стоял в центре этого маленького ада. Топор в моей руке казался невыносимо тяжёлым. Кровь Горазда на нём уже успела застыть. И я понимал, что скоро к ней добавится ещё. Не потому что я хотел этого. А потому что, когда все вокруг сошли с ума, единственное, что ты можешь сделать, чтобы выжить – это сойти с ума вместе с ними. Или хотя бы притвориться.
Глава 4. Единственный выживший
Я не помню, как закончилась ночь. Кажется, она никогда не должна была кончиться. Последнее, что отпечаталось в памяти – звук собственного хрипа, когда я боролся с Онуфрием, дровосеком, который решил, что я хочу «украсть его дыхание». Его руки, которые я помнил могучими и добрыми, когда он вытаскивал застрявшую в грязи телегу, теперь сжимали моё горло с силой мельничного жернова. Я ударил его в лицо рукоятью топора, снова и снова, пока хватка не ослабла. Потом кто-то ударил меня сзади по голове. Тьма.
Первым был холод. Липкий, проникающий холод, который бывает только от остывающей плоти. Я лежал лицом вниз в чём-то мокром. Дышать было трудно. Пахло железом, потрохами и страхом, который въелся в сами стены. Я открыл глаза. Перед лицом, в нескольких вершках, лежала рука. Женская, с дешёвым медным колечком на пальце. Рука Весняны.
Я пришёл в себя под грудой тел. Меня просто завалило в общей свалке. Чьи-то ноги, чьи-то руки, волосы… Всё это переплелось в один жуткий, неподвижный узел. Меня спасло то, что я оказался внизу. Кажется. Или просто повезло. А им нет.
Воздух был недвижим. Ни стона, ни хрипа, ни вздоха. Только моё собственное тяжёлое, рваное дыхание, которое казалось оглушительным в этой мёртвой тишине. Я единственный дышал в этой избе. Эта мысль была не радостной, не страшной. Она была никакой. Просто факт. Как то, что камень – твёрдый, а вода – мокрая.
С усилием, от которого затрещали все кости, я начал выползать из-под этой груды мяса. Голова раскалывалась, в боку что-то остро кололо при каждом движении. Одежда промокла насквозь от чужой крови и примёрзла к телу. Наконец, я выбрался. Встал на дрожащие ноги, опираясь о стену.
В избе царил полумрак. Тусклый серый свет пробивался сквозь щели в ставнях. Рассвет. В его безжалостном, честном свете всё выглядело ещё омерзительнее. Это была уже не сцена трагедии. Это была работа мясника-неумехи. Искажённые, застывшие в нелепых позах тела. Разинутые рты. Выпученные глаза, в которых навсегда застыл последний кошмар. Я нашёл глазами маленькую Ладу. Она всё так же сидела под лавкой, свернувшись калачиком. Я на секунду понадеялся. Но потом увидел неестественно вывернутую шейку и тонкую струйку крови из уголка рта. Видимо, её просто затоптали.
Мне захотелось блевать. Но желудок был пуст. Вместо рвоты из груди вырвался какой-то сухой, удушливый спазм.
Дверь была завалена, но не до конца. Я нашёл в себе силы растолкать сундук и лавку. Морозный воздух ударил в лицо, обжигая лёгкие. Я выпал наружу. И увидел своё городище.
Оно не сгорело дотла. Огонь пожрал несколько крыш и погас сам собой. Городище было… тихим. Той самой тишиной из леса, но теперь она была пропитана запахом крови и пепла. Над улицами висел лёгкий дымок от тлеющих углей. И падал снег. Редкие, ленивые хлопья ложились на тела, на красные лужи, на брошенное оружие, пытаясь укрыть весь этот срам белым саваном. Не получалось. Краснота проступала сквозь белизну, как незаживающая рана.
Я пошёл. Куда – не знал. Просто шёл, переступая через то, что ещё вчера было моими соседями.
Есть вещи хуже смерти. Например, выжить. Идти по улице своего детства, где каждый камень помнит, как ты бегал босиком, и переступать через тех, кто учил тебя ходить. Знаешь, какое чувство самое сильное? Не горе. Не страх. Облегчение.
Вот она, Малуша, которая давала мне, сопливому пацану, парное молоко. Лежит с серпом, воткнутым в глазницу. Я переступаю через неё и чувствую укол. Нет, не скорби. Укол липкого, омерзительного облегчения от того, что это не я лежу здесь с серпом в глазу. Что моя шкура ещё цела. И от этого омерзения к себе хочется выть.
Вот Клим, страж с ворот. Старый, ворчливый, но добрый дед. Он задушен. А рядом с ним валяется его сын, тот, что хвастался своей силой. С проломленным черепом. Наверное, кто-то успел отомстить за старика. Или это была уже совсем другая история. Здесь у каждой смерти своя история, и все они одинаково бессмысленны.
Я дошёл до дома старосты. Он лежал на крыльце, вытащенный кем-то наружу. Почти всё городище лежало здесь. Он один из тех, кто начал резню внутри, но видимо, кто-то его выволок из избы. С ножом в боку он далеко не ушёл. Снег под ним был тёмно-бурым. Я думал, он мёртв.
Но когда я подошёл, он открыл глаза.
Мутные, подёрнутые плёнкой боли, но в них ещё теплился разум. Он не видел меня, смотрел куда-то сквозь. Потом его взгляд сфокусировался на моём лице. Он узнал меня.
Его губы, запёкшиеся кровью, шевельнулись.
– Все… волод…
Он протянул ко мне руку, ухватился за край моего тулупа. Хватка была слабой, но отчаянной.
– Ты… живой… – прохрипел он. Из его рта пахнуло смертью. – Хорошо…
Он закашлялся, и изо рта пошла розовая пена.
– Беги… – выдохнул он одно-единственное слово. В этом слове было всё: приказ, мольба, завещание. – Беги… отсюда… Оно… ещё… здесь…
Я смотрел на него. На старика, который учил меня ставить силки на зайца, который заступался за меня перед отцом, когда я провинился. Сейчас он умирал. Долго. Мучительно. Он не просил о помощи. Он просил, чтобы я спас себя.
И я понял, что есть ещё одна, последняя просьба в его глазах. Невысказанная.
Мой топор всё ещё был в моей руке.
Я опустился на колени рядом с ним. Положил свою свободную руку на его ладонь, сжимавшую мой тулуп.
– Спи, отец Рогдай, – сказал я тихо. – Ты устал.
Он закрыл глаза. Возможно, это было согласие. Возможно, он просто потерял сознание. Мне было уже всё равно.
Удар был коротким и точным. Я умею это делать. Я охотник.
После этого я сидел на крыльце рядом с ним ещё очень долго. Снег всё падал. Я смотрел на свои руки. Они были в чужой крови. Руки убийцы. Руки единственного выжившего.
И где-то глубоко внутри, под слоем шока и омерзения, шевельнулся тот самый червяк. Липкий, холодный червяк облегчения.
«Ты выжил, – шептал он. – Ты. А не они. Значит, ты сильнее. Значит, ты был прав».
Я встал и пошёл прочь от тела. Нужно было искать еду, оружие, тёплую одежду. Нужно было жить. И эта простая, животная мысль была отвратительнее всего, что я видел этой ночью.
Глава 5. Эхо в пепле
Время перестало существовать. Был просто серый свет дня и чёрный провал ночи, который я проводил, забившись в самый дальний угол пустой избы, вздрагивая от каждого скрипа и воя ветра. Ветер теперь звучал как крики умирающих. Я не спал. Я просто отключался, проваливаясь в вязкую, тревожную дрёму без сновидений.
Сколько прошло времени? День? Два? Не знаю. Я двигался на автомате. Как хорошо отлаженная кукла, у которой дёргают за верёвочки древние инстинкты: голод, холод, выживание.
«Нужно больше еды», – говорил внутренний голос, и мои руки сами лезли в чужие лари, набивая мешок вяленым мясом, сушёными грибами, горстями зерна. Я проходил мимо тел, стараясь не смотреть на их лица. Но они всё равно смотрели на меня. Их стеклянные глаза провожали каждый мой шаг. И я начал с ними разговаривать.
– Извини, Микула, – пробормотал я, вытаскивая из его кузни хороший топор и пару ножей. – Тебе они уже ни к чему. А Одарке… Одарке, прости, мужика твоего какая-то дрянь ослепила. Хлеб у тебя был знатный.
Я стоял посреди разграбленной кузни, разговаривая с двумя трупами, и не чувствовал себя сумасшедшим. Сумасшествием был весь этот мир. Я был единственным нормальным.
Я таскал еду, оружие, тёплую одежду. Складывал всё в одной избе, самой целой, создавая себе что-то вроде берлоги. Берлога в городе мёртвых. И всё это время они были со мной. Их голоса звучали у меня в голове, привычные, родные, только теперь в них была какая-то едкая ирония.
– И мой тулуп забери, Всеволод, он теплее твоего, – будто бы говорил Клим, страж с ворот. – Тебе в нём ещё по лесам бегать. От себя самого.
– А на дорожку моих пирогов возьми, иродово отродье, – шелестел голос старухи Малуши. – Жри, не подавись. Тебе ещё долго жить. Дольше всех нас.
Я отвечал им. Спорил. Оправдывался.
– Заткнитесь, – бормотал я, укутывая ноги в новые портянки. – Я не просил этого. Я не хотел выжить.
«Врёшь», – отвечали они все хором, одним беззвучным, многоголосым шёпотом у меня в мозгу.
На второй день я решил, что их надо сжечь. Неправильно это. Не по-людски. Душам нужно помочь уйти к предкам, к Велесу на луга. А то так и будут ходить неприкаянные. Эта мысль показалась мне очень важной. Единственно правильной в этом разрушенном мире.
Я начал стаскивать тела к центру городища, к старому идолу Перуна. Таскал, пока руки не онемели. От напряжения и от мороза. Это была тяжёлая работа. Замёрзшие тела были неподатливыми, как деревянные колоды. Я складывал их в одну огромную кучу. Женщины, дети, мужчины. Складывал и плакал. Нет. Не так. Я не плакал. Я выл. Беззвучно. Просто из груди вырывался сухой, рваный хрип. Моё тело пыталось плакать, но глаза оставались сухими. Слёзы замёрзли где-то внутри.
Сложив тел двадцать, я понял, что у меня не хватит сил. Никогда. Их было слишком много. А я был один. Попытка придать этому хаосу хоть какой-то смысл, хоть какое-то подобие ритуала, провалилась. Я сел на снег рядом с этой горой замёрзшего мяса и бессильно рассмеялся. Смех был похож на карканье больного ворона.
«Да кому вы теперь нужны со своими ритуалами?» – прошептал я. – «Перун смотрел, как вас режут. Велес не пришёл за вашими душами. Вы просто мясо. Как тот сохатый в лесу».
Я бросил эту затею. И пошёл дальше. Бесцельно. Куда глаза глядят. И ноги сами принесли меня к моей избе.
Она стояла целая. Не сгоревшая, не разрушенная. Словно вся эта бойня обошла её стороной. Дверь была приоткрыта. Я толкнул её и вошёл.
Внутри… всё было как обычно.
Лавка, на которой отец любил строгать. Материн прялка в углу. Запах трав и сухого дерева. На столе стояла пустая глиняная миска – я ел из неё утром перед уходом в лес. Казалось, я просто вернулся с охоты. Что сейчас скрипнет дверь, войдёт мать, начнёт ворчать, что я опять натащил на сапогах снега. Сейчас из-за печки выйдет отец, хмыкнет в усы и спросит, пустой ли я.
Я медленно прошёл к столу. Провёл пальцем по его шершавой, знакомой до каждой царапины поверхности. Сел на своё место. И стал ждать.
Вот тут меня и накрыло. Не сразу. Сначала пришла тишина. Другая. Не та, что снаружи. Эта тишина была живая. Она состояла из непроизнесённых слов, несделанных шагов, незаданных вопросов. Тишина места, откуда навсегда ушла жизнь. Она была такой плотной, что в ушах зазвенело.
Холод начал пробирать до костей. Не тот, что с улицы. Этот холод шёл изнутри. Из самой глубины груди, где, наверное, должна была быть душа. Там теперь была просто дыра. Ледяная, бездонная дыра. Я сидел, ссутулившись, глядя в пустоту перед собой. На место отца. На место матери.
И тут из дыры в груди поднялся спазм. Сухой, беззвучный. Он сотряс всё моё тело. Раз. Другой. Третий. Будто из меня пытались вырвать позвоночник через глотку. Но крика не было. И слёз не было. Просто судорога чистого, незамутнённого горя. Не того горя, когда ты плачешь по кому-то. А того, когда ты осознаёшь, что тебя больше нет.
Человек, который жил в этом доме, смеялся за этим столом, спал на этой лавке – умер. Его зарезали вместе со всеми там, на улице. А я… Я не знаю, кто я. Я – то, что от него осталось. Оболочка. Эхо в доме, полном пепла. Призрак в городе призраков.
И в этой оглушающей тишине я понял одну простую вещь. Я могу забрать всю еду, всё оружие. Но я никогда не смогу забрать из этого дома тепло. Потому что его источником был не очаг.
Глава 6. Кровоточащий лес
Я не помню, как принял решение уйти. Наверное, его и не было. Просто в какой-то момент ноги сами понесли меня прочь. Прочь от тишины, от стеклянных глаз, от дома, который больше не был моим. Я шёл, не оглядываясь. Потому что если бы оглянулся, то каменные идолы, которыми стали мои односельчане, затянули бы меня обратно. Я просто шёл на север. Почему на север? Не знаю. Может, потому что там холоднее. Хотелось замёрзнуть окончательно, не только внутри.
Я пересёк замёрзшую речку, поднялся на холм и вошёл в лес. Мой лес.
Сколько себя помню, он был моим домом. Я знал в нём каждую тропинку, каждую ложбину. Знал, где растёт сладкая брусника, где медведь устроил себе берлогу, какое дерево стонет перед бурей. Я говорил с ним на одном языке. Я был его частью, а он – моей.
Теперь всё изменилось. Или изменился я.
С первых же шагов я почувствовал это. Лес стал чужим. Враждебным. Он смотрел на меня. Не как раньше – спокойно, по-хозяйски. Он смотрел на меня тысячами глаз, как на паршивую овцу, забредшую в волчью стаю.
Ветки, которые я раньше легко раздвигал, теперь цеплялись за мою одежду с какой-то злобной настойчивостью. Колючие, сухие, они скрипели, как старые кости, рвали мой тулуп, царапали кожу. Костлявые пальцы, которые пытались удержать, не пустить, затянуть в чащу и разорвать.
Под ногами хрустел наст, но звук был неправильным. Не знакомый звонкий хруст, а глухой, чавкающий, будто я шёл не по снегу, а по черепам. Я шёл, а рана в боку, полученная в избе Рогдая, начала оживать. Тупая боль сменилась острой, пульсирующей. Каждый шаг отдавался горячим ударом под рёбрами. Начинался жар.
Когда долго идёшь по лесу один, да ещё и с горячкой, начинаешь с ним разговаривать. Нет, не так. Он начинает разговаривать с тобой.
Сначала это был шёпот. Ветер, запутавшийся в еловых лапах, вдруг складывался в слова. Я не мог разобрать, что он шепчет, но интонация была ясна – насмешливая, осуждающая. «Убега-а-а-аешь… Тру-у-у-ус…»
Я мотал головой, пытаясь отогнать наваждение.
– Заткнись, – прохрипел я пустоте.
Но это было ошибкой. Произнесённое вслух слово будто развязало лесу язык. Он заговорил в полную силу.
Тени между деревьями перестали быть просто тенями. Они сгущались, принимали знакомые очертания. Вот мелькнул высокий силуэт Микулы с молотом. Вот проковыляла, припадая на ногу, старая Агриппина. Они не нападали. Они просто были там, на периферии зрения, исчезая, как только я пытался на них сфокусироваться. Молчаливые, осуждающие призраки.
Реальность начала плыть, как весенний лёд на реке. Узор на коре старого дуба вдруг сложился в лицо Рогдая. Глубокие морщины-трещины, сучки-глаза, а в них – вековой укор. Я споткнулся и упал. И пока лежал лицом в снегу, земля подо мной, казалось, вздохнула. Медленно, глубоко, как огромное спящее существо. И я услышал голос. Голос земли. Голос всех, кто лежал сейчас в ней там, в Волосово.
«Почему ты здесь, а мы там?» – спросили они.
Я вскочил, отряхиваясь от снега и липкого ужаса. Пошёл быстрее, почти побежал, не разбирая дороги. В голове стучал раскалённый молот лихорадки. Картинки сменяли одна другую. То я снова в избе, и чьи-то мёртвые пальцы вцепляются мне в горло. То я на улице, и маленькая Лада смотрит на меня своими пустыми, взрослыми глазами.
Я заблудился. Я, который мог найти дорогу в лесу с закрытыми глазами, заблудился в трёх соснах. Лес водил меня кругами. Я выходил к одной и той же уродливой, расколотой молнией сосне снова и снова. И каждый раз мне казалось, что она насмешливо кланяется мне своими изуродованными ветвями.
Мир окончательно превратился в кошмарный бред. Снег под ногами казался красным. Стволы деревьев сочились тёмной, густой кровью. Вой ветра превратился в слаженный хор голосов.
«Ты оставил нас!»
«Ты убил старика!»
«Ты взял мою одежду!»
«Ты дышишь нашим воздухом!»
Каждое дерево смотрело. Каждый камень дышал. И все они задавали один и тот же вопрос, который стучал у меня в висках, перекрывая боль от раны, холод и голод:
«Зачем ты выжил?»
А у тебя, блядь, нет ответа.
Нет ответа, потому что любой ответ будет ложью. Потому что ты выжил не потому, что был сильнее, умнее или храбрее. Ты выжил случайно. Как последний таракан в выгоревшем доме. Ты выжил, потому что просто оказался на дне кучи.
– Потому что! – заорал я в пустоту, вглядываясь в тысячи невидимых, осуждающих глаз. – Просто потому что! Отъебитесь!
Ответа не было. Только насмешливый шелест ветра в голых ветвях.
Силы оставляли меня. Рана в боку горела огнём. Ноги подкашивались. Я упал на колени. А потом завалился на бок, в глубокий сугроб. Холодный снег показался долгожданным, спасительным объятием. Он начал укрывать меня, засыпая лицо, руки, заползая под воротник. Боль начала утихать, сменяясь приятной, обволакивающей пустотой. Голоса стихли.
«Вот и всё», – подумал я без сожаления.
Я закрыл глаза. Лес победил.
Глава 7. Паук на мху
Пустота была тёплой. Удивительно, но это было первое, что я почувствовал. Не ледяной холод снега, а вязкое, обволакивающее тепло, как в материнской утробе. Оно баюкало, обещало покой, шептало, что больше не нужно бороться, не нужно бежать, не нужно помнить. Я с радостью отдавался этому теплу, погружаясь всё глубже в сладкое, белое ничто. Смерть оказалась не такой уж и страшной. Она была… уютной.
Я почти ушёл. Уже видел её, мать, на краю белого поля. Она улыбалась и манила рукой. И я почти шагнул ей навстречу. Но тут что-то изменилось.
В моё тёплое небытие вторгся звук. Резкий, гортанный, как скрип старого дерева, сломанного ветром. «Кхаррр!»
А потом боль. Острая, злая, унизительная. Что-то с силой ткнуло меня прямо в рану на боку. Ткнуло так, что моё умирающее тело взбрыкнуло, как подстреленный лось. Теплое одеяло забвения разорвалось в клочья, и в прореху хлынул ледяной холод реальности, рёв ветра и вонь собственной гниющей плоти.
Я с трудом разлепил ресницы. Снежинки таяли на них, превращаясь в мутные слёзы. Мир был расплывчатым белым пятном. Но в центре этого пятна проступала фигура. Тёмная, неправильная. Не отсюда.
Когда зрение наконец сфокусировалось, я увидел её.
Она не была похожа ни на одну женщину, которую я знал. Не лесная целительница из бабкиных сказок, не румяная деревенская девка. Это было что-то другое. Существо. Часть этого кровоточащего, обезумевшего леса.
На ней были какие-то звериные шкуры, грубо сшитые. Из-под них виднелись босые ноги – на снегу, в лютый мороз. Грязные, загрубевшие, как древесная кора. Волосы, цвета прошлогодней травы, были спутаны, в них застряли хвоя, мелкие веточки и, кажется, чьё-то перо. Она была худой, жилистой, угловатой, как сухая ветка.
Но дело было не в этом. Дело было в её глазах. Светлые, почти бесцветные, как льдинки в зимнем ручье, они смотрели не на меня. Они смотрели сквозь меня. Так смотрят на вскрытую тушу зверя, изучая потроха. Этот взгляд был лишён всего человеческого: жалости, любопытства, злобы, сострадания. Он был древним, как мир. Взгляд паука, разглядывающего попавшую в паутину муху.
На её плече сидел ворон. Огромный, старый, с облезлыми перьями и умным, злым глазом-бусинкой. Это он каркнул. Это она ткнула меня палкой – длинной, сухой палкой, которую держала в руке.
«Знаешь это чувство, когда ты беспомощен? – прошептал умирающий голос у меня в голове. – Когда ты просто кусок мяса, который можно съесть, а можно и пнуть. Не унижение. Нет. Просто осознание своего места в мире. Я был сломанной веткой на её пути. И она решала, переступить или поднять».
Она не спешила. Она медленно обошла меня по кругу. Двигалась бесшумно, ступая босыми ногами по снегу так, словно родилась в нём. Она изучала меня. Нюхала воздух, как волчица. Наклонилась, посмотрела на мои полузанесённые снегом следы, на бурое пятно крови рядом со мной. Потом снова ткнула меня палкой. На этот раз не в рану, а в грудь. Проверяя, есть ли ещё движение.
Наконец, она заговорила. Голос у неё был под стать внешности – низкий, грудной, скрипучий. Словно камни, перекатывающиеся на дне быстрой реки. Она говорила не со мной. Она говорила с вороном. Или с лесом. Или с самой собой. Но говорила достаточно громко, чтобы я, балансирующий на краю, её услышал.
– Мясо почти протухло. Но кость крепкая.
Она сделала паузу, снова принюхалась, склонив голову набок, как птица.
– И воняет от него… не только кровью. Воняет пустотой.
Ворон на её плече встрепенулся и издал свой резкий, утвердительный крик.
– Кхаррр!
Она кивнула, будто птица ответила ей на внятном языке, подтвердив её догадки. Её нечеловеческие глаза снова впились в меня, и на этот раз мне показалось, что она видит не мою рану, не мою кровь, а ту чёрную, ледяную дыру у меня в душе.
– Вижу, старый. От него тянется след. Чёрный. Липкий.
Она замолчала. Воцарилась тишина, которую нарушал лишь свист ветра и стук моих собственных зубов. Я ждал. Ждал, что она уйдёт. Оставит меня умирать в моём тёплом снегу. Это было бы самым милосердным.
Но она не ушла. Она воткнула свою палку в сугроб. Потом присела на корточки рядом с моим лицом. От неё пахло мхом, дымом и чем-то ещё – диким, животным, незнакомым. Она протянула свою грязную, исцарапанную руку и грубо откинула с моего лба слипшиеся волосы. Её пальцы были холодными и твёрдыми, как камни. Она посмотрела в мои глаза. Долго. Целую вечность.
А потом сказала, на этот раз уже мне:
– Плохая вышла охота, мальчик. Кажется, зверь выследил тебя первым. Ну что ж… Посмотрим, какая из тебя выйдет приманка.
После этих слов она бесцеремонно схватила меня за ворот тулупа и с силой, которой я никак не мог ожидать от такого худого тела, потащила меня по снегу, как мешок с требухой. Моя голова моталась из стороны в сторону и билась о корни деревьев. А я не мог даже застонать. Я просто смотрел в серое небо, на котором кружил одинокий чёрный ворон, и понимал, что моя уютная, тёплая смерть откладывается.
И, кажется, то, что ждало меня впереди, было куда страшнее.
Глава 8. Корень и клык
Она тащила меня, и мир для меня превратился в череду рваных, бессмысленных образов. Серое небо, чёрные стволы, белая земля. Хруст снега под её ногами и скрип моей одежды. Боль. Тупая, всепоглощающая боль, которая стала единственной реальностью. Я несколько раз терял сознание, но каждый раз грубый рывок возвращал меня обратно.
Наконец, рывки прекратились. Я лежал на чём-то жёстком. Вокруг пахло землёй, прелой листвой, сухими травами и дымом. Густым, едким дымом, от которого слезились глаза. Я с трудом разлепил веки.
Я был внутри. Но это была не изба. Это была нора. Вросшее в землю, присыпанное снегом жилище, где потолком служили переплетённые корни огромной, старой ели, а стенами – утрамбованная земля, укреплённая камнями. Посреди норы горел очаг без трубы, и дым, прежде чем найти себе щель в крыше, заполнял всё пространство. Было темно, тесно и душно.
«Так, наверное, чувствует себя лиса в своей норе, – промелькнула слабая мысль. – Или мертвец в могиле».
Заряна стояла ко мне спиной у огня. Её силуэт плясал в свете пламени, казался огромным, кривым, неправильным. Она что-то делала. Что-то варила в глиняном горшке. Из горшка шёл пар и тошнотворный, горький запах. Ворон сидел на одном из корней-стропил под потолком и молча наблюдал за ней, склонив голову набок. Он был похож на судью.
Она обернулась. В её руке была деревянная плошка, полная тёмного, дымящегося варева. Она подошла ко мне. Её бесцветные глаза были пусты, как у хирурга, который собирается резать. Ни жалости, ни сомнения. Только дело.
– Пей, – сказала она. Это был не вопрос и не просьба. Это был приказ, такой же естественный, как приказ волка своей стае.
Я попытался мотнуть головой. Всё моё нутро вопило, что эта отрава убьёт меня. Но сил не было даже на это. Она присела рядом, бесцеремонно зажала мне нос своими каменными пальцами. Когда я инстинктивно открыл рот, чтобы глотнуть воздуха, она влила мне в глотку всё содержимое плошки.
Жидкость была горячей и отвратительной на вкус. Словно смесь желчи, сосновой смолы и гнилой земли. Она обожгла горло, пищевод и огненным комом рухнула в желудок. На секунду я перестал дышать. А потом моё тело взбунтовалось. Меня вывернуло наизнанку. Сухой, судорожный спазм вытряхнул из меня всё, что там ещё оставалось. Но она была к этому готова. Она просто держала мою голову, пока меня рвало чёрной горечью на земляной пол.
– Хорошо, – сказала она с каким-то странным удовлетворением, глядя на то, что из меня вышло. – Гниль выходит.
Не успел я перевести дух, как она взялась за рану. Она просто разорвала на мне тулуп и рубаху, оголив бок. Я увидел свою рану. Она была страшной. Края почернели, кожа вокруг опухла и налилась багровым цветом. От неё шёл жар и слабый сладковатый запах разложения. Я начал умирать ещё в лесу, просто не знал об этом.
Заряна, не говоря ни слова, сунула в огонь широкий нож с почерневшим от времени лезвием. Я смотрел, как металл сначала краснеет, потом начинает светиться оранжевым, а потом почти белым. Я понял, что она собирается делать. Животный ужас парализовал меня. Я попытался отползти, закричать.
– Нет… не надо…
Она даже не посмотрела на меня. Просто поставила своё босое колено мне на грудь, придавливая к лавке, и с силой, которой я бы не ожидал от стаи волков, прижала раскалённый нож к моей ране.
Боль была неземной. Запредельной. Такой, для которой нет слов. Она была белой, как лезвие ножа, и чёрной, как сама Навь. Мир взорвался ослепительной вспышкой. Я заорал. Заорал так, как не орал никогда в жизни, – долго, пронзительно, безгласно, потому что звук застрял где-то в пережжённых лёгких. Я почувствовал запах собственного горящего мяса. И отключился.
Но это не было спасением. Я провалился из одного ада в другой. В лихорадочный бред.
Я снова был в Волосово. Ночь. Пожар. Кровь на снегу. Всё было как тогда. Но теперь она была там. Заряна. Она ходила среди мёртвых тел. Она не спасала. Не убивала. Она… разговаривала с ними. Наклонялась к остывающим трупам, что-то шептала им, и мне казалось, что их синие губы шевелятся в ответ. Она собирала их последние вздохи в маленький кожаный мешочек у себя на поясе. Старый Рогдай сидел на крыльце с ножом в боку и почтительно кланялся ей. Кузнец Микула протягивал ей свой молот, как дар. Она была не гостем в этом кошмаре. Она была его хозяйкой.
Потом картина сменилась. Я лежал на алтаре в лесу, и она стояла надо мной с ножом, собираясь принести меня в жертву. А вокруг стояли все мои мертвецы и одобрительно кивали. Их лица были не злыми. Они были… спокойными. Они ждали меня. А она была жрицей, которая должна была отправить меня к ним.
Я пытался вырваться, бежать. Я кричал, но голоса не было. Я дёргался всем телом, но что-то держало меня. Морок отступал на мгновение, и я осознавал, что лежу на лавке в её норе. И я действительно связан. Мои запястья и лодыжки были прикручены к лавке тугими, жёсткими сыромятными ремнями.
Спасительница и мучительница. Хозяйка кошмара, которая вытащила меня из него, чтобы погрузить в свой собственный, ещё более древний и страшный.
Я метался между бредом и реальностью. Иногда я открывал глаза и видел её лицо над своим. Она вливала мне в рот то воду, то какие-то горькие отвары. Иногда она сидела в углу и что-то пела себе под нос – тихую, тягучую, нечеловеческую песню без слов. Эта песня, казалось, проникала мне прямо в мозг, и от неё образы в моей голове становились ещё ярче и страшнее.
В один из таких моментов, в полузабытьи, я увидел, как она склонилась над моей раной. И она не просто меняла повязку из мха. Она… лизала её. Как волчица зализывает раны своему щенку. И в её бесцветных глазах не было ничего, кроме животной, первобытной сосредоточенности.
В тот момент я окончательно понял. Эта женщина, или кто она там, не лечит меня. Она меня… присваивает. Заново перекраивает. Клеймит, как свой скот. И кем я стану, когда этот жар спадёт, если вообще спадёт, я не знал. Но я точно знал, что тем охотником Всеволодом из Волосово я не буду уже никогда.
Глава 9. Разговор с бурей
Бред отступил не сразу. Он уходил медленно, неохотно, как уходит ночной туман, цепляясь рваными клочьями за деревья. Ему на смену приходила тупая, ноющая боль во всём теле и оглушающая слабость. Первое, что я осознал с полной ясностью – я лежу. И я не связан. Ремней на запястьях и лодыжках не было. Этот простой факт ощущался как огромная победа.
Я медленно открыл глаза. Дым в норе уже не казался таким едким. В очаге тлели угли, давая ровно столько света, чтобы различать очертания. Моя рана в боку была закрыта толстой лепёшкой из какого-то зелёного мха и листьев, перевязанной полоской из оленьей кожи. Она всё ещё болела, но теперь это была чистая, понятная боль заживающей плоти, а не гнилостный жар заражения.
В углу, на куче старых шкур, сидела Заряна.
Она что-то плела из сухих, душистых трав, ловко перебирая тонкими, грязными пальцами. Пучки трав висели повсюду, свисая с корней на потолке, как волосы убитых великанов. Ворон дремал на её плече, засунув голову под крыло. Она была абсолютно спокойна, поглощена своим занятием, и, казалось, не замечала, что я очнулся. Будто я был просто частью обстановки. Как камень или полено.
Я лежал и смотрел на неё, собираясь с силами. Горечь и злость поднимались в груди, вытесняя слабость. Эта женщина, это существо, вытащила меня с того света, но сделала это так, что сам процесс был хуже смерти. Она истязала меня, держала в плену моего собственного разума, и я не знал, зачем. Из милосердия? Не похоже. У неё не было глаз милосердного человека.
Горло было сухим, как пустыня. Я откашлялся. Звук получился хриплым и жалким.
Ворон на её плече встрепенулся, недовольно каркнув. Она же не шелохнулась. Только её пальцы на мгновение замерли, а потом продолжили своё плетение.
– Кто ты, ведьма? – наконец выдавил я. Голос был чужим, слабым. – Что тебе от меня надо?
Она не сразу ответила. Закончила завязывать узелок, отложила плетёнку. И только потом медленно подняла на меня свои бесцветные глаза. В её взгляде по-прежнему не было ничего человеческого.
– Я – та, кто слушает, – её голос, казалось, шёл не из горла, а откуда-то из-под земли, низкий и рокочущий. – А ты – тот, кто кричит.
Я нахмурился, не понимая. Это был ответ не на мой вопрос, а на какой-то свой собственный.
– Что за бред ты несёшь? Я задал простой вопрос.
– А я дала простой ответ, – она чуть склонила голову. – Ты кричал так, что мёртвые в земле зашевелились. Твой крик порвал узор мира в вашем городище. Мне нужно было увидеть, кто так громко вопит.
Я молча смотрел на неё, пытаясь осознать сказанное. Мой предсмертный хрип… порвал узор мира? Что это за безумие? Она сумасшедшая. Точно. Лесная отшельница, тронувшаяся умом от одиночества. От этой мысли стало ещё хуже. Я умирал, а спасла меня полоумная.
«Отлично, – пронеслось у меня в голове, едко и зло. – Спасён сумасшедшей бабой, которая считает, что мой предсмертный хрип нарушил мировое равновесие. Лучше бы я, блядь, сдох в снегу».
Я попытался сесть, но тело пронзила острая боль. Я рухнул обратно на лавку, шипя от бессилия.
– Мои люди… – прохрипел я, глядя в дымный потолок. Горечь снова подкатила к горлу. – Моя деревня… Их всех убили…
Она резко прервала меня. Её голос не стал громче, но в нём появилась твёрдость камня.
– Твои люди ослепли. И сожрали друг друга.
Она произнесла это буднично, констатируя факт, не отводя взгляда. И эти слова ударили сильнее, чем раскалённый нож. Потому что это была правда. Та правда, которую я пытался загнать поглубже, прикрыть общими словами «убили», «напали».
– Не ври, – продолжила она так же ровно, и теперь её взгляд казался физически тяжёлым, он вдавливал меня в лавку. – Особенно себе. Ты видел всё. Я видела это в твоём крике.
Поединок начался. Она безжалостно срывала с меня все мои жалкие защитные покровы. Я, привыкший язвить и отшучиваться от боли, оказался безоружным.
– Даже если так, – выдавил я, переводя дыхание. – Что с того? Что за тварь это сделала? Почему я выжил?
Она снова отвернулась к своему плетению, будто разговор её утомил.
– На первый вопрос ответа не знает никто. Это старая, голодная пустота. На второй… ты сам знаешь ответ, охотник.
– Я не знаю! – выкрикнул я, и от крика рана снова отозвалась болью.
Её пальцы снова замерли. Она подняла на меня свой пронзительный взгляд, и в нём мелькнуло что-то похожее на тень нетерпения.
– Ты выжил, потому что убил первым. В том доме. И последним. На том крыльце. Ты не жертва. Ты такая же часть бури, как и все остальные. Просто твой зуб оказался острее.
Тишина. Её слова повисли в воздухе. Она назвала вещи своими именами. Без осуждения. Без похвалы. Просто факт. И это было хуже всего. Я – убийца. Я – часть бойни.
Я отвернулся к стене, чувствуя себя раздетым и выпотрошенным. Эта ведьма за несколько минут сделала то, чего не смог сделать ни один кошмар – она заставила меня посмотреть на себя без лжи.
– Уходи, – прошептал я. – Оставь меня.
Она не ответила. Я слышал только тихое шуршание сухих трав в её руках. Она осталась. Она выиграла этот раунд. И я понял, что её лечение только началось. Прижигание раны ножом было самой лёгкой его частью.
Глава 10. Урок тишины
Дни потекли медленно, вязко, как сосновая смола. Они были похожи один на другой. Серый рассвет, который едва пробивался сквозь корни над головой. День, проведённый в тумане слабости и тупой боли. Длинная, тёмная ночь, наполненная шуршанием трав в руках Заряны и редкими вскриками ночных птиц.
Рана затягивалась. Ведьма знала своё дело, это приходилось признать. Каждый день она меняла повязку из мха, предварительно прополоскав её в каком-то вонючем отваре. Я пытался рассмотреть, что за травы она использует, но это были просто сорняки, на которые я раньше и внимания бы не обратил.
Как только я смог стоять на ногах, не хватаясь за стены норы, она начала меня гонять.
– Дрова, – сказала она однажды утром, ткнув пальцем в сторону кучи поленьев у входа. – Очаг почти погас.
– У меня топора нет, – прохрипел я.
– Есть твои руки.
И я, шатаясь, пошёл ломать толстые, сухие ветки. Слабость была такой, что после третьей ветки я сел прямо в снег, тяжело дыша. Мне, который мог одним ударом свалить молодое деревце, теперь не хватало сил сломать сук толщиной в руку. Это было унизительно. Заряна молча наблюдала за мной, сидя на пороге своей норы. В её взгляде не было ни жалости, ни насмешки. Она просто наблюдала. Как наблюдают за муравьём, который тащит непосильную ношу.
«Терпи, – говорил я себе, стиснув зубы. – Ты окрепнешь. И как только окрепнешь, ты уйдёшь от этой полоумной к чертям собачьим». Эта мысль стала моим топливом.
Но просто работать она мне не давала. В этом и заключалось её тихое безумие. Каждое простое действие она превращала в какой-то ритуал.
– Неси воду, – говорила она, протягивая мне два тяжёлых деревянных ведра. Ручей был недалеко, шагов двести через лес.
Я взял вёдра, пошёл. Спину ломило, рана в боку тянула. Я зачерпнул ледяной воды и потащил её обратно, проклиная всё на свете.
– Неправильно, – сказала она, когда я, шатаясь, поставил вёдра у входа.
– Что неправильно? – рявкнул я. – Вода в вёдрах, вёдра здесь. Что ещё?
– Ты нёс воду. А нужно было слушать воду, – она подошла, окунула палец в ведро. – Она недовольна. Ты её торопил.
Я просто смотрел на неё, не зная, смеяться мне или бить. Она сумасшедшая. Окончательно и бесповоротно.
– В следующий раз, когда пойдёшь, – продолжила она, будто не замечая моего взгляда, – не думай о норе. Не думай о вёдрах. Почувствуй, как вода переливается. Как она бьётся о стенки. Она тебе споёт свою песню.
Это был бред. Полнейший, беспросветный бред. Но я был слаб, и у меня не было выбора, кроме как делать то, что она говорит.
Когда она посылала меня за дровами, это было то же самое.
– Ты принёс мёртвое дерево, – говорила она, осматривая мою охапку.
– Дрова и должны быть мёртвыми! Сухими!
– Это дерево умерло со злобой. Молния его убила. Оно будет плохо гореть, будет плакать в огне. Ищи дерево, которое уснуло само.
Как, черт возьми, отличить злое мёртвое дерево от уснувшего?! Я орал на неё, бесился. Она не отвечала. Она просто ждала, когда я выполню её приказ.
И я ходил по лесу, как идиот. Прикладывал ладонь к стволам, пытался что-то почувствовать. Сначала – ничего. Просто холодная кора и занозы. Потом, от бессилия и злости, я начал замечать детали, на которые никогда не обращал внимания. Этот ствол чуть теплее на ощупь, потому что солнце греет его сквозь лапы елей. А этот – влажный, почти скользкий, значит, внутри он ещё живой, просто притворился. Этот пахнет грибами и тленом. А этот – остро, смолисто, в нём ещё бурлит жизнь.
Я всё ещё считал это бредом. Но мой мир, сузившийся до её норы и ближайшего ручья, вдруг начал расширяться вглубь. Мои чувства, притупленные горем и шоком, начали обостряться. Сначала вернулись запахи – не только очевидные, вроде дыма и хвои, а сотни других: запах мерзлой земли под снегом, запах прелой коры, тонкий, едва уловимый аромат каких-то почек, готовых ждать весны.
Потом вернулся слух. Я начал слышать не только вой ветра и карканье её ворона. Я слышал, как потрескивает от мороза кора на деревьях. Как мышь шуршит под снегом в десяти шагах от меня. Как дятел не просто стучит, а выбивает определённый, только ему ведомый ритм.
Но самым главным был урок тишины. Я, выросший в шуме городища, а потом оглохший от криков бойни, не знал, что у тишины может быть столько оттенков. Была тишина утренняя, звенящая от мороза. Была тишина дневная, сонная, наполненная шуршанием снега, падающего с веток. Была тишина вечерняя, тревожная, когда каждый звук кажется в десять раз громче. И была тишина ночная – глубокая, бархатная, в которой, казалось, можно услышать, как звёзды ползут по небу.
Заряна редко говорила. Но когда говорила, то задавала свои идиотские вопросы. Мы сидели у огня, и она, глядя в пламя, могла спросить:
– Что говорит тебе ветер?
– Говорит, что завтра будет метель, – бурчал я, как старый дед.
– Нет. Это он говорит твоему телу. А что он говорит тебе? Твоей ране? Твоему страху?
Я молчал.
– О чём молчит этот камень? – спрашивала она в другой раз, указывая на валун у входа в нору.
– Камни не разговаривают!
– Разговаривают. Просто очень медленно. Иногда, чтобы услышать одно слово, нужно просидеть рядом всю жизнь. Он молчит о том, скольких таких, как ты, он видел. Тех, кто пришёл и ушёл, а он остался.
Она ничего не объясняла. Она просто давала мне загадки, на которые не было ответа. И это бесило больше всего. Но я злился, а сам, уходя за дровами, невольно останавливался и слушал ветер. Прикладывал руку к камню.
Она не лечила моё тело. Она перепрошивала мои чувства. Заставляла меня снова стать частью этого мира. Не гостем, не врагом, а его частью. Она учила меня быть не человеком. Она учила меня быть зверем. Зрячим, чутким, внимательным.
Я ещё не понимал, зачем. Но чувствовал, что этот урок – самый важный в моей новой, поломанной жизни. Урок тишины, в которой голосов было больше, чем в самом громком крике.
Глава 11. Первое эхо
Я становился сильнее. Медленно, со скрипом, как ржавый механизм, но тело вспоминало, что такое сила. Я уже мог почти без отдыха наколоть дров на целый день. Боль в боку превратилась из огня в тлеющие угли, лишь изредка напоминая о себе резким уколом. Вместе с силой возвращалась и злость. Здоровая, мужская злость, направленная на ведьму, которая держала меня здесь своими бредовыми уроками.
В тот день я как раз рубил толстое сосновое полено. Топор входил в дерево с глухим, сочным стуком. Морозный воздух обжигал лёгкие, мышцы горели от приятного напряжения. На мгновение я почти почувствовал себя прежним. Нормальным.
И тут тишина сломалась.
Это было первое, что я заметил. Птицы, которые до этого пересвистывались в ветвях, разом замолчали. Ветер, что шелестел в верхушках сосен, стих. Та звенящая, живая тишина, которую Заряна учила меня слышать, сменилась другой – мёртвой, ватной. Давящей. Мои обострившиеся чувства вопили о неправильности. О чужом следе.
Я замер, сжимая топорище. И увидел их.
Они вышли из-за густого ельника. Пятеро. На первый взгляд – обычные лесные бродяги. Лихие люди. Рваная одежда, спутанные бороды, в руках ржавые топоры и дубины. Типичная падаль, что всегда вьётся у больших дорог, грабя купцов, а зимой, от голода, и обычных путников. Но что-то было не так.
Они двигались странно. Не уверенной, развязной походкой разбойников, а как-то… дёргано. Словно марионетки на ниточках, а кукловод пьян и дёргает за все сразу. Их шаги были несогласованными, но при этом они шли в одном темпе, как одно многоногое, неуклюжее существо.
Я вгляделся в их лица. И холодок пробежал по спине. Их глаза. Они были подёрнуты мутной, белёсой дымкой, как замёрзшее стекло. Зрачки расширены, несмотря на яркий солнечный день. Они не смотрели на меня. Их взгляды были направлены на нору Заряны, но они будто видели не её, а что-то сквозь неё.
Они остановились шагах в двадцати. И заговорили.
Точнее, это был не разговор. Это был гул. Пять ртов открылись одновременно, и пять разных по тембру голосов произнесли одни и те же слова, почти в унисон. Почти. Из-за этого лёгкого разнобоя их речь походила на жужжание огромного, больного шмеля.
– От… дай… нам… ту… что… пахнет… жизнью…
Меня пробрало. Не от страха перед дракой. А от этой запредельной, потусторонней жути. Они не хотели ни еды, ни золота. Они пришли за ней. Они чуяли её, как волки чуют живую плоть.
Я встал между ними и норой, крепче перехватывая топор. Сил ещё мало. Пятерых я, скорее всего, не осилю. Но умру не просто так.
– Проваливайте, упыри, – прохрипел я. – Здесь вам ловить нечего.
Они не отреагировали. Их пустые глаза продолжали смотреть в сторону входа в её жилище. И они сделали шаг. Потом ещё один. Все вместе, как один механизм.
– Я сама, – раздался за моей спиной её низкий голос.
Заряна вышла из норы. Босая, в своих шкурах, она выглядела маленькой и хрупкой на фоне этих оборванцев. Но в её позе не было ни капли страха. Она встала передо мной, загораживая меня собой, и посмотрела на них. Просто посмотрела.
«Видел когда-нибудь, как ломается мир? – пронёсся в голове едкий внутренний голос. – Не тогда, когда режут и жгут. А вот так, тихо. Когда один человек выходит против пяти с пустыми руками. И ты, здоровый мужик с топором, понимаешь, что самое безопасное место – у него за спиной. В этот момент все твои понятия о силе и слабости летят к чертям».
Она не стала говорить. Она сделала вдох. И начала петь.
Это не было песней. Не в том смысле, как поют люди. Это был низкий, гортанный звук, идущий откуда-то из самого чрева земли. Он не имел мелодии. Он был похож на вибрацию. На гудение тетивы огромного, невидимого лука. Слова, если это были слова, были на языке, которого я никогда не слышал, – полный резких, щёлкающих согласных и долгих, тягучих гласных. Эта песня не успокаивала. Она скребла по нервам, как нож по камню. Воздух вокруг неё, казалось, уплотнился, стал холодным и тяжёлым.
Бродяги замерли. Их дёрганые движения прекратились. Они застыли, как мухи, вмёрзшие в янтарь. Их мутные глаза, кажется, впервые сфокусировались на ней. На их лицах появилось что-то похожее на муку.
А потом их начало трясти. Сначала мелко, потом всё сильнее. Будто её песня была ядом, который проник в них и теперь воевал с тем, что сидело внутри.
Один из них, самый высокий, вдруг захрипел, схватился за горло и рухнул на колени. Его спина выгнулась дугой, он забился в конвульсиях, стучась затылком о мёрзлую землю. Изо рта у него повалила чёрная, густая пена. А потом… потом из этой пены полезло нечто.
Одно. Потом второе. Скользкие, чёрные твари, похожие на пиявок или слепых слизней, но двигались они с противоестественной быстротой. Они извивались, вываливаясь из его рта вместе с пеной и кровью.
Я смотрел на это, и желудок мой ледяным комом подкатил к горлу. Вот оно. Эхо. Эхо того, что случилось в Волосово. Там Морок исказил разум, заставил видеть чудовищ снаружи. А здесь… здесь он сидел внутри. Он был физическим. Живым. Гниющей, паразитической тварью, которая пожирает человека изнутри, оставляя лишь оболочку-марионетку.
Вид выползающих тварей сорвал с цепи остальных. Их внутренние кукловоды запаниковали. Бросив жертву корчиться на снегу, четверо оставшихся с бессмысленным рёвом, который был уже их собственным, а не общим, бросились вперёд. Не на Заряну. Просто вперёд. В никуда.
И тут настала моя очередь.
Песня ведьмы сломала их, но не убила. Она лишь выгнала на свет гниль. Остальное нужно было делать железом.
Я шагнул вперёд. Это уже не было похоже на убийство людей. Когда я ударил первого, я посмотрел в его мутные глаза. В них не было ничего. Ни страха, ни боли, ни ненависти. Пустота. Как у больной собаки, которую пришёл добить хозяин.
Топор вошёл ему в череп с мокрым хрустом. Он упал, даже не вскрикнув. Второй замахнулся на меня дубиной, но его движения были медленными и неуклюжими. Я увернулся и рубанул его по ногам. Третий… четвёртый…
Это была не битва. Это была работа. Грязная, быстрая, необходимая. Я двигался, как во сне, и каждый удар был не актом ярости, а актом… очищения. Я не убивал людей. Я разбивал гнилые сосуды, чтобы то, что в них завелось, сдохло вместе с ними.
Когда последний упал, Заряна замолчала. И мир снова стал прежним. Почти.
Я стоял, тяжело дыша, посреди пяти трупов. На снегу чернела кровь и извивались последние издыхающие твари. Я смотрел на дело своих рук, и меня не мучила совесть. Меня мутило от омерзения. От понимания, с чем именно я столкнулся.
Это было не просто зло. Это была болезнь. Заразная, гнойная болезнь мироздания. И кажется, у этой ведьмы было от неё какое-то лекарство. Или, по крайней мере, очень острый нож, чтобы вскрывать нарывы.
Глава 12. Нити судьбы
Воздух всё ещё пах кровью. Я стоял, тяжело опираясь на топор, и смотрел на тела. Те чёрные, похожие на слизней твари, что выползли изо рта бродяги, уже сдохли на морозе, съёжились, превратившись в бесформенные комочки грязи. Я не чувствовал ни удовлетворения от победы, ни ужаса от убийства. Я чувствовал опустошение. И холод. Глубокий, костяной холод, который шёл не от зимнего воздуха, а изнутри, от понимания, что мир, который я знал, закончился.
Заряна спокойно обошла поле боя. Её босые ноги оставляли следы на окровавленном снегу, но её это, казалось, ничуть не волновало. Она не смотрела на раны, на лица. Она смотрела на что-то другое. Она подошла к первому упавшему, тому, из которого полезла мразь, присела рядом и пристально всмотрелась в его открытый, полный снега рот.
– Дыра, – пробормотала она себе под нос. – Маленькая. Но гнилая.
Она встала и подошла ко мне. Ворон, всё это время сидевший на ветке, слетел вниз и уселся ей на плечо, что-то недовольно каркая. Она почесала ему перья под клювом.
– Что это было? – спросил я хрипло, кивнув топором на тела. – Кто они… что они такое?
– Они – эхо, – ответила она, не глядя на меня. – Отголосок большого крика. Твоего крика.
Я стиснул зубы. Снова её бред.
– Прекрати говорить загадками, ведьма! – рявкнул я. Злость, единственное понятное чувство, которое у меня осталось, начала возвращаться. – Я только что раскроил пять черепов. Я думаю, заслужил внятный ответ.
Она наконец повернула ко мне голову. Её глаза, казалось, заглядывали мне за спину, в прошлое.
– Ты видишь мир, как видишь дерево, охотник. Ствол, ветки, листья. Ты можешь срубить его, сжечь. Ты думаешь, это и есть весь мир.
Она помолчала, давая словам впитаться в морозный воздух.
– А я вижу не дерево. Я вижу узор.
Она подняла руку, растопырив тонкие, как сухие веточки, пальцы.
– Мир – это полотно. Огромное, бесконечное. Его ткёт Великая Пряха, Мокошь. Каждая травинка, каждый зверь, каждый человек – это нить в этом узоре. Нити переплетаются, создают рисунок. Рождение, жизнь, смерть, любовь, ненависть – всё это лишь стежки на полотне. – Она говорила медленно, и её слова, как ни странно, не казались больше бредом. Они были… весомыми. Древними, как валуны.
– А теперь представь, – продолжала она, и в её голосе появились стальные нотки, – что есть нечто, что не плетёт. Оно только рвёт. Оно не создаёт узор, оно создаёт дыры. Ему не нужна твоя жизнь, твоя душа. Ему нужно, чтобы твоя нить оборвалась и на её месте в полотне осталась… пустота. Дыра, из которой начинает сквозить холод Нави. Это и есть Морок.
Я молчал, пытаясь переварить услышанное. Это было дико, но в этой дикой картине мира было больше смысла, чем в молитвах волхвов. Я вспомнил искажённое тело лося, деревню, сожравшую саму себя, этих пустых бродяг. Дыры.
– То, что случилось у меня… в Волосово…
– Была не просто дыра. Это был разрыв. Кто-то взял и полоснул ножом по полотну. Ткань мира там расползается. И из этого разрыва теперь лезет всякая мразь, которую притягивает запах гнили. – Она кивнула на тела. – Как черви на падаль.
Эта картина была такой ясной и такой безнадёжной, что у меня опустились руки. Что может сделать один человек с топором против того, кто рвёт саму ткань реальности?
– Так почему я выжил? – спросил я. Вопрос, который мучил меня с той самой ночи. – Почему я, а не кто-то другой?
Она не ответила. Вместо этого подошла вплотную и взяла мою руку. Не ту, что сжимала топор, а другую. Её пальцы были ледяными, но хватка – на удивление крепкой. Она перевернула мою ладонь и уставилась на неё. Она смотрела не на мозоли, не на шрамы. Её взгляд, казалось, проникал сквозь кожу.
– Потому что твоя нить не оборвалась, – наконец сказала она тихо, почти шёпотом. Её взгляд скользил по линиям на моей руке. – Она истёрлась, почти порвалась. Она стала грязной, почернела от крови и страха, но она тянется дальше. И теперь…
Она подняла взгляд и посмотрела мне прямо в глаза.
– Она переплелась с моей.
Мы стояли так, посреди пяти трупов и застывающей крови, держась за руки. В её словах не было ни тепла, ни обещания. Это был просто факт. Неизбежность. Как то, что после зимы наступает весна. Я смотрел на неё, на её спутанные волосы, на дикие, нечеловеческие глаза, и пытался понять.
– И что это значит?
И тут она впервые за всё время усмехнулась. Это была не улыбка. Просто уголки её губ чуть дрогнули и поползли вверх, обнажая крепкие, белые зубы. И от этой усмешки у меня по коже пробежал мороз, которого не было даже от прикосновения раскалённого железа.
– Это значит, что тебе придётся научиться видеть нити, мальчик, – проговорила она, и в её голосе прозвучало что-то похожее на хищное, голодное удовлетворение. – Видеть, где они натянуты, где провисают, где вот-вот порвутся. Придётся научиться отличать настоящий узор от лживого.
Она отпустила мою руку, и её усмешка исчезла так же быстро, как и появилась.
– Иначе следующая тварь, которая придёт на твой крик, сожрёт тебя вместе с твоей судьбой.
Глава 13. Дорога на север
Мы сожгли тела бродяг. Заряна настояла на этом. «Огонь очищает, – сказала она. – Он превращает гниль в пепел и дым, и ветру проще развеять пустоту». Она провела какой-то свой ритуал, бросая в пламя пучки трав и что-то нашёптывая. Я просто стоял рядом, скрестив руки на груди, и смотрел, как огонь пожирает останки тех, кто когда-то был людьми. Мне не было их жаль. Но и облегчения я не чувствовал. Я просто понимал, что таких костров на нашем пути будет ещё много.
Ночью у очага в её норе она впервые заговорила о будущем.
– Здесь узор слишком слаб, – сказала она, глядя в огонь. – Мы в самом сердце разрыва. Сколько ни штопай, расползается дальше. Нужно найти место, где нити ещё крепки. Где земля помнит старую силу.
– Что за место? – спросил я.
– Большой город, – ответила она, и я удивлённо на неё посмотрел. Ведьма, которая босиком ходит по снегу, рвётся в город? – Там, где много людей, узор плотнее. Больше нитей. Больше силы. Большой город у большой воды. Смоленск.
Смоленск. Я там был один раз, ещё пацаном, с отцом. Огромный, шумный, вонючий муравейник, обнесённый высокими стенами. Идея вернуться туда мне не нравилась. Но мысль оставаться в этом лесу наедине с этой ведьмой и её узорами нравилась мне ещё меньше.
В лесу я был во власти её мира, её правил. Там, в городе, были люди. Понятные люди с понятными желаниями – золото, власть, бабы. Была стража, был князь, была какая-то власть. Может, там кто-то знает, что это за зараза ползёт по нашим землям. Может, там есть ответы, которые можно потрогать руками, а не только услышать в вое ветра.
«А ещё, – сказал я себе честно, – если я останусь с ней здесь, я либо свихнусь окончательно, либо начну верить в её бред про нити. И я не знаю, что хуже».
– Хорошо, – сказал я. – Идём в Смоленск.
Наше путешествие началось на следующее утро. Это была странная дорога. Дорога на двоих, где каждый шёл в одиночестве. Я – со своим топором и мешком припасов. Она – босая, с вороном на плече и маленьким кожаным мешочком на поясе. Мы шли молча. Она задавала направление, ориентируясь не по солнцу и не по мху на деревьях, а по чему-то, что видела только она. «Здесь нить холодная, идём туда, где теплее», – могла сказать она, сворачивая на едва заметную тропу.
Это была мрачная дорожная романтика, если в этом слове вообще есть место романтике. Мы ночевали у костров, и тепло огня было единственным уютом в этом огромном, холодном мире. Днём мы шли, а вокруг нас разворачивалась молчаливая хроника смерти.
Мы прошли через две деревни. Обе были мертвы. Но мертвы по-разному.
Первая была похожа на Волосово. Следы резни, хаоса. Раскрытые двери, разбросанные вещи. Тела, уже припорошённые снегом, лежали там, где их настигло безумие. И на главной площади, на стене колодца, был начертан знакомый мне уродливый знак – паутина без паука. Знак пустоты.
Вторая деревня была страшнее. В ней не было следов борьбы. Она была просто… пустой. Дома стояли целые, в очагах остыла зола. На столах – остатки еды, в хлеву – ни коровы, ни козы. Люди просто исчезли. Испарились. Будто встали и ушли все разом в никуда. Эта тишина была ещё более жуткой, чем тишина после бойни. Здесь не было даже эха. Здесь была просто пустота. Заряна долго стояла посреди деревни, закрыв глаза. «Их нити не обрезаны, – прошептала она. – Их… распустили. Выдернули из полотна».
Напряжение между нами росло с каждым днём. Я был её телом, её топором. Я рубил дрова, таскал воду, освежёвывал редкую дичь, которую ей удавалось подманить. Она была моими глазами, моим чутьём. Она находила воду под снегом, указывала, какие коренья можно есть, а какие убьют быстрее любого яда. Мы были вынуждены доверять друг другу, и оба ненавидели эту зависимость.
Ночью у костра мы говорили. Точнее, спорили. Это были наши битвы. Битвы без оружия.
– Почему твоя Мокошь не починит своё полотно? – спрашивал я, подбрасывая ветки в огонь. – Или твои боги такие же слабаки, как наши?
– Боги не садовники, которые полют грядки, – отвечала она, глядя в пламя. – Они задают узор. А что делают с этим узором нити – это их дело.
– Бред. Значит, всем плевать? Ты молишься тем, кому на тебя насрать?
– Я не молюсь. Я слушаю. Иногда узор просит помочь ему. Иногда – просит не мешать. Сейчас он кричит. Поэтому я иду.
– А люди? – спросил я в другую ночь, после того, как мы прошли очередное пепелище. – Они просто скот на заклание? Глупые нитки, которые можно рвать?
– Люди, – она подняла на меня свои бесцветные глаза, и в свете костра они казались почти чёрными, – самые опасные нити. Они могут менять свой цвет. Могут сами сплетаться в узоры. Или распускать узоры вокруг себя. Морок потому и любит людей. Они – лучшая игла для того, чтобы рвать полотно. И лучший моток ниток, чтобы зашивать дыры.
Я не всегда понимал её ответы. Но я слушал. И в её диких, первобытных словах я находил больше правды, чем во всех поучениях волхвов и старост, которые я слышал за свою жизнь. Она не пыталась ничего приукрасить. Мир в её глазах был жестоким, безразличным и прекрасным в своей сложности.
Иногда ночью я просыпался от холода и видел, что она не спит. Сидит у догорающего костра и смотрит на меня. Просто смотрит. И в её взгляде не было ничего – ни желания, ни злобы, ни любопытства. Она смотрела на меня, как смотрит на огонь или на текущую воду. Как на явление природы. Как на нить, которая почему-то вплелась в её собственную.
И я понимал, что дорога в Смоленск – это не просто путь к ответам. Это дорога к самому себе. К тому новому, кем я становился рядом с ней. И этот новый я пугал меня гораздо больше, чем любые лесные твари.
Глава 14. Пустозвоны
Метель застала нас на старом, заброшенном тракте. Ветер выл, как стая голодных волков, швыряя в лицо пригоршни колючего снега. Видимость упала до нескольких шагов. Нужно было искать укрытие, и срочно.
– Туда, – Заряна ткнула рукой в белую муть, где едва угадывались тёмные силуэты. – Там камень молчит. Там пусто.
Место, куда она нас привела, оказалось заброшенным погостом. Покосившиеся кресты, полузасыпанные снегом могильные холмики и небольшая деревянная церквушка, ещё языческая, с вырезанным на крыше ликом Велеса, который почти стёрли ветра и дожди. Она была цела, и это было спасение.
Мы зашли внутрь. Сквозь щели в стенах завывал ветер, но здесь, по крайней мере, было сухо и не было метели. Внутри пахло пылью, гнилым деревом и… чем-то ещё. Странным, сладковатым запахом, который я уже знал. Запах пустоты.
– Здесь были люди. Недавно, – прошептал я, кладя руку на топорище.
– Не люди. Эхо, – поправила меня Заряна. Её ноздри хищно раздувались. – Много. Они оставили свой след.
Мы собирались развести огонь, когда услышали голоса снаружи. Не крики, не брань. А тихое, монотонное бормотание, похожее на молитву. Я выглянул в щель. Они шли прямо к погосту. Человек десять. Снежная буря, казалось, им совсем не мешала.
Я ожидал увидеть воинов, разбойников, кого угодно. Но это были… обычные люди. Я видел крестьян в лаптях, мужика, похожего на ремесленника, в добротной, хоть и рваной одежде, несколько женщин, закутанных в платки. Но их обычность была обманчива. У всех были обриты головы, а на лбу темнело клеймо. Выжженный знак паутины без паука.
Они вошли в церквушку, не выказав ни удивления, ни враждебности при виде нас. Просто вошли и расселись по углам, не обращая на нас внимания. Они не достали оружия. Они просто сидели, и их бормотание становилось всё громче, сливаясь в единый, усыпляющий гул.
«Знаешь, что по-настоящему страшно? – пронеслось в моей голове. – Не тот, кто идёт на тебя с топором наперевес. А тот, кто садится рядом, улыбается и предлагает тебе яд, называя его лекарством. От топора можно увернуться. А от слов, которые лезут тебе прямо в душу, – нет».
Один из них, старик с глубокими морщинами и беззубым ртом, отделился от остальных и подошёл ко мне. Он не выглядел угрожающе. Он выглядел… умиротворённым. На его лице играла слабая, добрая улыбка.
– Мы не желаем вам зла, странники, – сказал он. Его голос был тихим и скрипучим. – Мы – Пустозвоны. Мы слышим зов Великой Тишины.
– Проваливай, – прорычал я, крепче сжимая топор. – Слышали мы ваши сказки.
Заряна молча стояла у стены, наблюдая. Она не вмешивалась.
Старик, казалось, не заметил моей угрозы. Его взгляд был мягким, сочувствующим. Он подошёл ещё на шаг ближе, понизив голос до шёпота.
– Ты ведь устал, охотник?
Его слова ударили меня под дых. Я не ожидал такого. Он не угрожал, не требовал. Он… сочувствовал.
– Устал носить в себе крики. Устал помнить их лица. Каждую ночь, когда закрываешь глаза, они ведь приходят, да? – он говорил тихо, и его слова были как вкрадчивый яд. – Родные, соседи… Те, кого ты не спас. И тот, кого ты убил. Он тоже приходит? Старик, которому ты помог умереть?
Я похолодел. Откуда он знает? В его пустых, затуманенных глазах я вдруг увидел отражение крыльца Рогдая.
– Морок заберёт твою боль, – продолжал он свой тихий, обволакивающий шёпот. – Он не просит ничего взамен. Он просто стирает. Всё. Ты станешь пустым. Чистым. Свободным. Как гладкий речной камень, с которого вода смыла всю грязь. Не нужно будет ни за что бороться. Не нужно будет помнить. Не нужно будет чувствовать эту вину, которая грызёт тебя изнутри, как червь. Просто… отпусти.
Я сжал топорище так, что побелели костяшки. Внутри меня шла война. Мой разум кричал: «Убей его! Это враг!», но какая-то уставшая, измученная часть меня… она слушала. Она соглашалась.
«А ведь он, гад, прав. Я устал. Боги, как же я, сука, устал…»
Я чувствовал, как слабеет моя рука, как тяжелеет топор. Хотелось просто сесть. Закрыть глаза. И отпустить. Перестать быть.
В этот момент одна из женщин-культисток подошла к Заряне.
– Ты тоже ищешь тишины, сестра, – прошептала она ей. – Я слышу, как гудит твоя сила. Как она рвёт тебя изнутри. Мир слишком громкий для тебя. Ты слышишь боль каждого листа, стон каждого камня. Великая Тишина успокоит их. Ты наконец-то отдохнёшь.
Я увидел, как Заряна на мгновение вздрогнула. Я никогда не видел её такой. Казалось, слова женщины тоже попали в цель.
– Нет, – голос Заряны прозвучал резко, как треснувший лёд. Он вырвал меня из оцепенения. – Тишина Морока – это не покой. Это смерть песни. Вы не Пустозвоны. Вы – глухие.
Старик, который говорил со мной, вздохнул. Вздохнул с неподдельной грустью и разочарованием, как отец, чей сын не понял простого урока.
– Жаль. Вы выбрали боль.
После этих слов они все встали. Так же синхронно, как и вошли. И, не говоря больше ни слова, вышли из церквушки, растворившись в снежной буре.
Мы остались одни. Внутри было тихо. Только ветер выл за стенами. Я тяжело дышал, пытаясь унять дрожь. Мой топор казался невероятно тяжёлым.
– Что это было? – выдавил я.
– Искушение, – ответила Заряна, не глядя на меня. – Самое сильное оружие Морока. Он не предлагает тебе ложь. Он предлагает тебе твою самую потаённую, самую стыдную правду. И обещает избавить от неё.
Я опустился на пол, прислонившись спиной к стене. Я не убил никого. Не пролил ни капли крови. Но этот бой был страшнее той резни с бродягами. Там я сражался с чудовищами снаружи. А здесь – с тем, которое шептало у меня внутри. И я чуть не проиграл.
Глава 15. Первое прикосновение
Пустозвоны ушли, но их ядовитый шёпот остался. Он висел в стылом воздухе заброшенной церквушки, смешиваясь с воем ветра и запахом пыли. Мы разожгли в центре небольшой костёр, прямо на земляном полу. Огонь давал слабое тепло и ещё более слабую иллюзию безопасности.
Я пытался не думать о словах старика, но они вцепились в меня, как клещи. «Ты ведь устал…» Да, устал. «Устал помнить их лица…» Да. «Он тоже приходит? Старик, которому ты помог умереть?» Да, приходит.
Заряна, казалось, тоже была не в своей тарелке. Она сидела, сжавшись в комок, и её взгляд был устремлён в огонь, но видела она что-то другое. Впервые я ощутил от неё не силу, а уязвимость. Их слова пробили и её броню.
Я задремал, сидя у стены, убаюканный теплом и воем метели. Но сон не принёс отдыха. Он принёс кошмар.
«А вот и снова мы дома», – прозвучал у меня в голове насмешливый голос, тот самый, внутренний, который я уже начал ненавидеть.
Я стоял посреди своей избы. Всё было как прежде, до бойни. Чисто прибрано, пахло хлебом и сушёными травами. Но что-то было неправильно. Свет. Он был тусклым, серым, как будто солнце светило сквозь слой мутной воды. И тишина. Не живая, а мёртвая, могильная.
За столом сидела мать.
Она сидела спиной ко мне, перебирая в руках пряжу. Точно так же, как она делала это тысячи раз. Но её движения были медленными, рваными, как у сломанной куклы.
– Мам? – позвал я. Голос был чужим, детским.
Она не обернулась. Продолжала своё странное, дёрганое прядение.
– Зачем вернулся? – её голос был глухим, лишённым всяких эмоций. Словно говорил камень.
– Я… я…
– Ты сбежал, – так же ровно сказала она. – Когда резали отца. Когда резали меня. Ты сбежал.
– Это неправда! Вы умерли до…
– Ты выжил.
Она медленно, с хрустом, который, казалось, сломал ей шею, повернула голову. И я увидел её лицо. Оно было серым, как пепел. А вместо глаз – две пустые, чёрные дыры. И из этих дыр на меня смотрела не она. На меня смотрел Морок.
– Ты выжил, потому что ты трус, Всеволод, – сказало оно голосом моей матери. – Ты всегда был трусом. Прятался за моей юбкой. Прятался за отцовской спиной. А когда нас не стало, ты просто сбежал. Оставил нас гнить в земле.
Яд, который Пустозвоны влили в меня наяву, во сне пророс. Они взяли мой самый потаённый страх, мою самую глубокую вину и облекли её в самый дорогой для меня образ.
– Ты позволил им умереть, – продолжало оно, поднимаясь из-за стола. – А теперь ходишь с ведьмой. Хочешь спрятаться и за её спиной? У тебя не получится. Мы найдём тебя. Мы всегда будем с тобой. В твоей голове. В твоей крови. В твоей гнили…
Оно протянуло ко мне свои серые, пепельные руки. Я хотел закричать, но из горла вырвался лишь беззвучный хрип. Ужас был не просто в картинке. Он был физическим. Я чувствовал, как могильный холод её прикосновения проникает мне под кожу.
Я проснулся от собственного крика.
Резко сел, хватая ртом воздух. Костёр почти погас, лишь угли тлели красными глазами во тьме. Вокруг была холодная, реальная церквушка. Но ужас сна был таким явным, что, казалось, он всё ещё здесь, стоит в углу и смотрит на меня своими пустыми глазницами. Я весь был в холодном поту, рубаха прилипла к телу. Сердце колотилось о рёбра, как пойманная в клетку птица.
И тут я почувствовал прикосновение. На моём лбу лежала рука.
Я вздрогнул, готовый ударить. Но это была Заряна. Она сидела рядом со мной на корточках. Так тихо, что я даже не заметил, как она подошла. Её рука была холодной. Не мертвецки холодной, как во сне, а прохладной и твёрдой, как речной камень, омытый тысячей потоков. Этот холод отрезвлял, вытягивая лихорадочный жар кошмара.
– Он пробует тебя на вкус, – сказала она тихо, и её голос был единственной реальной вещью в этом зыбком мире. – Твои страхи. Твою вину. Они для него слаще мёда.
– Я… я не… – начал я, пытаясь оправдаться, отрицать, но слова застревали в горле. Я не мог признаться в том, что видел. Не мог признаться в том, что слова мёртвой матери попали точно в цель.
Её пальцы на моём лбу чуть сжались. Хватка стала твёрдой, требовательной.
– Не ври, – её голос был резким, как удар кнута. – Не мне. Не сейчас. Ты – открытая, кровоточащая рана. И он это чует. Либо ты научишься её закрывать, сам, изнутри, либо он будет пить из неё, пока ты не иссохнешь. Пока не превратишься в такую же пустую оболочку, как те на дороге.
Её слова были жестокими, но в них не было осуждения. Это была правда. Голая, неприкрытая правда. Я был сломлен. Открыт всем ветрам. И этот кошмар – лишь первое прикосновение бури, которая собиралась меня сожрать.
В этот момент, во тьме, рядом с догорающим костром, что-то произошло. Она всё ещё держала руку у меня на лбу. Я смотрел в её глаза, которые во мраке казались бездонными. И я видел в них не ведьму, не существо. Я видел такую же рану. Такую же уязвимость, которую она прятала за своей дикостью и силой. Мы были двумя израненными зверями, забившимися в одну нору во время страшной бури.
Не было нежности. Не было слов. Был только инстинкт. Животное, отчаянное желание доказать себе и тьме вокруг, что мы ещё живы. Что в нас ещё есть кровь, тепло и плоть.
Я потянул её на себя. Она не сопротивлялась. Её холодные губы нашли мои. Это был грубый, голодный поцелуй, пахнущий дымом и страхом. Я рвал на ней её шкуры, она – мою рубаху. Её тело было худым, жилистым, покрытым шрамами. Моё – тоже. Мы не занимались любовью. Мы сражались. Сражались с холодом, с одиночеством, с призраками, которые стояли за нашими спинами.
Это было грубо. Отчаянно. Почти жестоко. Каждый толчок, каждый стон, каждый укус был криком: «Я ещё здесь! Я ещё чувствую!» Мы сплелись в одно целое на холодном полу, рядом с угасающими углями.
Это не было ни началом любви, ни даже похотью. Это был самый первобытный способ на секунду забыться. Утонуть в чужом тепле. На мгновение заслонить одной живой раной другую. Чтобы потом, когда всё закончится, снова остаться одному. Но, может быть, чуть менее сломленному.
Глава 16. Кривые зеркала
После ночи в заброшенной церквушке между нами повисла неловкость. Мы шли молча, избегая смотреть друг на друга. То, что произошло у костра, не сблизило нас. Наоборот, создало новую пропасть. Мы разделили друг с другом не тепло, а отчаяние, и это знание было тяжёлым, как мокрый тулуп. Но времени на рефлексию не было. Лес решил, что с нас хватит отдыха.
– Здесь пахнет криво, – сказала Заряна, когда мы вышли на край большой поляны. Она остановилась и втянула носом воздух. – Земля врёт.
Я не понимал, о чём она, но тоже чувствовал – что-то не так. Тишина была неестественной. Деревья на той стороне поляны, казалось, подрагивали, как марево над костром, хотя воздух был морозным и ясным.
– Нужно обойти, – сказал я, инстинктивно сжимая топор.
– Поздно, – её голос был напряжён. – Мы уже внутри. Смотри.
Я обернулся. Тропа, по которой мы только что шли, исчезла. За нашими спинами стояла сплошная, непроходимая стена из ельника, которого секунду назад там не было.
«Вот дерьмо», – было всё, о чём я мог подумать. Мы попали в ловушку. Не в капкан из веток и верёвок. А во что-то куда хуже.
Мы шагнули в лес. И реальность посыпалась.
Сначала изменились звуки. Хруст снега под ногами стал отдаваться странным, музыкальным эхом, будто мы шли по битому стеклу. Карканье ворона Заряны, который тревожно кружил над нашими головами, растягивалось в долгое, жалобное «кха-а-а-арррр», похожее на стон. И повсюду слышались голоса. Шёпот. Обрывки фраз на незнакомых языках, детский смех, женский плач, мужская ругань – всё смешалось в один звуковой хаос, который, казалось, лез прямо в череп.
Потом начал плыть мир. Деревья меняли форму. Прямая сосна на моих глазах изгибалась, как змея, а потом снова выпрямлялась. Берёзы вытягивались, становясь неестественно высокими, почти до самого неба, а потом съёживались до размеров куста. Под ногами земля то вздымалась, как грудь спящего великана, то проваливалась в глубокие, бездонные ямы, которые тут же исчезали.
Это был Морок. Но не тот, что сидел в людях. Этот Морок искажал саму ткань мира. Это было царство кривых зеркал, где ничему нельзя было верить.
– Не смотри глазами, – прошипела Заряна, хватая меня за руку. Её ладонь была ледяной, но на этот раз это был успокаивающий холод. – Глаза лгут. Чувствуй ногами. Земля помнит, где была тропа.
Я пытался. Пытался игнорировать безумные картинки перед глазами, голоса в ушах, и сосредоточиться на ощущениях. Но Морок бил не только по глазам и ушам. Он бил по самому больному.
Я вдруг увидел себя со стороны. Как будто моя душа отделилась от тела и смотрела на него. Я видел жалкого, грязного, заросшего мужика в рваном тулупе. В его глазах – смесь страха и тупой злобы. Он плёлся за босоногой ведьмой, цепляясь за неё, как испуганный ребёнок. Он был никем. Беглец. Трус, выживший случайно. Образ был настолько ярким, настолько правдивым, что я споткнулся, захлебываясь омерзением к себе.
– Это не ты! – голос Заряны прозвучал резко, прямо у моего уха. – Это твой страх! Он дал ему облик. Не смотри на него!
Я отвернулся, тяжело дыша. И увидел её. Она замерла, её лицо стало белым, как снег. Её нечеловеческая уверенность исчезла. Она смотрела прямо перед собой, и в её обычно пустых глазах стоял неподдельный ужас.
– Что ты видишь? – крикнул я, пытаясь перекричать шёпот.
– Пепел… – прошептала она. – Всё – пепел.
Я проследил за её взглядом. Я видел искажённые, танцующие деревья. А она… она видела свой собственный ад. Лес, который был для неё живым организмом, обратился в прах. Деревья-трупы. Мёртвая земля. Безмолвие. То самое, которого она боялась больше всего. Смерть её мира.
