Шагирт. Времён и судеб перепутья…
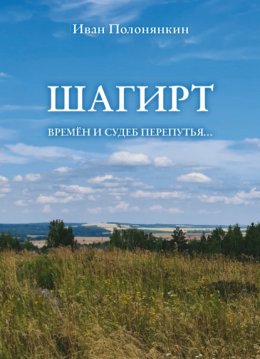
© Полонянкин И. Ф., 2025
Пролог
Осень вступала в силу. Солнце, провожая лето, ярко, но беззлобно жарило берег Камы, лучами врывалось и путалось в пестрых и цветных пятнах листвы и травы, а в редких речных волнах искрилось и отраженьем слепило глаза.
Два казака с Камбарского завода сидели на высоком берегу и жмурились на солнце; их кони стояли рядом, переминаясь с ноги на ногу. Сегодня урядник Игнатий Лазаревич сам возглавил дозор на правобережье, предоставив возможность отдохнуть старшему сыну Василию, который уже несколько дней мучился со спиной. Ранним утром он со своим последышем Данилкой и ещё несколькими казаками переправился на дощанике через реку; разбил дозорных на группы и перекрыл дорогу вдоль берега, проверяя редких путников и обозы на подходе к разрешённой переправе, а на тайной переправе, ниже по течению, оставил засаду. Земля к обеду прогрелась, радовала и передавала телу свою силу. Игнатий Лазаревич расслабился, улёгся на спину, гонял во рту полусухую травинку, заглядывая в бездонную высь неба и размышляя о своей казацкой службе: сотник в разговоре уже не раз предупреждал его, чтобы на следующий год готовился в запас. «Вот волчара, – подумал о сотнике, – подарок ждёт за Василия, чтобы его двинуть на моё место. Да как же, без этого нельзя. Вон сколько желающих в урядники метят. В запас так в запас. Время пришло, буду хозяйством заниматься, пусть молодые служат. А Василия надо оставить заместо себя. А как же иначе?»
Данилка приподнялся, осматривал окрестность и докладывал отцу о том, что видел:
– Тятя! У берега дощаник… загружаться начинает, лошадь с телегой рядом стоят; на берегу двое путников с котомками. От Сарапула четыре всадника с Арской дороги идут. Остановились… разделились: трое в нашу сторону, к переправе коней повернули, а один по Арской… дальше… вправо пошёл, – помолчал и продолжил, – однако, кони справные, выученные к седлу, хорошо идут. Строевые, наверное.
– Молодец, Данилка, – урядник быстро поднялся на ноги и стал наблюдать за приближающими всадниками. Первый всадник, высокий на гнедом, крупном жеребце неторопливо, уверенно и спокойно приближался по дороге к берегу; в связке за жеребцом шла пёстрая небольшая кобылка, загруженная вьюками и маленьким седоком; а замыкающим на сером коне был юноша с разнообразной пёстрой поклажей.
Сердце Игнатия Лазаревича ёкнуло: он узнал в первом всаднике объявленного в розыск есаула императора-самозванца, а в юноше – его денщика. Но условного знака Данилке не подал; устремился взглядом на коня в связке, рассмотрел девчонку-отроковицу и всё понял. Времени для размышления не было: «За есаула обещана награда, но вряд ли его возьмёшь без крови, а то ещё и сына потеряешь. Опытный он боец, биться будет за семью свою до конца; наверняка пистоль в сумке приготовлен да сабелька вдоль вьюка по спине коня лежит, в обмотке спрятанная. Наверное, уже для себя и первую жертву выбрал – слабое звено, Данилку моего. Да, сильный боец: в прошлый год нашу сотню наголо разбил. В руки не дастся! И должник я его. А узнает ли он меня?» – пронеслось в голове урядника.
Алексей, увидев издали дозор, понял, что нужно договариваться либо сдаваться казачкам, но не допустить боя и не подвергать жизнь дочери и Дыдык опасности. А когда узнал урядника, отлегло, решил сразу напомнить о долге и одновременно, показать своё дружеское расположение, легко спрыгнул с коня:
– О, Игнатий Лазаревич! Будь здоров! Рад видеть тебя! Во как всё сложилось, а помнится, под Красноуфимском ты умирать собирался… Год прошёл с нашей встречи, а как полжизни пролетело. Этот юноша, казачок, – сын твой? Очень уж схожий с тобой.
Урядник перевёл взгляд на сына:
– Данилка, придержи-ка Николу. Прикажи, чтобы дождался и в первую очередь на дощаник трёх всадников забрал. Растолкуй, что мово старого товарища с семьей перевозить будет, бережно чтобы. – Повернулся к есаулу. – И ты будь здоров, есаул, рад встрече с тобой. Помер бы, если б тогда не помог… Далеко ли путь держишь? А то, может, дождёшься и ко мне в гости зайдёшь? Жёнка моя, Анютка, обрадуется. Многое я ей рассказывал; она ведь меня с той деревни забирала, где ты оставил. Спаси Христос тебя, Алексей Филиппович! Разные у нас с тобой дороги, но единоверцы мы. Проезжай с Богом! – Помолчал и добавил: – А дочь – красавица у тебя! Невесту ищу сыну Данилке… Может, породнимся?
– Мала она ещё, Игнатий Лазаревич. – Помолчали, глубоко заглянули друг другу в глаза, улыбнулись. И Алексей продолжил: – Если подождёшь пару лет, то и породнимся. Жизнь меняю свою. Жена померла, дочка Дуняшка осталась… На Буй идём. Прощай, весточку подам, как на место осяду… может, и пригодимся, и свидимся когда. Прости, если чем обидел ненароком…
– И ты прости меня. А два года я подожду. В отставку ухожу, хозяйством заниматься с Данилкой буду. Ему шестнадцать годков подходит. Посылай весточку.
Весело ударили по рукам, поклонились друг другу: есаул так, держа коня под уздцы, стал спускаться к реке, а урядник опустился на землю и задумчиво смотрел вслед.
Вспомнилась деревня под Красноуфимском, разбитая казачья сотня, лошади, бегающие по полю; конь со вспоротым животом, стоящий на коленях, его прощальное ржание. Увидел, как в тумане, себя на земле, рядом с копытами коня; склонившегося незнакомца, его строгий голос: «Чего стоите, видите, человек ранен, на коня его, и в деревню к лекарю». Услышал возражения казака: «Дак не наш он, заводской». И командирский окрик на это: «Ты чего, Назар, Бога гневишь? Наш он, русский, казак, православный, единоверец. На коня – и в деревню к лекарю!»
После, как пришёл в себя, несколько раз видел есаула, разговаривал с ним; сошлись во многих вопросах, делить-то им нечего было. И отправил есаул весточку его жене на завод; примчалась Анютка, домой забрала, долго на ноги поднимала. Вздохнул и перекрестил Алексея вслед: «Надёжный человек. Дай, Господи, ему долгие лета!»
Данилка хлопотал у дощаника, стремился помочь Алексею Филипповичу, а сам взгляд не мог отвести от девицы, её лица и ещё детской, но набирающей женскую стать девичьей фигуры.
Заметив его внимание, немые детские переглядки, Дыдык подтолкнула его к Дуняшке, рассмеялась:
– Данилка, понравилась Дуняшка? Через два года приезжай свататься в Гондыр!
Больше недели шли, а вести летели быстрее их. Только дошли до устья речушки лесной – Гондырки – увидел Алексей: стоит у большой сосны лохматый человек, с деревом сливается, не отличишь. Показал тихонько Дыдык, а она погнала коня вперёд с радостным криком:
– Песятай[1], песятай…
Весна набирала силу, земля требовала внимания к себе, но Савелий Никитич никак не мог сосредоточиться на работе, а весь день с раннего утра в возбуждении и ожидании без толку ходил по двору, инструмент не держался у него в руках, тело отказывалось выполнять команды: он жил ожиданием приезда своих давних друзей, твердя одно и то же: «Двадцать лет, как один день!» И вспоминал молодые годы, когда они, двадцатилетние мужики, неожиданно для себя стали казаками и в одной из сотен армий самозванного императора Петра III плечом к плечу прошли боевой путь по Камским городкам и заводам, упёрлись в Казань и пусть побитыми, но с достоинством и верой в свои силы вернулись домой.
Савелий время от времени выходил за ворота, смотрел в начало длинной деревенской улицы, прислушивался, глубоко вздыхал и возвращался во двор. Но, как ни караулил, а приезд друзей оказался неожиданным: его задумчивость прервали сильный стук в ворота и ленивый лай Волчка. Кинулся отворять: пока обнимался с Яшкой Чепкасовым да Максимкой Полонянкиным, показывал, где коней расседлать и привязать, в ворота, не спрашиваясь, заехали на телеге Пётр Самохвалов и Иван Коровин. Закрыли ворота, дурачась и веселясь, на засов и забыли, что они уже давно не юнцы безусые, а уважаемые мужики, отцы и даже деды, замыслившие серьёзное дело: переезд вместе с семьями на новые, неизвестные им закамские места.
Глава 1. Трифон. Камские бурлаки
– Что, казаки, взбодримся перед дорогой, – Иван Ефимович Коровин, наставник общества, весело, по-озорному смотрел на хозяина, перекинул взгляд на его двор, примолкших, стоящих полукругом и как-то разом разомлевших от встречи друзей и спросил:
– Савелий, а где семья и браты?
– Иван, ты же у нас наставник: как скажешь, так и сделаем! А все мои у брата Степана сидят, вон в соседней избе, – неопределённо указал рукой, – наверное, все гляделки проглядели в нашу сторону. Завтра браты с утра провожать нас в дорогу придут, так решили. – Заулыбался. – Но, думаю, не выдержат, сейчас да соберутся здесь. Пойдём в избу, обговорим всё без лишних ушей, пока не мешают, – махнул Савелий в сторону крыльца.
Зашли, покрестились на красный угол, огляделись и сели за широкий стол, посматривая друг на друга и на убранство избы.
– Начинай, Иван, расскажи нам о весточках, полученных от Алексея Филиппыча… – Савелий помолчал и добавил: – С подробностями, чтобы мы окончательно решились к поездке. А то как-то всё легко у нас получается, а за спиной у каждого семьи большие да детишки малые.
Иван начал с улыбкой:
– Эх, Савелий Никитич, знаем мы тебя: кто занудой родился, тот свой век им и проживёт. Было у меня несколько весточек от нашего есаула, Алексея Филиппыча. Первая пришла лет пять назад. Передал: мол, жив-здоров, семья большая; сообщил, что много земли плодородной в округе пустопорожней стоит, и спросил: может, кто желающий есть перебраться на реку Буй? Я ему ответ с путником другим передал, чинно рассказал, что такое время приходит; появилось много детишек и молодых семей, а земли мало, скоро да искать землицу-матушку зачнём. Потом от него вдругорядь весточка приходила и ещё несколько, а прошлой осенью путник поздний зашёл, говорит, мол, передаёт Алексей Филиппыч, что на малых притоках башкиры и вотяки ищут, кому бы землю береговую сдать. Зверя выбили, а сил на расчистку полей не хватает – без дела земля простаивает. Надеются хоть какие-то деньги за неё получать. Мол, тихо у них, власть редко бывает, а староста поможет и договориться, и с оформлением земли…
Максим Осипович весело поддержал его:
– Да, Иван, у меня три сына бегают, четвёртый уже на свет просится: Федосья-то моя, слава Богу, опять понесла. Робята, как хотите, а я готов на новые места идти, лишь бы земелька была пригодная для зерна да травы росли хорошие. Чай, здесь недалёко: налегке через Каму на Камбарку перемахнём – и вот он, Буй. Кони справные, документы от старосты имеются, я и рублишка с собой прихватил. А то: решать так решать!.. Четыре дня, и будем вместе с есаулом юность поминать, – рассмеялся, – Савелий, тряхнём стариной, а?
– Не-е-е… Максим, один я, без Степана, не пойду.
– Давай и Степана возьмём, – согласно закивал Яков. – Вчетвером не втроём!
Обсуждали недолго: оказалось, и Яков деньжат с собой взял, и Савелий приготовил.
Коровин подвёл итог:
– Вот и всё решили: идите вчетвером, через пару недель вернётесь с весточкой от нашего есаула. Будем надеяться, с хорошей… Может и сразу землю подберёте, да и перебираться зачнём, а? А там и другие созреют… Иди, Савелий, зови своё семейство и Степана. Не томи их. Посидим немного, и мы с Петром домой поедем, чтобы не затемно возвращаться.
Пётр Петрович Самохвалов только закивал и руками задёргал: растрясло в телеге, занедужил с дороги.
Гости вместе с хозяином не успели выйти из избы, как двор наполнился многочисленными членами семьи Савелия Никитича и братьев.
В первый день пути засветло дошли до деревни Тарасово в тридцать дворов; кругом луга да поля, леса мало, только отдельными пятнами мелкие останцы из зарослей корявых деревьев и кустарников. Вечереть начало. Решили заночевать на берегу, чтобы утром пораньше в Камбарку переправиться.
Осмотрелись кругом и пустили коней по натоптанной дороге влево, к берегу Камы, откуда тянуло сыростью и дымом; вскоре увидели костровые огоньки, окружённые людьми, которые неторопливо устраивались на ночлег. Рядом пристань, деревянный настил, на нём несколько человек.
Остановились, раздумывая, в какую сторону податься, а кони зафыркали, задёргали поводья, потянули к воде.
Увидев всадников, люди притихли, стали внимательно рассматривать и их, и коней, пытаясь угадать, кто же они такие, откуда и зачем появились на берегу. От костра отошёл мужик в поношенном старом ярмяке, двухметрового роста, широкий, с большой головой, густой седой копной волос и такой же нечесаной бородой.
– Здоровы будете, добрые люди, – густым басом накрыло и округу, и всадников. Все они, как один, подались на этот голос, а Чепкасов, направив коня на мужика и явно дразня его, прохрипел:
– Что же это ты, Трифон, всю окрестность на ночь пугаешь, людям покоя не даёшь? Иль забыл, как наказывают за это? – горделиво и притворно похлопывая плёткой по голенищу сапога «с притачкой».
Трифон замер, прошептал: «Яшка», – с одного шага достав всадника, сдёрнул его на себя, а лошадь зашаталась и, испугавшись, захрипела, чуть не достав его копытом. Зажал Яшку так, что тот захохотал, как от щекотки:
– Трифон, отпусти Христа ради, а то истеку сейчас и кровью, и мочой. Обмараюсь сам и кругом обмараю.
Яков и Трифон встретились в армии лжеимператора в свои молодые годы, дружили недолго, но преданно и запомнили дружбу на всю оставшуюся жизнь. Дружили с любовью, так что их все считали братьями, поскольку видели всегда вместе. Но один день разорвал их дружбу на всю дальнейшую жизнь: Яшка занемог и слёг, а Трифона отправили с дозором. В деревне Крылово, под Осой, разъезд попал казакам в засаду и потерял Трифона. Когда Яков оправился от болезни, поднялся на ноги, ему сказали, что друг его погиб.
Удивлённый встречей, Трифон тискал и хлопал друга с такой силой, радостью и криками, что собрал толпу своих знакомых и зевак из числа путников, ожидающих на переправе утренний дощаник.
– Яшка, ты как здесь оказался? – он пришёл в себя и удивлённо уставился на друга.
– Я, Трифон, не один, посмотри-ка на этих молодцев! – и рукой повёл в сторону всадников.
Трифон, рассмотрев попутчиков Якова и узнав в них бывших казаков своей сотни, опять заговорил своим громовым басом, приглашая товарищей в свой двор и не принимая никаких возражений. Оказалось, что он живёт в этой деревне, а его изба находится недалеко от причала, и он является самым главным перевозчиком Камбарской переправы.
– Не волнуйтесь, робята, завтра отправлю вас первых дощаником, а сейчас повечеряем да наговоримся вдоволь. – И ласково обратился к жене: – Любаша, покорми-ка нас с дороги!
Та засмущалась от обращения мужа и внимания гостей и, прикрывая беззубую улыбку ладонью, порывисто кинулась хлопотать по двору забегая то в избу, то в сарай, то опять в избу, собирала на стол.
А Трифон продолжил:
– Она, Любаша, меня на этом свете задержала, на ноги поставила и детишек мне нарожала… Бросили тогда меня под Осой исколотого и изрезанного на волю Божью, думали, хана мне. А я ночью очнулся от стона своего: чувствую, кто-то волоком тащит, – и опять провалился в бездну. А это оказалась Любашка моя: долго она меня на ноги поднимала! Слава Богу!
О многом друзья вели разговор в тот вечер, сидя после ужина во дворе, но больше вспоминали о прошлой вольнице, расспрашивали Трифона, и он охотно рассказывал о своей жизни. А Любашка, накормив и уложив спать детей на полати, стояла, спрятавшись за дровяной поленницей, тайком слушала рассказ мужа, роняя слёзы радости и умиления на камскую землю.
Деревня Тарасово находилась в тридцати верстах южнее Сарапула, вниз по течению на правом берегу Камы, как раз напротив Камбарки, в которой располагался Демидовский завод и где стояла одна из четырёх крупнейших камских пристаней, главными грузами которой были металлы, древесина и лён. Во время крестьянского восстания завод был разрушен Пугачёвым, но вскоре восстановлен.
Трифон помнил ясно, как оказался в этой деревне, хоть и прошло уже два десятка лет. Когда войска пугачёвские были разбиты, поднялся он после излечения и пять лет проходил бурлаком по Волге да Каме. И Любашка с ним ходила: раз в год она рожала ему, но детишки появлялись слабые, и Бог сразу прибирал их к себе.
Однажды по истоптанной прибрежной полосе – бечевнику – чуть-чуть не дошли они до Камбарской пристани и остановились на ночлег. Закрепили расшиву у берега и отвернули на отдых. Как всегда, Любаша стала хлопотать у костра, мужики бегло осмотрели лямки, занялись своей одежонкой и личным заплечным скарбом. Перекусили наскоро да улеглись вокруг костра, ворочаясь на песке, как на веретене. А под утро, когда от воды туман пошёл, налетели весёлые разбойные люди, охотники до чужого добра. Спеленали уставших бурлаков у костра, но не сладили с Трифоном. Может, он бы и поддался им, да только стали они обижать Любашу, а зря. Разбросал их да покалечил многих.
В те послепугачёвские времена хождение по Каме было опасным из-за частых разбойных нападений; суда сплавлялись обычно караванами и даже в сопровождении охранных команд. Разбоями занимались шайки из беглых крестьян и бывших пугачёвцев, а их организаторами порой выступали люди именитые, устраивали нападения на суда, грабили или брали контрибуцию.
За годы своей бурлацкой жизни Трифон повидал многое, он быстро выбился в бурлацкие шишки. Своё крещение в бурлаки прошёл на Волге у одного из «жареных бугров», где лоцман не меньших размеров, чем он, под крики бывалых бурлаков «Жарь его!» бил лямкой по спине до тех пор, пока Трифон не оказался на вершине.
В конце первого года бурлацкой жизни Трифон стал «шишкой» – передовым бурлаком, тянущим лямку и отвечающим за слаженную работу тягловых бурлаков. Так им и остался. Своим голосом он поднимал и поддерживал товарищей в тяжёлые периоды, запевая вместе с подшишельными камскую бурлацкую песню:
- Хлебушка нет,
- Валится дом,
- Сколько уж лет
- Каме поём
- Горе своё,
- Плохо житьё!
- Братцы, подъём!
- Ухнем! Напрём!
Понравился Трифон своей мощью и голосом хозяину судна, тот и откупил его вместе с женой у артели, взял себе в помощники для переправы на Камбарскую пристань, чтобы берега меж собой связывать. Построил два дощаника, назначил Трифона старшим на правом берегу Камы, причал настелил. И пошёл Трифон в гору: осел на месте, избу в деревне накатал; Любаша детишек справных рожать стала, за избой смотреть, а он за пристанью Тарасовской да переправой.
Утром попрощались товарищи с Трифоном и Любашей; он, как и обещал, загнал их на дощаник, как только туман речной сходить начал; а как солнце взошло, выгнал на пристани левого берега.
Попрощались с надеждой на встречу, но только отошли от пристани, догнал их громовой голос Трифона:
– Передайте есаулу, что мой первенец его именем наречен, Алексеем.
Ещё пару дней всадники прошли вверх по Бую; уже и к седлу привыкли, и кони веселей пошли, подтянулись в дороге, наверное, вспомнили, что их предки не только в оглоблях ходили, но и под боевым седлом волю знали. О дороге расспросили встречного башкира, потом встретили ещё одного, который бывал в той стороне. А когда подошли к броду речки Гондырке, то оказалось, что об их движении знали уже многие и ждали с нетерпением.
Глава 2. Припущенники
Степан, самый молодой из группы, опередил всадников почти на версту, стараясь держаться подальше от старшего брата Савелия, любителя поговорить. А тот, по простоте душевной, занимал разговорами всех поочерёдно: с одним поговорит, выяснит для себя что-то интересное и следующего завлекает.
Конь Степана подошёл к броду и, ступив в воду, вытянул шею – узду из рук потянул, жадно пить принялся: не широкая речка, саженей пятнадцать-двадцать будет, но весенней воды ещё много осталось. Смотрит Степан, а навстречу ему, на другом берегу, из леса вышел юноша высокий, с ярко-рыжей копной волос, за узду лошадёнку ведёт, улыбается, взмахом к себе зовёт:
– Не бойся, воды меньше, чем по грудь коня, будет. Ноги подожми и прямо на меня держи.
Дождался, когда конь из реки на берег вышел, и, как к старому другу, обратился к Степану:
– Алексей я, здесь живу, недалеко. Анай[2] Дыдык, мать моя, послала людей с Камы встретить да во двор привести. Ещё вчерась дядяй[3] Гондыр сказал: «Жди гостей завтра», – и ушёл за речку Альняшку. Не ты ли будешь гостем нашим?
– Я, но не один иду, сейчас мужики нагонят.
Появились Савелий, Яков и Максим, вышли из брода, лошадям волю дали и время от воды обсохнуть, пустили их на полянке, а сами с удивлением стали рассматривать встречавшего.
Савелий не утерпел:
– Ты, вьюноша, часом не сыном Самохваловым будешь?
– Алексей я, сын Гондырев. И тятя мой тоже Алексей. Он после снега в лесу ходит, – отвёл взгляд, вздохнул тяжело, – пойдём, анай Дыдык ждёт нас.
Зашли во двор, одиноко выпирающий на окраине деревни, местами огороженный плахами, вытесанными топором и набранными в ряд молодыми, ошкуренными сосёнками, но большей частью продольными жердями; изба большая, рядом просторные дворовые постройки, посреди шалаш возвышается: то ли куала[4], то ли ледник летний. С коней слезть не успели, вышла на крыльцо яркая женщина, словно засыхающий цветок. Присмотрелась, повела прищуренными красивыми глазами:
– О, Яшка, Максимка! И тебя знаю, Савелийты. – Повернулась к Степану: – А тебя не помню, молодой, наверное.
Степан промолчал, но промелькнула мысль: «Красивая раньше была, а сейчас как коряга без воды…»
– Дыдык, ты всё такая же проворная да озорная, а есаула не сберегла, – Савелий по-молодецки соскочил с коня, грудь колесом раздул, – вишь, как запозднились мы с поездкой-то. Давно Алексей Филиппович нас приглашал. – Вырвалось невольно: – Царствие небесное. Как же это вышло?
– Э-э-э, Савелий, зачем так говоришь? Не говори больше. Алексей где – не знаю. Ушёл в лес после снега, долго уже ходит. Чувствую, что рядом где-то, – замолчала, вздыхая, – жду. Сейчас вечерять будем, всё у нас готово. Заночуете, отдохнёте, а завтра спозаранку дальше в путь отправитесь с сыном моим… Дожидают вас уже. За Альняшку к друзьям есаула пойдете: Гондыру и Шагыру. Алексея поищете…
– Прости меня, Господи! – Савелий виновато троекратно перекрестился.
Все уже отправились отдыхать, а он долго ещё удерживал разговором Дыдык, расспрашивал о жизни с есаулом.
– Знаешь, Савелий, хорошо мы живём. Первые годы плохо было, таились. Пришли к родной речке, дед встречал. Ругал меня, мол, зачем ты плохо делала, позорила наш род, ищут тебя. Я обнять его хочу, а он отталкивает меня. Мол, деньгу давал, чтобы забыли о тебе. А есаула рассмотрел, обрадовался. Его сыном принял, Гондырем на звал, – и замолчала, нахмурилась.
А Савелий вдруг вспомнил о дочери есаула:
– Дыдык, а ведь у Алексея Филипповича дочка была, маленькая да красивая такая, как куколка. Что же с ней стало?
– О-о-о! Дуняшка хорошо живёт в Камбарке, с казаком Данилкой. Детей много, счастья много. Она с Данилкой на переправе встретилась, когда мы на Буй шли. Отправил он нас через Каму, но два года не прошло, сам прискакал со старшим братом-урядником Дуняшку сватать. А есаул противится: «Мала, – говорит, – не отдам». А я чую, что жалко ему расставаться с ней, память о прошлом боится потерять. Долго ломался, ночь думал, а потом и спрашивает: «Дуняшка, нравится тебе Данилка? Пойдёшь с ним?» А та отвечает: «Да, тятенька, нравится. Пойду хоть на край света за ним». Так и уехала, оставила нас. Осенью, в тот же год, Алексей был у них в Камбарке. Вернулся, мол, хорошо живут. Потом ещё ездил. Но вижу, что жизнью расстроенный, по-своему, по-русски, говорить ему не с кем здесь, совсем вотяк стал. Бога своего не видит, плохо одному. Я с ним вместе говорить и молиться стала. Потом очередного сына родила, он живым остался. Алексеем назвали. Есаул грустить бросил, работать много стал. А я рожать стала кажный год, сам видишь детей много! А после снега ушёл есаул вместе с собакой, своим Кионом, и не вернулся, – повторила Дыдык и махнула рукой у лица, как будто отмахивая горестные воспоминания. – Атай[5] с анай вместе ушли в лес совсем, муж ушёл. Жду его, ночи не сплю, вся высохла. – И уронила голову. Пойду я, Савелий, рано провожать вас.
Утром со двора вышли не спеша, но продвигались споро, хоть и на подъём: отдохнувшие кони по лесной, чуть видимой тропке шли резво, держали шаг, отмахивались хвостами и фыркали, отбиваясь как могли от мух, комаров да слепней. Шли всё на север: миновали речку Буй – перешли по широкому перекату, следом и Альяшку проскочили, не поняли: то ли речка, то ли ручеёк какой; солнце только краем появилось, а Алексей объявил, что немного осталось, больше половины пути прошли уже. Примолкли мужики, знай, крутят шеями, смотрят кругом, удивляясь местам нехоженым, деревьям большим, полянам, заросшим высокими травами, косогорам да буеракам. Густой, высокий лес и огромные отдельные деревья закрывали обзор, но Савелий всё так же пытался заглянуть вдаль, осматривать и оценивать местность своим крестьянским взглядом, и нет-нет, да поглядывал на младшего брата и товарищей: как они? Отмечал, как блестят глаза, и радовался одинаковым у всех впечатлениям.
Через некоторое время всадники почувствовали, что кони пошли без натуги, подъём закончился, появились ровные участки и много спусков; вскоре вышли на открытую местность и увидели впереди широкую заросшую лесом долину.
– Вот мы и дошли, – Алексей повернулся к Степану, натянул узду, придерживая коня, и посмотрел на яркое солнце, определяя время, – дождёмся Гондыра, скоро будет.
Мужики пустили коней на поляне, а сами осматриваться начали. Много не говорили и не обсуждали, а только обменивались взглядами да кивали друг другу. Вскоре услышали неясный шорох травы под копытами лошадей и тихий непонятный говор, сразу не узнать: то ли башкиры, то ли татары, то ли вотяки. Вскоре на опушке появились два всадника, первый из которых, плотный и широкоплечий, ярко-рыжий, неопределённого возраста обратился к Савелию:
– Гондыр я, эш, товарищ Алексея, много годов знаемся. Он просил своим русским людям землю найти. Вот он даст, – показал рукой на соседнего всадника, – Шагыр зовут. Хороший, грамотный вотяк: рассказывает хорошо, поёт хорошо. Всё делает хорошо. Шур, речку – Шагыр зовут. Гурт, деревню – тоже Шагыр зовут, – махнул рукой вперёд, влево и вправо, в сторону верховья долины.
Его напарник, худощавый, стройный и молодой, доброжелательно кивнул им:
– А я – Шагыр. Разные люди здесь: башкиры немножко, татары немножко, вотяки немножко, черемисы немножко. Все вместе живём. Русских нет, Алексей один ходит. Леса много, земли много… Силы мало. Русский мужик сильный, лес убирать будет. Старые вотяки ещё говорят: «Ошместэм шур чаляк куасьме» («Река без родника быстро высыхает»), – а родников здесь много, жизнь долгая будет. Земля башкиров была, вотяков стала, делиться с русскими будем. Наши люди, вотяки, давно две деревни здесь поставили. Вот, направо смотри, на том берегу, у устья маленькой реки Гожанэ, деревня Шагыр стоит, а по той же речке вверх другая деревня есть – Гожан, а раньше её Гоженбаш звали. Алексей справный мужик. Мы с ним договорились: пустим вас к себе, правый берег дадим, десять дворов дадим поставить. Четыре рубля в год платить будете, нам помогать будете: лес валить, пашню делать. Пойдём. Смотреть место будем.
– Скажи мне, Шагыр, а нам как это место называть? – спросил Савелий.
Шагыр внимательно посмотрел на него:
– Савелий, зачем новое придумывать? Называй, как башкиры зовут, как вотяки зовут – Шагыр. Раньше здесь башкир Шагыр жил – певец, поэт, по-вашему. Иди на речку, слушай: она поёт задумчиво, ласково и нежно. Много к ней приклоняется речек, ручьёв и родников: Тымбай, вот он, напротив, смотри, тихий богач, черемисский красавец; Гожанэ люблю её с детства, вправо смотри; дальше много родников свои воды Шагыру отдают, а он к Бую идёт и на Каму. Слушай, стихами спою тебе: «С тобой певец, Шагыр, живём мы рядом. Люблю тебя, красавец мой, Тымбай. Гожанэ милая, прекрасная нарядом, ты прославляешь мой любимый край…». А теперь этот край и вашим будет… Через неделю пойдём в Ершовку на Каму, в Приказ, «припускную» запишем: пустим на нашу землю работать, как с Алексеем договорились, на шестьдесят годов.
До конца дня мужики осматривали окрестности: всё нравилось им, места для десяти дворов вместе определили. Решили, чтобы споров не было, первые четыре двора поставят братья Килины, они и «припускную» оформлять будут. Порадовались, что рядом лес строевой, таскать далеко не надо, а дерево можно сушить на месте: ошкурить комель, корень подрубить, – солнце и ветер своё дело сделают; наметили на лесистом и пологом склоне, с многочисленными полянками, от реки, поля разместить, задумали просечь топорами лес на полосы да гарь пустить.
Повечеряли и сели кружком спокойно обсудить условия «припуска» на землю шагиртскую. Сумму оплаты обсуждать не стали – она всех устраивала. Конечно же, правый берег реки застраивать надо: он высокий и весенними водами не заливается. Десять дворов ставить вотяки разрешили, потому что у них столько дворов, а если больше будет в новой деревне, она сильнее старой окажется. Спорить не стали, для начала достаточно и этих дворов. Стали дальше обсуждать предстоящие припускные записи об условиях пользования землёй, дополнительно обговаривать границы земельные и действия припущенников: пашню пахать, сено косить, лес рубить, рыбу ловить, зверя бить, борти делать, дупленницы искать, мельницу строить и другие дела возможные.
Шагыр в грудь себя ударил, слово дал:
– Всё разрешим, что можно делать, и в Ершовском приказе запишем. Там друг наш есть.
После этого наметили поиски есаула в двух направлениях вести и поделились на группы. А Савелию решили дать возможность ещё раз осмотреть местность и обдумать, как дома ставить.
Гондыр сидит, кивает и поддакивает в разговоре, а сам всё о поисках друга думает:
«Да, место под дворы надо сразу готовить. А нам Алексея искать: по ручью Осиновому и по речке Черемиске навстречу друг другу ходить будем. Дыдык сказала: „У черемисов он, у лесных людей. Через Тымбая старого искать его надо“».
После ночи пришло туманное утро и забило всю округу белыми густыми облаками. Алексей глубоко вздохнул, закашлялся, толкнул по-свойски Степана плечом и прохрипел:
– Глотнул воздуха, а кажется, воды напился, – и повернулся в другую сторону к Гондыру, – агай[6], надо ждать, когда солнце просушит, а то плутать будем.
– Дождёмся. Ничего не видно, как бы коней не загубить, – недовольно отозвался Гондыр.
Только туман рваться начал, разошлись в противоположные стороны: Гондыр с Алексеем и Степаном налегке отправились вверх по долине к устью Черемиски, а Шагыр повёл Савелия, Якова да Максима вниз по течению ещё раз землю показать, а оттуда, как и решили, по ручью Осиновскому в верховья двигаться.
Гондыр уверенно вёл всадников в урочище. Он не был в этих местах, но знал от старых охотников о чуть заметной нетоптаной тропке, которая обязательно приведёт к издавна стоящим нескольким избам черемисов – «лесных людей». Он знал, что с весны черемисы далеко уходят, с лесом одной жизнью живут в разбросанных одиноких лесных избушках и шалашах, а с осени до глубоких снегов зверя добывают. Но старшина их, старик Тымбай, со старухой и с бабами всегда на месте, хозяйство содержат, детьми малыми занимаются, очаг берегут.
Гондыр с коня слез и вёл его за узду, тропу выискивал, лесом любовался, радовался жизни и шевелил губами: песню в уме пел да сказку пересказывал. Забылся, в голос перешёл: «Рано встали мы, но недолго поднимаемся вверх по ручью холодному: туман утром захватил, сон продлил, а сейчас совсем ушёл. Солнышко лес зелёный на берегах хорошо прогрело, жарко стало. Инмар на землю спустился вместе с лучами солнца; по полям да лугам, по полянам урожай разносит, а меня к другу есаулу ведёт…»
Прислушался Алексей к голосу своего дядяй, заулыбался. Степану потихоньку махнул, ладонью знак подал: «Тихо, Гондыра слушай». Так под тихое вотяцкое пение и шли они, пока в берег лесного озера не упёрлись, избы старые не увидели, лай собаки и людей лесных не услышали. Остановились, удивлённо рассматривая округу, а Гондыр к избам пошёл со стариком Тымбаем говорить.
Нашёлся их есаул, Алексей Филиппыч. Собака ему помогла, помощь привела и жизнь сохранила: приползла помятая к старику в дом, за собой позвала.
Забрали друзья Алексея и его собаку в Гондыр, к Дыдык привезли. Радости и счастья много было, хотя Дыдык ещё долго тайно слёзы проливала, пока на ноги мужа поднимала.
И месяц не прошёл, а в окрестностях реки Шагыр зазвучали голоса русских припущенников вперемежку с бойким стуком топоров, хрустом падающих деревьев и своеобразным шёпотом прожорливого огня и густого дыма.
Глава 3. Кион[7]
Алексей Филиппович возвращался к жизни медленно, долго и тяжело, а его главными союзниками были время, терпение и окружение из близких и заботливых людей. Он лежал без движения уже более двух месяцев: первые несколько недель не помнил, так как, после той трагической встречи память покинула его, а всё, что происходило в это время, сначала узнал от старого черемиса Тымбая, а позднее услышал в пересказе Гондыра и сына Алексея. Лёжа в одиночестве в избе, на широкой скамье, он напрягал память, и иногда ему удавалось вспомнить отдельный фрагмент или действие того дня, и он был рад этому. Так и проводил время, восстанавливая произошедшее с ним и мучаясь в поисках ответа на вопрос: «А мог ли он, опытный и пока ещё не особо старый охотник, избежать трагических последствий той встречи?»
Мысли перекинулись: вспомнил одну из прошедших поздних вёсен, дни которой украшали её особым теплом и свежестью… И первую встречу со своим спасителем.
Вечернее солнце висело у горизонта над макушками деревьев, дышалось легко и свободно; было радостно от предстоящей встречи со своей семьёй и от хорошего улова за плечами в почти полном мешке, набитом мелкой золотистой рыбицей. Он возвращался с лесного озера не торопясь, наслаждаясь остатками тёплого дня; до дома оставалось не много. Впереди, с правой стороны от чуть видимой тропинки, где начинался небольшим углублением длинный лог, он неосторожно наступил на сухую ветку, которая своим хрустом нарушила лесную тишину. Улыбнулся неловкому движению: «Старею…» – и вдруг услышал из глубины лога неясный зовущий звук. Остановился, огляделся по сторонам, замер на мгновение и ясно воспринял жалобный вой и скуление вперемешку со стоном. Подумал: «Что такое… Словно ребёнок малый голос подаёт». Шагнул вниз, в лог, в сторону звука, и через десяток шагов остановился в растерянности: впереди у куста, без движения, на окровавленной земле лежала огромная волчица, а рядом выл, скулил и тёрся о её туловище маленький серый пушистый комок. Алексей Филиппович осторожно подошёл к волчице, осмотрел: из бока торчал конец обломанного древка. Щенок заскулил как-то жалобно, обречённо, прижался к матери, а она безвольно заглянула в глаза человека, открыла пасть только для того, чтобы показать ему свои зубы. Он сделал ещё шаг, но волчонок не убежал, не отскочил, а плотнее прижался к матери, громко заскулил, ощетинился и, оскалив зубы, приготовился защищаться.
– Не бойся, кион, – Алексей Филиппович, не обращая внимания, одной рукой прижал морду волчицы к земле, подумал: «От греха подальше», – а второй резко и с усилием вытащил из туловища древко вместе с кованым металлическим наконечником. Волчица беззвучно дёрнулась и осталась лежать без движения, потом медленно закрыла глаза и больше не подавала признаков жизни. Осмотрел рану и, увидев, что она не кровоточит, зачем-то непроизвольно и осторожно разгладил шерсть вокруг, приложил ладонь к носу, почувствовал дыхание и понял, что жизнь ещё не покинула волчицу.
Щенок смотрел на человека отчаянным, затравленным взглядом, потом пытался грозиться, показывать острые зубы, но Алексей Филиппович, не обращая внимания, взял за загривок и сунул его за пазуху. Подумал: «Погибнет здесь. Пусть вместе с моим Волчком будет. Дай Бог, выживет, и хорошо». У него во дворе уже месяц бегал серый щенок, которого подарил друг Гондыр со словами: «Алексей, вот тебе помощник и двору защитник».
Прошло немного времени, и его воспитанники вытянулись, превратились в мало отличимых друг от друга игривых и нескладных серых щенков; они свободно передвигались по двору и порой на пару убегали в окрестные леса, где пытались сами добывать себе пищу, загоняя зайчат и мышей. Но однажды Волчок вернулся один и, напуганный, забился в дальний угол двора, за сарай, и не выходил из своего убежища до тех пор, пока его не нашли и не вытащили детишки. Алексей Филиппович забеспокоился, пошёл искать волчонка: пытался взять с собой на поиски Волчка, но тот виновато покрутил хвостом и не пошёл с ним. Один углубился в лес и вскоре на его зов: «Кион, Кион!» – на широкую поляну выскочил волчонок, кинулся ластиться, изгибаться туловищем и тереться об ноги; останавливался, оглядывался на лес, опять ластился и заигрывал.
– Что, Кион, набегался? Пойдём домой? – Алексей ладонью ласково погладил щенка. Но Кион виновато опустил массивную, уже широколобую, с высоко поставленными треугольными ушами голову, дёрнулся и пошёл в противоположную сторону, туда, откуда выскочил на поляну.
– Вот тебе и на! Кион, что случилось? – и отправился за ним в лес. Не упуская из виду, прошёл некоторое время и вдруг недалеко, совсем рядом, в просвете между берёзами, увидел ту самую большую серую волчицу, смотрящую с возвышенности в его сторону, и… рядом своего Киона. Алексей Филиппович узнал её взгляд, он не был наполнен звериной злобой, но только настороженностью. «Не может быть!» – невольно воскликнул он. Услышав человеческий голос, волчица развернулась и исчезла. Кион мгновение посидел в растерянности, а потом следом скрылся в низине.
Чтобы подтвердить свою догадку, на следующее утро Алексей Филиппович отправился к лесному озеру, предупредив Дыдык, что, возможно, вернётся поздно либо через день. Он торопился и вскоре осматривал место, где когда-то около умирающей волчицы забрал Киона: осмотрел обширную местность, нарезая и расширяя круги, но не нашёл подтверждения её гибели. Подумал: «Хорошо, что выжила. Хотя жалко, привык уже к Киону. Ну что ж, Волчок у меня остался. Скоро подрастёт». Через некоторое время история с волчонком забылась, а своего щенка Алексей Филиппович и все домашние стали называть Кионом.
Прошло ещё время: Кион окреп, вырос и беспрекословно подчинялся командам хозяина и друга, преданно любил его. Конечно, Кион был любимцем детишек: они играли с ним, и он подыгрывал им; Кион внимательно относился к хозяйке, но старался держаться от неё подальше, а поближе к своему хозяину, без которого не видел жизни. А Дыдык ревновала мужа, относилась к собаке предвзято: понимала это, но ничего с собой поделать не могла.
И наступил день, к которому Кион готовился всю свою короткую собачью жизнь. Сошёл последний снег, вскрылись реки и озёра, лес проснулся и потянул к себе с силой, противиться которой уже не было никакой возможности. Алексей Филиппович, захватив рыбацкие снасти и Киона, отправился на лесные озёра. Он неспешно поднимался по правому берегу речушки Бырки и, миновав Волчьи ямы, через некоторое время оказался на верхнем лесном озере. Кион бегал кругами и радовался свободе, новым чувствам и проснувшемуся лесу, но вдруг прижался к ногам хозяина и, развернувшись к возвышенности с кустарником, ощетинился, изогнулся дугой, ни издав не единого звука, кинулся навстречу большому чёрно-бурому медведю, который прыжками, преодолевая расстояние, нацелился на человека. Алексей Филиппович, как в тумане, со стороны, увидел Киона в прыжке; увидел, как он ухватил медведя за шею, повис, пытаясь порвать её, а когтями лап царапал и впивался в тело хищника. Но медведь обхватил его туловище и, раздавив лапами, оторвал от себя, бросил наземь и ударил когтями; Кион взвизгнул и затих. Алексей Филиппович бросил навстречу медведю мешок; тот схватил, сбил в сторону и, раскрыв пасть, кинулся на него. Выхватив из-за пояса нож, есаул подался хищнику навстречу, вплотную прижался и, почувствовав запах падали из его пасти, воткнул нож сбоку в туловище, провернул его. Увидел со стороны, от возвышенности, как лапы медведя схватили и отбросили его тело в сторону. «Да, мой нож был для человека, но короток он для зверя, – подумал, – вот и жизни моей конец». Хотел закрыть глаза, но вдруг медведя сверху поразила серая молния: волчья пасть рванула его за ухо, завалила туловище набок, кровь полилась на землю; увидел ещё одного волка и закрыл глаза: сознание покидало его. Через некоторое время очнулся от воя, повизгивания и влажных шершавых языков, которые поочерёдно лизали ему щёки, лоб и бороду: раскрыл глаза, увидел двух серых волков, преданно заглядывающих ему в глаза, произнёс: «Кион!» – и провалился в бездну.
Утром черемис Тымбай сидел на своём обычном месте и строгал древко для копья из молодой берёзы – его младший сын, последыш Тымбай, потерял своё копьё уже давно, отбиваясь от волчицы после захвата малых волчат. Они ещё раньше искали кованые наконечники, но купить смогли только сейчас: их вот-вот должны передать. Мысли не шли, закончились, он прекратил работу, расслабился подремать, но услышал собачий визг и удивился: все его собаки были с сыновьями в лесу. «Что такое случилось?» – повёл глазами и увидел серую, похожую на волка собаку. Она лежала около пня и в любой момент могла броситься на него, но скулила и заглядывала в глаза. «Ты чья?» – спросил Тымбай. Собака заскулила и сдвинулась от него. «Не бойся, я тебя понял. Подожди, сейчас пойдём». Тымбай поднялся с места и крикнул жене: «Мадина, дайка мне копьё».
Он следовал за собакой без страха, надеясь на её природные чувства, но когда увидел раненого человека, а около него здорового, серого волка, растерялся: «Наверное, это особенный человек, если его охраняет волк». Увидев Тымбая, Кион дождался Волчка, облизался с ним, лизнул щеку хозяина и убежал в березовую рощу, где ждала его волчья стая.
Тымбай осмотрел человека и сказал громко: «Лежи здесь с собакой. Скоро я заберу тебя».
Вспомнил всё это Алексей Филиппович, а ещё встречу с другом Гондырем, с сыном Алексеем, с женой Дыдык, с друзьями своей молодости: Савелием, Степаном, Яковым и Максимом, – заволновался, пытался двинуть хоть какой-то частью тела: «Как же я так мог: пригласил с Камы, наобещал, а сам сбедился?» – но безуспешно.
Однажды летним дождливым днём Алексей Филиппович, понимая, что ему подняться и ходить самостоятельно уже невозможно, а жизнь заканчивается, лежал, закрыв глаза, вспоминал прошедшие годы: «Как быстро пролетают дни. Эх, не довели своё дело до конца: не видать свободы!» Задремал и сквозь дрёму услышал, как загремели вдруг в сенцах шаги, твёрдо ступая на деревянные плахи: «Алексей?» – спросил грозный голос. Но Алексей Филиппович уже никого не слышал. Только мысль пронзила его: вспомнил далёкие боевые годы, сотню молодых ребят, готовых умереть за лжеимператора, встречу с Дыдык, конные атаки, вой Киона, задравшего голову к небу.
Глава 4. Священноинок
Священноинок уже месяц добирался из Филаретова монастыря на реке Иргиз до Камской пристани Камбарки. Конечно, он мог бы пройти в Закамье по дорогам через Самару, через татар и башкир, но захотелось увидеть места, связанные с походами войск за волей и старой верой, ещё раз потоптать дорогу, по которой ходил молодым.
Всё время пути простоял у борта судна в одиночестве, иногда с лоцманом или с купцом, смотрел на берега, радовался жизни и огорчался… рабскому труду бурлаков, страдал вместе с ними от палящего солнца или проливного дождя и сильного ветра. На стоянках для отдыха и ночёвок при возможности покидал судно, подходил к костру и ненавязчиво беседовал с бурлаками, пытаясь внушать важность их работы, поддерживать любовь к жизни и смирение. Несколько раз натыкался на злые взгляды, но не отводил глаз, а начинал разговор о старой отцовской вере либо пересказывал известные библейские притчи. И в конце пути увидел результаты своего труда: бурлаки всей артелью вышли прощаться с ним, а некоторые задавали вопросы о том, как вернуться в отцовскую веру и где искать её представителей и священников.
Завод, расположенный на реке Камбарке, которая впадала в реку Буй у слияния с Камой, был единственным Демидовским заводом на её левом берегу, строился как металлургическая фабрика для получения стали из чугуна и как город-крепость, обнесённый стенами из брёвен с пятью воротами и дозорными башнями. В нём же действовала одна из крупнейших лесопилок Прикамья.
Священноинок сошёл на берег и почему-то вспомнил встречу двадцатилетней давности, когда в Сарапуле, в конце морозного декабря 1773 года, казачий атаман радостно рассказывал ему о лёгком захвате Камбарки и переходе большей части заводских рабочих на сторону крестьянского войска, бегстве демидовских служивых и заводских казаков, об уничтожении завода и лесопилки пожаром. Осмотрелся по сторонам, пытаясь найти следы пожарища, но ничего не увидел: тени от солнца пропали, вечерние сумерки сгущались, а кругом бушевала июльская зелень. Ухмыльнулся своим мыслям и воспоминаниям: «Столько лет прошло!» Взялся за посох и уже было направился в дорогу, но внимание привлёк старый казачий урядник, шагнувший ему наперерез:
– Старец Иоанн… – вопросительно, но больше утверждающе, с одновременным приветственным поклоном произнёс урядник и после некоторой паузы, заполненной открытыми взаимно изучающими взглядами, добавил: – Я, Игнатий Лазаревич, направлен Камбарским обществом для встречи тебя.
– Спаси Христос, Игнатий Лазаревич, – приветствовал его прибывший гость, – а то уж растерялся было, хотел в Усольскую сторону к товарищу давнему отправляться.
Ещё неделю назад один путник дорожный принёс наставнику общества Камбарского завода, Тимофею Карповичу, весть о скором приходе священноинока, старца Иоанна из Филаретова монастыря, что на реке Иргиз, передал просьбу: встретить, выслушать его и помочь выполнить особое поручение иргизских старообрядцев в недавно созданном Осинском уезде. Вот и попросил наставник старого казачьего урядника от имени Камбарского общества встретить с дороги и первоначально приютить старца у себя в избе.
Урядник взмахом руки пригласил гостя к стоящей невдалеке телеге, но тот отказался:
– Давай, Игнатий Лазаревич, пройдёмся с тобой: не обессудь привык ногами землю мерить. Недалеко, небось…
– А зачем в Усолье идтить, ко мне пойдём. У нас своя казачья сторона, по Правленскому прогалу прямо и выйдем. Это продолжение плотины заводской от реки. Камбарка наша по частям поднималась. Прогал её почти пополам режет на Усолье, Шахву, дальше Заплотина: кто откуда из работников сюда привезённый был, тот в той стороне и живёт. А с Усольской стороны Николай Афанасьевич будет у меня обязательно… Повидаешься и поговоришь с ним.
Не спеша дошли до двора отставного казачьего урядника, следуя за телегой. Окинул взглядом дворовые постройки старец:
– Да, Игнатий Лазаревич, всё основательно у тебя, хорошо и приятно, по-хозяйски, глаз радует, – зашли в избу, перекрестился на красный угол с поклоном, – мир дому сему.
Замлел Игнатий Лазаревич, грудь защемило от похвалы, склонил голову на мгновение, чтобы скрыть чувства свои:
– Радостно мне, старец Иоанн, такие слова от тебя услышать. Сын, последыш мой, Данила Игнатьевич, во дворе хозяйничает, в избе Евдокия Алексеевна, жена евонная. А мы вдвоём, с бабкой, подсобляем им понемножку. Сейчас вечерять станем, только дождёмся наставника нашего, Тимофея Карпыча, да ещё нескольких близких и уважаемых людей.
Вскоре собрались приглашённые на встречу единоверцы во главе с наставником, друзья и давнишние знакомые Игнатия Лазаревича, равные возрастом, общественным положением и состоянием. Все прошли длинную жизненную дорогу, которая в старости их примирила и даже сделала близкими, а некоторых породнила; в молодости они участвовали в войне, некоторые были противными сторонами, но все одинаково видели и боль, и кровь, и смерть. Им многое было известно, но они давно уже простили друг друга за участие в трагические годы на стороне лжеимператора или карателей. Простили, но не забыли смерти родственников и друзей.
После общей краткой молитвы повечеряли и вышли из избы во двор: дали возможность Евдокии с бабкой убрать со стола, а самим обсудить между собой новости завода и подготовиться к главному разговору с посланником с Иргиза. Конечно, присутствующие уже длительное время не работали на заводе, однако были связаны с ним навсегда, так как там продолжали трудиться их дети и внуки.
Игнатию Лазаревичу было известно, что посланник Усольской стороны Николай Афанасьевич был когда-то сторонником пугачёвской компании, и он внимательно наблюдал за ним и старцем с Иргиза. По их тёплой встрече казачий урядник сразу понял, что они связаны не только единой верой, но и давним знакомством.
А старец Иоанн и Николай Афанасьевич уединились в стороне и увлечённо вспоминали о событиях двадцатилетней давности, и когда Игнатий Лазаревич услышал, что его земляк, забывшись, неожиданно обратился к старцу по имени и отчеству: «Иван Финогенович», – то сразу насторожился и с любопытством стал рассматривать гостя. Это имя точно когда-то было интересно уряднику, и он мучительно копался в памяти.
В это время из избы выбежала внучка Анютка и что-то прошептана деду на ухо. Урядник удовлетворённо закивал и немедленно пригласил всех в избу, а Иван Финогенович, увидев внучку, застыл в изумлении – эта девочка ясно напоминала кого-то из его прошлого.
Поддавшись своей вдруг вспыхнувшей догадке, он обратился к хозяину двора:
– Скажи, Игнатий Лазаревич, а сноха твоя Евдокия, случаем, не дочь Самохвалова будет?
– Да, дочь есаула, – урядник дождался, когда старец Иоанн подошёл ближе и шепнул ему: – Так ты часом не Иваном Финогеновичем будешь, вестником императорским?
Старец Иоанн развёл руки и так же тихо ответил:
– К сожалению, Иван Финогенович двадцать лет назад закончил свой земной путь, а я священноинок Иоанн, – помолчал и добавил: – Позднее расскажешь мне историю с есаулом и Дуняшкой… ладно?
Расселись за столом, внимательно всматриваясь друг в друга. Старец Иоанн упёр посох к краю, отсоединил старую ручку и, достав из полости свёрнутый в трубочку лист бумаги, тихо, для себя произнёс: «Сколько лет ношу… по таким делам. Одним словом – дуб». И зачитал письмо игумена Лазаря с просьбой, обращённой к обществу Камбарки и его наставнику Тимофею Карповичу, поддерживать в вере переселенцев-единоверцев на новой территории Осинского уезда в долине реки Буй и её притоков.
Старообрядцы не участвовали в управлении государством, постоянно подвергались гонениям, но продолжали активно заниматься предпринимательством, обладали значительной частью доходов среди купечества и промышленников, имели тайные связи с представителями знати и власти, пользовались их поддержкой. Они заранее узнавали о действиях властей, отслеживали и использовали их управленческие решения в своих целях, старались воздействовать на них, принимали меры для сохранения и распространения старой веры среди народа, в том числе, путём организованного переселения на новые места, туда, где ещё отсутствовали священники-нововеры. Между переселенцами-старообрядцами и их духовными центрами, расположенными как в России, так и в зарубежье, устанавливались и поддерживались крепкие, невидимые связи, создавались условия для проведения единой политики; нередко к переселенцам на новые места из центров направляли посланников, которые проводили активную работу по укреплению старой отцовской веры.
В начале восьмидесятых годов восемнадцатого века в составе Пермского наместничества был образован Осинский уезд, а его обширные земли были собственностью башкирских племён, часть из которых, на то время, уже освоила земледелие и создала свои деревни.
В это же время был образован Ершовский удельный приказ, которому подчинялись переселенцы – удельные крестьяне.
Земельные и лесные угодья, расположенные в долине и по притокам реки Буй, использовались башкирами редко и передавались припущенникам, арендаторам земель, которые платили им оброк; в роли припущенников выступали татары, вотяки и черемисы, а теперь и русские крестьяне, на появление которых местные жители не обратили внимания. Но создание Ершовского удельного приказа не было оставлено без внимания настоятелем Филаретова монастыря игуменом Лазарем и священноиноком Иоанном; последний теперь и направлялся к русским переселенцам.
– Тимофей Карпович, – обратился гость к наставнику и обвёл взглядом присутствующих, приглашая к беседе, – просьба от игумена Лазаря и от всего Иргиза – взять под своё крыло единоверцев, прибывающих в долину реки Буй, оказывать им помощь в сохранении веры нашей. Вы на одном берегу, и приказ под рукой; их без поддержки на новом месте оставлять нельзя. Я сейчас туда направляюсь. Могут ли они первоначально опереться на тебя и общество при надобности?
Обсуждали недолго и решили, что переселенцам отказа в помощи сохранения веры не будет и наставник всегда их примет в молельне общества.
А следующим ранним утром старец уже шёл не спеша по башкирской дороге, вспоминал беседу с Дуняшкой, ставшей женой сына урядника Данилки, рассказ Игнатия Лазаревича о встречах со своим сватом Алексеем Филипповичем, его жизни среди вотяков и его многочисленной семье.
Дыдык беспокойно смотрела на отрывистое и тяжелое дыхание Алексея; она уже неделю не спала и не оставляла мужа без внимания, а все домашние дела переложила на плечи своей сестры. Сидела, раскачиваясь всем телом, и думала: «Только бы остался со мной, только бы не ушёл к своему Исусу Христу».
В избе душно; солнце стояло в зените и нещадно прожигало землю. Услышала лай Киона, какой-то знакомый, напевный мужской голос и голос старшего сына Алексея, удивлённо повернулась на звуки. Через дверной проём увидела стоящего рядом с сыном высокого, аскетичного старика-монаха в заношенной чёрной выгоревшей и подпоясанной рясе; такая же непонятного цвета складная шапочка, котомка за спиной, посох в руке…
– Иван Финогенович, – от долгого молчания голос прозвучал тихо, хрипло, с надрывом.
Старец Иоанн повернулся на её зов, зашёл в избу, и Дыдык с рыданием обхватила его руками, прижалась, с надеждой заглянула в глаза и утвердительно шепнула одними губами:
– Ты поможешь ему…
Глава 5. Встреча
Старец Иоанн забыл счёт дням и ночам, не отходил от своего помятого медведем друга, поил отварами, вымаливая для него Божией милости, душевного и телесного выздоровления. Он сразу же после осмотра Алексея увидел, насколько тяжёлыми, если не смертельными, являются его раны, но всё же надеялся, что удастся восстановить жизненные силы и старый боевой товарищ сможет подняться на ноги. А вот, надолго ли, зависит не от них.
И однажды это произошло: ранним предрассветным утром священноинок вдруг увидел, как заколебался огонёк в лампадке, почувствовал взгляд и, закончив молитву, поднялся с колен:
– Слава тебе, Господи! Ох и напугал ты нас, раб Божий Алексей!
Из глубоко проваленных тёмных глазниц на него смотрели удивлённые и страдальческие сухие глаза, в которых отражались колеблющиеся огоньки. Заметив, что сумрак уже уступает место утреннему свету, повернулся, дунул на лампадку, зажал фитилёк между пальцев, чтобы не дымил, пригладил бороду и продолжил обыденно:
– Только что рассвело, сейчас отвару дам. День-два, да подниматься помаленьку будем, хватит лежать.
– Как ты здесь оказался, Иван Финогенович? – спросил Алексей и хотел привстать, но только лишь напрягся, сразу же прекратил свою попытку: мышцы не подчинялись приказам, а боль обручем охватила тело.
– Лежи, лежи… напрягаться не надо, пусть кости ещё схватываются, а мышцы готовятся к работе, – старец Иоанн крестом осенил друга, повторил, – позднее с тобой вставать будем. – Помолчав некоторое время и увидев, что больной окончательно приходит в себя, продолжил: – Священноинок я, уже двадцать лет как в монашеском постриге.
И, действительно, через несколько дней приподнялся Алексей Филиппович, сделал после долгого лежания своё первое движение: с помощью старшего сына Алексея и под ласковым и одобрительным взглядом маленькой и хрупкой, высохшей от переживаний жены Дыдык, самостоятельно поменял положение своего тела и, вглядываясь в глаза старого товарища, произнёс:
– Отче! Нам поговорить надо. Вижу твоё настроение и радуюсь, что всё так же дела добрые для нас, рабов Божьих, творишь и большую работу проводишь.
А когда остались наедине, тихо обратился к другу:
– Спаси Христос тебя, отче! Веру несешь с собой большую! Ощущаю её в тебе! А я ведь ворота храма небесного ныне ночью видел: открыты они для всех, но не каждого пропускают. Вот и сомневаюсь, а пустят ли меня… Как думаешь?
– Не сомневайся: много добрых дел за твоими плечами стоит – они всё перевесят.
Значительную часть прошедших и бессонных ночей два старых товарища проводили в доверительных беседах или разговорах на разные темы и в воспоминаниях. Старец Иоанн интересовался жизнью друга в прошедшие десятилетия и однажды исповедал его.
Это случилось, когда беседа стала иссякать вместе с ночью, а утренний свет наполнял избу. Алексей Филиппович обратился к гостю:
– Отче! Хочу исповедоваться. Много лет обращался к Богу в одиночестве, терпел, молитвой Исусовой закрывался, а душа просила общения с единоверцами православными, но редко виделся с ними, только когда к Дуняшке в Камбарку ходил.
Священноинок одобрил намерения друга и стал готовить к исповеди, напомнив, что таинство примирения с Богом и покаяние начинается сразу же с появлением у верующего этого желания и с осознания своих грехов; прочитал Нагорную проповедь Спасителя, рассказал притчу о Страшном суде, прокомментировал действия и поступки человека в отношениях со своими ближними и напомнил о Десяти заповедях.
Алексей Филиппыч трепетно вслушивался в слова старца и своего друга, редкие слёзы терялись в заросшей бороде, но когда начал покаяние, открывая грехи свои, высохли, и голос окреп:
– Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! Много тяжких грехов в душе моей скопилось за прошедшие годы: много убиенных, много жизней загублено и много причинено горя людям мной и по моему приказу. Не ведал, что убивать придётся, когда в войска и казаки вступал…
Он торопился, перечислял свои многочисленные грехи, говорил и говорил, порой останавливался, задумавшись и вспомнив неоткрытый ещё грех, начинал яростно бичевать себя:
– Боже! Хоть и в любви, но в невенчаном браке живу с женой своей, язычницей. Детей некрещёных имеем. – Помолчал и продолжил: – Не оберегаю я жизнь и здоровье своё, которые мне, рабу Твоему, дадены Тобой для совершения достойных дел, но не для пренебрежительного отношения…
Священноинок молча выслушивал его и шевелил губами в молитвенной поддержке. Бывший есаул долго открывал свои грехи, каялся и обещал не повторять их, а священноинок вымаливал ему прощение. Услышав слова: «Чадо, прощает тя Христос невидимо, и аз, грешный», – Алексей Филиппович расслабился, умиротворённо улыбнулся одними губами, прошептал: «Слава тебе, Боже!» – и устало закрыл глаза.
Прошло не так много дней с момента их общения и доверительных бесед, а они уже вновь, как в давние времена, сроднились душами, понимали друг друга с одного полуслова и жеста.
Алексей Филиппович, услышав о задумке единоверцев с Иргиза укрепить старую веру в новых починках, заложенных переселенцами, посетовал на свою слабость, физическую немощность и невозможность оказать помощь в этом деле. Он долго размышлял и решил просить Гондыра помочь старцу Иоанну и сопроводить его по Буйским притокам, по небольшим речкам и ручьям, стекающим в долину, где стали появляться первые русские поселения и отдельные избы припущенников. И однажды попросил сына:
– Алексей, сходи-ка разыщи и пригласи своего дядяй Гондыра; скажи, что помощь его требуется.
Гондыр являлся самым близким из оставшихся дальних родственников жены Дыдык, а также товарищем Алексея Филипповича. Этот вотяк не сидел на месте, а постоянно находился в движении, в дороге и всегда, по сезонам, охотился и рыбачил или собирал орехи, ягоды, грибы; он не имел своей семьи и своего хозяйства. Жилищем ему служил срубленный шалаш на краю леса, у деревни. А единственным живым существом рядом с ним некоторое время являлся щенок, который неизвестно откуда появился у него и, почти сразу же, был подарен Алексею и его детишкам.
Некоторое время назад с Гондыром произошёл замечательный для него случай. Лето было в начале, и он, как обычно, отправился в лес, без которого не представлял себе жизни. Решил сходить на лесное озеро и осмотреть оставленные морды: задумал угостить рыбой семью Алексея. Вышел на мелколесье, прошёл поляну, углубился в старый, уставший от жизни и видавший всякое лес с ломаными и в трещинах деревьями, пошёл по пологому спуску и замер: старое дерево с тремя стволами, треснутое у основания, своей расщелиной захватило малого оленёнка. Он висел на трёх стволах дерева, еле-еле доставал земли копытами, подрыгивал ими, вялый и исхудалый, закусанный гнусом, изредка жалобно мычал. Рядом кружила мать, олениха, временами подталкивала его лбом, но ничего не могла поделать, а лишь наблюдала, как погибает её детёныш без воды и корма, подходила и слизывала с него кровососов, пытаясь хоть как-то облегчить мучения. Она услышала шаги Гондыра и жалобно, утробно замычала, как деревенская корова, заслезилась и отступила несколько от дерева, заглядывая ему в глаза. Гондыр понял, что молодой оленёнок, резвясь, по неосторожности попал в расщелину и выбраться уже не смог. Раздумывал некоторое время, потом подошёл к нему и произнёс:
– Надо же, вроде и не человек, а взглядом обожгла, словно баба просит о чём-то. Ох, милая! Сейчас освобожу твоего детёныша, – и погладил его по шее.
Старался вытащить оленёнка, но ухватиться за него и поднять было непросто; бросил эту затею и долго искал среди валежника подходящие стволы, подтаскивал и подсовывал их под копыта. И оленёнок, почувствовав твёрдость, упёрся, помогая Гондыру, а освободившись из ловушки, долго лежал у дерева, измождённо моргая, как ребёнок, выпуклыми глазами рассматривал лежащего рядом человека. Подошла олениха, не обращая внимания на Гондыра, стала облизывать оленёнка. А Гондыр лежал у дерева, ругал себя за неосторожность и призывал на помощь Инмара: зачем поторопился, помогал лесному зверю, в результате подвернул ногу, упав на выступающие из земли корни. С трудом поднялся, и когда спасённое оленье семейство покинуло его, сам отправился домой: остаток дня добирался до своего шалаша на опушке леса, где ползком на брюхе, а где, опираясь на палку, или двигался на четвереньках. К ночи заполз в шалаш, перекатился на невысокий топчан и пролежал несколько дней в одиночестве, слушая лес, который шумел и день и ночь, то затихая, то усиливая шуршание листвой деревьев.
Гондыр потерялся во времени: он привык рассчитывать только на себя и теперь терпеливо, с перерывом, жевал травы, слушая возню и шорохи мышей, боролся, как мог, со своими болячками: насколько доставали руки, натирал места ушибов на ногах смесью из трав с мёдом, несколько раз осторожно приподнимался, испытывая себя. Но всё задумывался и размышлял о своей жизни: одинокий лесной скиталец… Свою семью заводить не хотелось, а рядом живёт дальняя родственница Дыдык, единственная, самая близкая и родная; её муж, Алексей, хороший друг. Но нужен ли он им?
Отрок Алексей уже давно не видел Гондыра и по просьбе отца отправился разыскивать его: не спеша шёл по едва заметной и слегка натоптанной тропе к лесному жилищу, смотрел на шалаш издали, возмущался: «Как же отец и я позволили заботливому наставнику моих братьев и сестёр, его другу и родственнику анай Дыдык жить в лесу? Нет, с этим надо заканчивать. Пусть живёт у нас: не хочет в избе, пусть двор осваивает. Но как его завлечь во двор? Надо ему подарить жеребёнка… Он давно на коня заглядывается: вот пусть и растит его в нашем дворе: срубим сарай, места всем хватит». А когда подошёл к шалашу и увидел страдающего дядю, его лежанку, неухоженность жилища, то решение пришло само по себе: сейчас и немедленно забрать его к себе.
Как ни противился Гондыр, но Алексей поместил его в избе, рядом с отцом, отгородив угол. После этого Алексей Филиппович внимательно и молча наблюдал за сыном, а потом, махнув рукой, подозвал к себе:
– Алексей, я хочу поговорить с тобой, – и когда он подошёл, произнёс: – Давно наблюдаю за тобой, сынок. А что делать? Лежу и не могу подняться. Я доволен тобой. Ты поступаешь правильно. – И продолжил шёпотом, чтобы сосед не услышал: – Завтра объяви всем, что Гондыр пока будет жить у нас в избе. Попроси, чтобы детишки не выпускали его несколько дней со двора, пока не выздоровеет. А ещё скажи, что мы дарим ему жеребёнка, который недавно появился на свет. Но пока не говорите дядяй об этом, а тайком готовьте жеребёнка для передачи…
И детишки радостно стали готовить любимому дяде живой подарок: по очереди пытались кормить разными угощениями, чесали и протирали жеребёнка. Когда Гондыр через день в первый раз поднялся на ноги и вышел во двор, то затих в изумлении: перед ним стояли все ребятишки во главе с Дыдык и, окружив напуганного жеребёнка, подталкивали его вперёд и кричали:
– Дядяй Гондыр, дядяй Гондыр: твой жеребёнок, твой жеребёнок…
После подарка Гондыр успокоился душой, вместе с Алексеем и другими помощниками срубил избушку-сарай для себя и жеребёнка, в которую сразу же и заселился, перенеся с детишками свои немудрёные пожитки из шалаша.
За свою скитальческую жизнь Гондыр прошёл вдоль и поперёк долину реки Буй и многие долины речных притоков и ручьев с истока и до устья, бывал на многих стойбищах и в башкирских деревнях и жилищах, у татар и черемисов, не говоря уже о соплеменниках-вотяках, у которых всегда был желанным гостем.
Гондыр осматривал и готовил на дереве дупло, в которое был намерен поместить пчелиный рой, когда услышал тихое ржание коня и следом звонкий голос Алексея:
– Дядяй! Тятя просил тебя разыскать. К нему друг старый, поп с Камбарки пришёл. Ждёт тебя.
Через некоторое время они добрались до деревни и зашли в избу как раз в то время, когда старец и Алексей Филиппович беседовали. Хотели подойти к ним, но из-за занавески неожиданно вышла Дыдык и, опередив их, встала перед старцем и тихим голосом попросила:
– Отче Иоанн, мне бы очень хотелось пройти крещение и вместе со своими детьми быть с мужем в одной поре, в одной вере.
Гондыр, услышав эту просьбу, внезапно перебил сестру:
– Не торопись, Дыдык! Чуть позднее поговорим с тобой!
Алексей Филиппович удивлённо взглянул на Гондыра, но промолчал и слабым, тихим голосом стал расспрашивать о его встречах с русскими переселенцами в Буйской долине:
– Скажи, дружище, а много ли русских ты встречал на своих тропах? Ведь ты всегда в лесу. А в прошлом годе с Алексеем на Усу и дальше ходили? Не слышал ли там о русских переселенцах?
– Как не слышал: как раз слышал и видел: на Усинке были, в Кустах были, с мужиками русскими говорил. Хорошие мужики, сильные и серьёзные, – заговорил Гондыр, – а ещё встречал их на реках Саве и Москудье. И, как ты просил, недавно твоих друзей проводили на Шагыр.
В конце восемнадцатого века, после образования Осинского уезда Пермской губернии, удельные крестьяне в поисках свободных земель быстро осваивали его обширную территорию: заключали договоры аренды с собственниками земельных участков татарами, башкирами и вотяками или переселялись на эти земли по приказу; нередко перебирались и самовольно, меняя родимые на глухие и недоступные места.
Глава 6. Русский корень
Старец Иоанн, увидев, что его подопечный задремал, направился к выходу:
– Пойдём во двор, подготовимся к дороге и к встречам с новыми людьми, – аккуратно, без скрипа открыл дверь и вышел из избы.
За ним потянулись Гондыр с молодым Алексеем, а Дыдык, отстав, осмотрела заснувшего мужа; поправила осторожно в его ногах подстилку и захватила с лавки деревянный ковш с остатками воды: «Поменяю-ка на свежую…»
Прошло некоторое время, изба заполнилась вечерними сумерками. Очнувшись, Алексей Филиппович сквозь сон услышал тихий, неразборчивый и непонятный говор жены с Гондыром, иногда срывающийся на высокие тона. Он продолжал лежать без движения, с закрытыми глазами, вслушиваясь, но не понимая, о чём спорят родственники. И только после нескольких громких фраз, произнесённых Дыдык, наконец-то разобрался, что спор идёт о вере: об Исусе и Инмаре, крещении жены и детей.
– Дыдык, ты помнишь, как твой дед Гондыр рассказывал, что его род ушёл с Камы и перенёс немало испытаний только для того, чтобы сохранить отцовскую веру? А как же мы с тобой – самые близкие из родственников, почти брат и сестра, – будем разных Богов вызывать? Я же всех твоих детишек потеряю, а они меня, своего родного мужчину, дядяй. Кто учить их будет нашему ремеслу, о жизни предков рассказывать, а? Ты думала об этом, Дыдык?
Дыдык молчала долго и насуплено, так что в тишине слышно было её напряжённое дыхание. Зная характер жены, Алексей Филиппович улыбнулся: «Ну, держись, братуха». А Гондыр не перенёс длительной паузы и нетерпеливо спросил:
– Ты почто молчишь, Дыдык?
– Эх, Гондыр, Гондыр… Мужик ты вотяцкий, а думаешь не о том. Ты видишь, как русский корень всё шире и глубже в нашей земле разрастается, где когда-то только наши деды жили и ещё башкиры, черемисы и татары? Ушли мы с Камы на Буй к башкирам, а русские снова за нами пришли. Смотри: муж мой, есаул, какой сильный и вольный духом, на медведя с одним ножом пошёл и живой остался. А его дети какие у меня красивые, сильные да ладные? Ты как хочешь, а я и дети мои с мужем и отцом в одной поре будем, в одной вере. Сейчас наступает время русских людей, и дети мои русскими будут, как их отец. И я его веру приму, и тебе надо веру русских принимать: смотри, какой старец Иоанн правильный и преданный своему Богу человек. Не поп совсем, а Божий посланник: не заставляет вере своей служить, а предлагает и убеждает. Я его с давних лет знаю. Давай вместе покрестимся, одной семьёй и дальше жить будем. Я давно уже поняла, и дед мой, Гондыр, об этом говорил: Бог у нас с русскими один, только называется по-разному: у них Исус, у нас Инмар. Как ты думаешь?
Алексей Филиппович, слушая жену, вдруг понял, насколько близки они по духу! Он замер в ожидании ответа своего друга, а когда услышал, как тот зашмыгал носом и буркнул: «Думать буду!» – понял, что Гондыр своим ответом старается сохранить статус мужчины, а фактически уже согласился с крещением Дыдык и своих воспитанников. А может, и со своим?
Зашевелился легонько, прохрипел, как спросонья:
– Дыдык… – Услышал, как зашуршал на земляном полу разбросанный мелкий хвойник, а затем скрипнула дверь, повторил: – Дыдык, с кем это ты там? Подойди ко мне.
В вечернем сумраке силился рассмотреть присевшую на скамью жену, но не смог. Заговорил тихонько, нараспев:
– Дай-ка ладошку твою, голубушка… Всё правильно ты надумала… Я ведь с тобой, с некрещёной-то, всю жизнь в грехе живу… Думал об этом, но молчал, обидеть тебя боялся. Слава Богу, Иван Финогенович вовремя приехал, а то так бы в грехе и помер…
Надолго примолк, вслушиваясь в тишину избы и редкое дыхание Дыдык; почувствовал упавшую каплю на запястье:
– Не плачь… Я ещё поживу… Слушай старца Иоанна, он наш давнишний друг… Многое с ним пережили… Он плохого нам не пожелает и не сделает…
И опять провалился в сон.
А Дыдык, вытерев слёзы, кинулась искать старца и увидела его в окружении своих детей во главе со старшим сыном Алексеем; все они внимательно слушали рассказы о Боге, Исусе Христе и заповедях христианства.
– Вот, скажите, вы хотели бы, чтобы к вам все относились так же по-доброму, как относится анай Дыдык?
Детишки загалдели наперебой:
– Конечно, конечно… Она нас любит, оберегает и жалеет.
Когда крики стали затихать, младшая дочка Дуняшка, до этого молчавшая, громко заговорила:
– Особенно мама любит нас, когда мы заболеем. Вон Ванюшка ручку вчера повредил, так она с ним только и сидела и нас учила, чтобы мы его не обижали, а поддерживали.
– Дак вот, – продолжил старец, увидев возбуждённую Дыдык, – Господь Бог учит, чтобы мы во все времена больными и здоровыми любили Его, сына Его, Исуса Христа, родителей своих, друзей, близких, всех людей, зверей и птичек. Всё то, что он создал на Земле… На сегодня закончим разговор, а завтра утром, даст Бог, продолжим. – И обратился к ней: – Случилось что-то?
– Да, отче, случилось: хочу веру есаула принять, чтобы с ним в одной поре быть. И детей окрестить. Когда можно будет? Сейчас или завтра? Хочу быстрей, а то всякое может быть!
Старец внимательно посмотрел на неё:
– Господь Бог ведает о нас всё. Но к Таинству Крещения надо готовиться, быстро никак нельзя, не получится. Многому требуется научить тебя прежде, чтобы ты опосля детей своих учила, – задумался, – завтра хотел выйти с Гондыром да сыном твоим Алексеем по притокам Буйским, но дело твоё и желание исполнить важнее… Святое это, Божие дело… Не могу отказать. Будем с тобой и с детишками готовиться три дня, а воскресный день господу Богу нашему отдадим.
И он начал перечислять Дыдык, что им нужно будет сделать перед крещением, но, почувствовав за спиной движение, повернулся; перед ним в неудобной позе стоял Гондыр, прислушиваясь к разговору.
Смущённо отступив на шаг, Гондыр спросил:
– А вот скажи мне, старец Иоанн, а много ли вотяков в твою веру идут?
Старец удивлённо посмотрел на Гондыра и задумался.
Ему была известна царская политика по привлечению язычников и иноверцев в новую православную церковь с помощью сейчас уже не существующей Новокрещенской конторы, созданной для Крещения и миссионерской деятельности среди народов междуречья Волги и Камы. Он не понаслышке знал, как обещаниями, а порою угрозами завлекали вотяков миссионеры этой конторы – нововеры – в свои церкви, нередко для показного благородства и привлечения других иноверцев, одаривая их подарками и наградами «за восприятие святого крещения».
Старец вспомнил, как они в молодые годы с братьями-иноками беседовали о принудительном крещении иноверцев, а игумен зачитывал им постановление Новокрещенской конторы об освобождении новокрещённых от уплаты податей и несения повинностей на три года и выдачи подарков: «…По кресту медному, что на персях носят, весом каждый по пяти золотников, да по одной рубахе с порты, и по сермяжному кафтану с шапкою и рукавицы, обуви чирики с чулками; а кто познатнее, тем по крещении давать кресты серебряные по 4 золотника, кафтаны из сукон крашенных, какого цвета кто пожелает, ценою по 50 копеек; женскому полу волосники и очесники, по рубахе холщевой, да отделят мужского пола, кои от рождения выше 15 лет по рублю и 50 копеек, а от 10 до 15 лет по рублю, а кои ниже 10 лет тем по 50 копеек, женска пола от 12 лет и выше по рублю, а прочим, кои ниже 12 лет, по 50 копеек; сверх же того, которые св. крещение с женами и детьми примут всею семьёю, давать в домы их по иконе со изображением Спасителева образа, или Богоматери с предвечным младенцем, и о том в жилищах их для ведома публиковать указами».
Встряхнул плечами: «Нет, это не наш путь!» И ответил Гондыру уклончиво:
– Ты знаешь, у каждого из нас: русского, вотяка или татарина – своя дорога к Богу. Тебе же известно, что Алексей Филиппович и я старой веры… Нас разбросало по земле, не много осталось, но мы идём отцовской дорогой и не свернём с неё. С собой мы насильно никого не зовём, но и единоверцев не бросаем в одиночестве, и всех желающих идти вместе с нами принимаем. Вот Дыдык сделала выбор и хочет быть в одной вере с мужем и отцом своих детей, и ты делай свой выбор. Но прежде чем провести крещение, я должен буду научить Дыдык простым молитвам, а ещё как правильно полагать крестное знамение и поклоны, чтобы она могла и сама обучала своих детишек.
Дни занятий старца с Дыдык, Гондырем и детьми прошли, и с вечера Дыдык натопила истопку на берегу Гондырки, обмыла своих ребятишек; там же обмылись все желающие. Утро следующего воскресного дня выдалось ярким, тёплым и радостным: все члены семейства с волнением ожидали начала предстоящего таинства крещения. Алексей Филиппович, лежа на лавке, слушал радостное лепетание младшей дочери Дуняшки:
– Тятя, тятя, а мне сегодня наш дядяй, отче Иоанн, крестик наденет на шею, а Боженька будет защищать меня всегда, пока я этот крестик носить буду.
– Да, Дуняшка, это так. Ты уж постарайся, слушайся старца Иоанна. – Внезапно навернулись слёзы, и он произнёс: – Я с вами, милые мои… Ничего не бойтесь. Жду вас…
Старец Иоанн радовался наступившему дню: «Прав оказался игумен, настояв, чтобы взял я с собой медные нагрудные крестики и несколько рубах для новокрещённых: вот и сгодились!»
И сейчас он достал из котомки чистые белые рубахи и мешочек с крестиками, сидел и прикидывал, а хватит ли их для семьи друга? Посчитал и перекрестился: «Слава Тебе, Господи, всем хватит». Более того, нашёл бронзовую нательную иконку. Подумал: «А дам-ка я её Гондыру в ношение!»
Крещение членов семьи есаула старец Иоанн проводил аккуратно, соблюдая все каноны: первым он крестил Гондыра, следом Дыдык и её детей. Более того, с согласия Дыдык и Алексея Филипповича Гондыр стал крёстным отцом их детей и был безмерно рад этому. А для обряда крещения старец избрал песчаный спуск с берега к воде, течение которой относило все грехи…
На следующее утро старец Иоанн попрощался с Алексеем Филипповичем и в сопровождении Гондыра и сына друга – Алексея – отправился на правобережье реки Буй к её притокам в поисках новых починков, заложенных русскими мужиками.
«…Слава Богу, – думал старец, прижимаясь коленями к тёплым бокам гнедой лошади своего друга и оглядывая сопровождающих, – всё у меня уже получилось: старому товарищу помог и веру нашу усилил…»
Глава 7. Буйская осень
«Время протекло, как вода меж пальцев, и не заметил! – старец Иоанн с радостным удивлением разглядывал незнакомую, набирающую осенние краски местность с густыми лесами и редкими полянами, лесистыми возвышенностями, оврагами и буераками. – Да, воля и красота силы всем придают!» Как только вышли со двора, почувствовал дрожь Гнедого под собой, мускулистое тело которого вдруг напряглось; конь зафыркал, возбуждённо замотал хвостом и головой, выдёргивая уздечку из рук.
Произнёс негромко:
– Радуйся, дружок, если радость пришла! Нечасто она нас посещает!
Всадники вереницей спустились к Буйскому броду, который оказался неглубоким, с лёгкостью миновали его и вскоре вышли на берег небольшой речушки.
– Вот, отче, Альняшка течёт. По ней вверх подниматься будем, а потом налево пойдём к вотякам Шагырским, а с ними рядом и земли русским даны. Хваткие мужики. Давно у них не был: как привёл, так и не был. Но слышал, что много новых людей пришло, – рассказывая, Гондыр придержал коня и, обернувшись, продолжил, – мол, русские уже и избы зачали и много леса навалили и ошкурили для просушки. А к зимовке норы земляные копают, шалаши да срубы ставят. Рассказывают, много гарей зажгли! – отвернулся, поёрзал на подстилке и пятками толкнул коня в бока, – но-о-о, милай!
И тридцати шагов не прошли, как снова повернулся, не вытерпев тишины:
– Отче, как мы и говорили, ты пока на гарях побудешь, а я по вотякам в Шагыре и Гожане пробегусь, поспрашиваю о новых русских… Ежели кому встречались где, то скажут…
– Хорошо, – старец задумался, окунувшись в лесную, солнечную и тёплую благодать; говорить не хотелось. «Красивые места, вольные: земли много пустопорожней пока. Каков простор для добрых людей и для нашей отцовской веры! Не скоро сюда царица руки дотянет!»
Почувствовал взгляд Гондыра и, поняв, что он ждёт от него определённого разговора, спросил:
– А пошто ты Алексея Филиппыча есаулом зовёшь?
– Дак его Дыдык называет есаулом и старый Гондыр звал. И мы все так зовём.
– Вот ведь как бывает: служил батюшке-императору год, а на всю жизнь есаулом остался!
Замолчал, расслабился, вслушиваясь в шорох травы и земли под копытами, в скрип сбруи, но нетерпеливый звонкий голос оторвал:
– Отче Иоанн, а тятя нам мало что рассказывал… Ты мне расскажешь?
– Как-нибудь расскажу, Алексей, дорога у нас длинная.
А Гондыру всё время хотелось поспрашивать священника о Боге, Исусе Христе, о вере, ещё раз услышать о своём новом имени Георгий, которое получил во время крещения, но он мялся, не знал, с чего начать.
Лес отступил от тропы, и всадники оказались рядом со старцем.
– Отче, мне вот кажется, что моя иконка нагрудная так и выворачивается наружу. Боюсь, потеряю… Я могу её снять и за пазухой носить?
Старец заулыбался, поняв, что он не готов ещё всем показывать иконку и заявлять о своём крещении и о новом православном имени: «Как же наивен этот смелый человек! Воистину в сильном теле робкая душа живёт!»
– Конечно. На груди достаточно одного нательного крестика. Ты же видел, как Галина иконку свою в красный угол поставила? А то, что гайтан тебе короткий, это не беда. Главное, чтобы память короткой не оказалась. Крещеный человек должен вести христианскую жизнь: молиться и гордиться своей православной верой, соблюдать заповеди, поститься, бороться с грехами и каяться, исправлять свои пороки и недостатки, встречаться со священниками. А тебе ещё и крёстных деток надо учить, и не только словом, но и личным примером. Ты вот говорил, что кумышку любишь и пиваешь её… А ведь это грех большой. Но ещё больший грех, когда обещаешь, а не выполняешь своё обещание. Помни, что после крещения у тебя началась новая жизнь – жизнь православного христианина. У тебя теперь новое православное имя, и Бог, и Исус Христос, и все святые после крещения знают тебя как Георгия, и ты в молитве к ним обращайся под этим именем. Бери пример со своей сестры, которая сразу же зваться стала не Дыдык, а Галиной.
