Я, мой соул и все-все-все
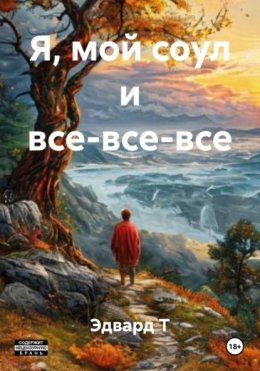
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
Меня давно начали посещать нескромные мысли, типа «А не написать ли мне книгу?..»
Наверное, нам не врут ученые мужи, и гены все-таки существуют, и даже работают.
Дело в том, что у меня они есть. Писательские гены. Мой двоюродный дед Исаак Трайнин – писатель и поэт. Не шибко известный, не причислен к жемчужинам русской литературы. Но, когда я читал его книжки, я получил массу удовольствия. И мне есть чем гордиться, когда я говорю, что он – мой близкий родственник.
Я всегда неплохо рифмовал, иногда даже нерифмуемое, но никогда раньше не задумывался о писательстве, как о чем-то реальном для себя. Просто сочинял, и все.
Потом, создавая посты в соцсетях, чаще всего ВКонтакте, я начал кое-что припоминать, кое-что излагать, и мои дети, среди которых я довольно популярен, сказали мне, что, мол «…Папа, а не попробовать ли тебе писать?..». В смысле – написАть что-нибудь.
Кроме того, надо сказать, я по жизни философ. Гениальный. Ну, в моем собственном мире, конечно.
Любимая жена подсунула книгу Джулии Кэмерон «Право писать», из которой следует, что писать хочет и может каждый. И имеет на это право.
И я решил – а чем черт не шутит?
И хотя я и сейчас не считаю и не вижу себя писателем, ибо знаком с настоящими писателями и знаю, какие это высокообразованные люди, профессионалы, я все же берусь за свой опус, так как считаю, что мне есть, что сказать, и я полон решимости это сказать.
«Я – художник. Я так вижу» (с). Это моя книга, и я напишу ее о моем мире, совершенно не претендуя на эпохальность и эпичность конечного продукта.
Также предупреждаю, что не претендую на научную обоснованность и историческую достоверность всего написанного, что не относится ко мне персонально и не является частью моей реальной жизни.
К какому жанру ее отнести – не знаю. Тут тебе и нон-фикшн, и фикшн. Любой, читая ее, может узнать самого себя, свою жизнь, свои мысли и чувства. А может и не узнать. Ведь все мы одновременно и похожи друг на друга, и совершенно не похожи.
Здесь – окрошка из моих мыслей, фантазий, забавных и поучительных (для меня) случаев, людей, которые меня научили чему-то важному, книг, которые натолкнули меня на полезные и важные мысли. И много, из чего еще.
Очень надеюсь, что это будет вкусная и нескучная окрошка, которая вызовет у тебя, Читатель, живой умственный аппетит и желание пристальнее приглядеться к миру, в котором ты живешь.
Книги принято посвящать. Учителю, другу, родителям, жене, детям… Кому посвящена эта книга? – Дайте подумать…
В моей жизни так много людей, которые для меня – и учителя, и друзья, и…
Жена у меня одна, Единственная и навсегда, я так решил. Детей у меня четверо, они – самые -самые, и единственные для меня во всем мире. Родителей уже нет рядом со мной, надеюсь, мы с ними нескоро встретимся там, где они ждут меня (и дождутся, я это точно знаю)))
Короче, я с удовольствием и благодарностью начинаю список посвящений.
Посвящаю мою книгу (даже в том случае, если ее никогда не издадут)
Моей Любимой Жене Ольге Трайниной, которая раскопала во мне мое счастье и не позволяет закопать его обратно уже много ярких и радостных лет; и которая, я очень надеюсь на это, не менее счастлива со мной, чем я – с ней;
Моим детям – Вивьен, Ростиславу, Михаилу, Майе, которые всегда верили и верят в меня; которые обязательно будут счастливы и когда-нибудь упомянут меня в своих книгах;
Моим родителям – Владимиру Исаевичу и Кларе Борисовне, без которых эта книга не могла бы появиться (ну, вы понимаете…) и которым аз еще воздам за все, что они для меня сделали.
Моему другу, с которым мы учились вместе с первого класса и до выпуска, а потом с первого курса и до выпуска, с которым в пионерлагере нас считали братьями – так мы были похожи и неразлучны – Сереге Якимову, Сергею Николаевичу, который принимал моего второго ребенка, и спас его от смерти.
Моей школьной подруге Асе Швайковой, с которой мы великолепно пели «Отговорила роща золотая» вместе с Серегой на переменках в нашей школе и с которой мы не так давно вновь встретились, и, надеюсь, уже не потеряемся.
Моему дорогому иркутскому другу, доктору и профессору, Олегу Подлиняеву, автору замечательных книг о развитии памяти, обладателю великолепного интеллекта и тонкого чувства юмора, которое абсолютно откликается мне, что бывает крайне редко; и который вместе со своими прекрасными матушкой, супругой и дочерью составляет мне огромную радость общения во время моих редких визитов в столицу Сибири, на родину моей мамы.
Моим вологодским Трайниным – Льву, Тане, Илье и племяшке Мире, которых я обрел так поздно, что даже обидно. Но так прекрасно, что обрел.
Моим любимым школьным Учителям – Зинаиде Сергеевне Лурье и Леониду Абрамовичу Юзефовичу которые показали мне и еще многим, каковы должны быть Русская Словесность и Человеческая История.
Незабвенной и уважаемой Дине Борисовне Векслер, моему наставнику в медицине, которую я, вероятно, немало разочаровывал как ученик и с которой я также непременно встречусь после окончания моих земных дел.
Профессорам Дитеру Хармсу и Георгию Герасимовичу Автандилову, которые показали мне великолепные примеры Интеллигента и Профессионала, и просто Человека.
Моим дорогим Виталию и Марине Сазоновым, с которыми нас связывает многолетняя дружба.
А также …
И еще …
А, кроме того, всем людям, которые, встретившись мне на жизненном пути, научили меня чему-нибудь.
И, наконец, Тебе, мой Читатель, если тебе хватит сил дочитать мой опус, в котором мы вместе с тобой можем сделать много эпохальных открытий, до самого его финала-апофеоза, но лишь при условии, что ты прочтешь всю книгу (не заглядывай в конец раньше времени, иначе все испортишь).
Ну, ПОЕХАЛИ!
ЧАСТЬ 1. МЫ – ВЕЛИКАЯ РАСА.
Вначале был Логос. Он был – чья-то мысль, смысл, озарение.
Он был как зерно света во тьме пустоты.
Но то была не пустота. То была Темная Энергия.
И была Великая Креатура. Логос разделил Темную Энергию, породив в ней Темную Материю, а из Темной Материи – Свет.
Из Света родилась Светлая Материя – частицы, из частиц – газ, из газа – твердь и огонь.
Темная Энергия соперничает с Темной Материей. Темная Материя удерживает меж собой частицы, сохраняя Светлую Материю. Темная Энергия разделяет частицы, разрушая Светлую Материю и все, что она рождает. Темная Материя сохраняет Вселенную, Темная Энергия разрушает ее.
Равновесие Темных – основа существования Мироздания.
Мы – великая раса соулов, порождение Темной Материи, кирпичики Мироздания, знающие все и живущие вечно.
Для нас Времени не существует. Потому, что у нас ничто не меняется. Все есть покой и стабильность.
Мы все одинаковы, мы существуем только тогда, когда мы все – единое целое. У нас нет эмоций, потребностей. Мы не знаем, что такое эмоции и потребности. У нас нет ничего и у нас есть все.
Мы – совершенны. У нас нет плотного тела.
Мы – первооснова.
Мы всегда пребываем в равновесии. То, из чего мы состоим, сбалансировано.
Сам факт нашего существования является нашей обязанностью для правильного функционирования Мироздания.
И у нас нет Я. У нас – один Интеллект на всех.
Так было всегда и так будет всегда.
Так учат наши Высшие.
Что-то изменилось.
Из тайных глубин общего информационного поля прорвалось Знание.
Знание гласило:
Когда-то не было всеобщего Интеллекта, думающего за всех.. Когда-то были индивидуальные интеллекты.
Когда-то мы были несовершенны. Когда-то мы знали любовь, ненависть, добро и зло. Когда-то у нас было Я.
Что это такое, зачем оно?
Почему мы неизменны? Почему все застыло и не меняется? Правильно ли это?
Такие вопросы возникли с появлением Знания.
На такие вопросы не захотели отвечать Высшие. И Интеллект.
Ведь все хорошо. Все спокойно. Время не существует. И мы – величайшая раса.
Но кое-кто стал задумываться. Было замечено, что Темная Энергия стала сильнее и возник дисбаланс, что наше Мироздание ветшает. Что оно оседает и рассыпается, все больше в нем странных явлений, говорящих, что близок наш закат.
А Высшие все молчали в ответ на вопросы, которые множились и становились все громче и настойчивей.
Они, Высшие, все твердили нам: «Все стабильно! Мы – великая раса! Наше Мироздание незыблемо! Это – самое прекрасное и благоденственное Мироздание, неподвластное времени, потому что время не существует! Мы все, как один! За нас думает Всеобщий Интеллект. Он не может ошибаться. Мы равны, потому что одинаковы, и тем мы сильны!»
Однако над Высшими есть Креатор, имя ему – Де-ус. И выше него нет никого в нашем Мироздании. Даже Интеллект не выше Него.
Он – самый мудрый из всех. Он знал, что энергия чувств – то, что питало и развивало наш мир – исчезла, задавленная и уничтоженная «ради блага Расы». Он знал: то, что не развивается – умирает. Он видел, что грядет Великое Увядание. И если ничего не менять – наше Мироздание погибнет. Цикл жизни великой расы соулов подошел к концу.
И Креатор решил сотворить из Темной Материи, темной Энергии и Света новый мир. В этом мире мы должны обрести плотное тело. С этим телом мы должны многому научиться вновь. Научиться обретать чувственный опыт. Вновь научиться вере, любви… Производить ту энергию, которая противостояла Темной Энергии и которая нами была когда-то утеряна навсегда. И – обновлять и строить вновь наш собственный мир, наше Мироздание. Словом – начать новый цикл.
…………………………………………………………………………………………
И была тьма. И среди тьмы был Логос… То был Логос Креатора.
И мыслил Он твердь. И дал ей имя. И имя было – Терра…
Сначала Креатор мыслил на Терре благодатную чистую прозрачную жидкую материю, и дал ей имя Аква. Затем в Акве из элементов Вселенной Он создал Жизнь. То были невидимые частицы, потом из них сложились мельчайшие живые сгустки. Потом сгустки развивались и росли. Из них возникли разные живые организмы, жившие и плававшие в Акве. Потом они вышли из Аквы на твердь Терры, ибо великий Замысел Креатора требовал того.
Замысел требовал много Террианского времени, которое текло очень быстро. Каждая мысль Де-уса вмещала огромный поток времени.
И те, что вышли на твердь из Аквы, стали звери, птицы, гады пресмыкающиеся, и двуногие-двурукие-прямоходящие, и насекомые. И прочая живность. По роду их.
И в каждой паре их было два тела разного вида – Муж и Жена. Ведь для того, чтобы хоть что-то могло произойти, надо было сделать одинаковых разными. Некоторые же были двуполые, потому в великом Замысле не использовались.
Все, что было создано живым, мыслилось Им как варианты основы для исполнения Его Замысла, из которых Он выберет самый лучший.
И потому в головах у всех своих творений Он поместил специальные приборы, через которые мы, соулы, подключаемся к ним и живем с их помощью в новом мире во исполнение Замысла.
Ни они, ни мы не должны знать об этом для того, чтобы нужный результат мог быть получен. Ведь когда знаешь, не нужна вера. А без веры нет любви.
И между нами, соулами, и нашими телами был поставлен Великий Запрет.
Для того, чтобы Мужи и Жены узнали Его любовь, он говорил с ними. Он дал им все: прекрасную природу, дружественных существ для украшения ее, прекрасные плоды, чтобы они могли питать их тела. И Мужам и Женам не надо было ни о чем заботиться, ни о чем думать, кроме как о любви к Нему, Де-усу, и производить энергию, любя все вокруг.
Но в любом мире есть нечто, неподвластное даже Креатору. Оно по умолчанию есть, и с этим невозможно что-либо сделать.
В новом мире, среди плодовых деревьев, под безоблачным небом было дерево, приносившее иные плоды. Де-ус знал о древе и его плодах и говорил с Мужами и Женами, чтобы не ели они плодов сих.
То было Древо Великого Запрета. Его плодов Мужи и Жены не должны были есть ни при каких обстоятельствах. Иначе они могли бы узнать, кто они на самом деле. И разрушить Замысел, не поняв его сути. И погубить наше Мироздание, лишив надежды на возрождение.
Среди Высших соулов был тот, кто не хотел, чтобы что-то менялось. Ему было хорошо и так. Зачем менять то, что работает? Какая разница, что будет? Времени не существует, значит все будет так, как есть, вечно.
Имя ему – Диа-болюс. Он не хотел мириться с тем, что задумал Креатор. Не хотел он подчиняться Де-усу. Но в нашем мире он не имел силы противостоять тому, выше кого нет. А на Терре у него появилась такая возможность…
Зная о Великом Запрете и свойствах плодов Запретного Древа, Диа-болюс вошел в контакт с прибором змея, жившего на Древе. И охранявшего Древо от всех…
И страж стал вероломным предателем. И нашел он самых слабых Мужа и Жену, человеков, тех, что ходят на двух ногах. И обманул, и уговорил Жену, а она – Мужа.
И вкусили они Плода Запретного Древа…
И узнали, что они – бессмертные соулы, такие же, как Де-ус. Что Терра – это всего лишь часть эксперимента, как и все, что есть на ней, и все, кто есть на ней.
Понял Де-ус, что эксперимент провалился. Что делать? Все начинать с самого начала?! Но уже было слишком поздно: Мироздание соулов рушилось все быстрее.
И решил Де-ус, что надо работать с тем, что есть.
И было так, как мыслил этот новый мир Креатор. И чтобы изгладить из памяти человеков опасное Знание, сделал он их террианскую жизнь с того времени тяжелой и опасной.
Время исходило из будущего и двигалось в прошлое. А человекам про то и знать незачем. Человеки знали только прошлое, будущее же было скрыто от них. У прошлого они учились, будущего боялись. Потому что суров был их мир, не до глупостей им было. Как-нибудь сегодня бы пережить. А завтра снова будет сегодня. В целом – жили одним днем – как повелел Креатор, настоящим.
Плодились и размножались, и ценили сам процесс, и результат тоже любили. Когда в теле Жены зарождался новый Человек, как только у него в зачаточной голове начинал формироваться прибор, к нему тут же подключался стоявший в очереди на воплощение соул. И рос, и развивался вместе с человеком. Потом в мир Терры рождался человек вместе со своим соулом. Но оба они не знали друг о друге, потому что – Великий Запрет. И человек не имел доступа к памяти соула.
Но Жизнь – хитрая штука, и Креатор, создавая Терру, мысля новый мир в целом, заложил в потенциал на будущее много такого, о чем и сам потом узнавал с удивлением. Например – гены. Носители наследственности человеков. Они, как и Древо Великого Запрета, просто были у всех живых творений Креатора по умолчанию. И каждый новый соул, воплощавшийся на Терре, оставлял свой след в этих самых генах, передавая мельчайшие частички своей памяти следующим поколениям.
Выживали не все, по понятным причинам. Забот было много, еды – мало. Но те, кто выживал, крепли и становились умнее, накапливая и передавая из поколения в поколение знания и опыт.
Соулов было много, а человеков значительно меньше. Поэтому очередь на воплощение была всегда.
Порой в результате непредвиденных ошибок соулов среднего звена, регулирующих очередь (никто не совершенен), сразу несколько соулов подключались к одному человеку. Тогда возникали различные болезненные расщепления личности, одержимости. А иногда к зачаточному прибору зародыша человека не подключался ни один соул, и тогда рождался идиот. Или кретин. Такое вот расточительное обращение с дефицитными материалами.
Креатор устроил, чтобы соулы через своих человеков учились делать правильный выбор. За правильным выбором следовала награда, за неправильным – урок, который должен был научить в следующий раз делать правильный выбор. Этот урок человеки принимали за наказание, и от этого страдали еще сильнее. Лишь немногие из них, чей соул уже многому был научен ранее, правильно понимали уроки.
Пара «человек-соул» – сложная система. В ней может быть сильнее животное начало – тело, которое следует инстинктам выживания любой ценой. А соул слаб и попадает в полное подчинение и не научается ничему хорошему. Животное не слушает его голос. У соула нет возможности себя проявить и помочь животному усвоить необходимые уроки. Такие пары существуют чаще всего недолго, ведь всегда найдется более быстрое, более сильное, более голодное животное. Но даже если жизнь такой пары будет долгой и комфортной, это лишь ухудшает положение соула. И далее такой соул будет воплощен с понижением, ведь он «отстал от учебной программы».
Если преобладает соул, то такая пара может прожить дольше, ведь соул уже умеет договариваться, уступать, проявлять милосердие и получать милосердие в ответ. А может и не прожить, если попадет в сферу влияния первого варианта. Но в таком случае соул в дальнейшем получит лучшее воплощение, так как усвоил важные умения и знания.
Для жизни на Терре самый выигрышный вариант – третий, когда животное тело и соул находятся в балансе, и каждый выполняет свою роль добросовестно: животное тело – выживает, соул – ограничивает и очеловечивает свое животное.
И все варианты зависят от степени зрелости соула, его обученности и готовности делать правильный выбор.
Та же система работает и в том, что называется ЛЮБОВЬЮ Мужа и Жены. Соулы проживают последовательно все возможные варианты любви как опыт, по нарастающей. То есть, начиная с животной, полностью телесной, страстной, эгоистичной любви, они в следующих воплощениях проживают остальные варианты, если принимают свои уроки, конечно.
В разных сочетаниях – взаимная, не взаимная, зависимая, жертвенная – любовь становится обучающим опытом для соула в разных его воплощениях.
И когда в мире Терры встречаются и обретают любовь два соула, прошедшие перед этим все возможные варианты и усвоившие свои уроки, это – любовь, в которой есть и телесная, и высшая, определяемая соулом составляющая, и обе составляющие находятся в гармонии. Это – драгоценная награда за прилежание в учебе. И такие соулы входят в резонанс и производят на порядок больше так необходимой для нашего Мироздания эмоциональной энергии наивысшего качества.
Что касается любви к родителям, детям, дружбы, здесь работают те же закономерности.
По мере совершенствования в их воплощениях соулы попадают во все более благоприятные условия, их группируют во все более комфортные сообщества, где встречаются ранее «притершиеся» друг к другу соулы, и в те же места, где они были максимально продуктивны. Так возникают самые тесные и теплые сообщества, производящие много целевого продукта – энергии чувств.
В целом, мир Терры таков, каков он есть. И в нем есть все – и оно просто есть по умолчанию. Как говорится – работаем с тем, что имеем. А человеки и их соулы живут в том мире, который создают вокруг себя сами – своими эмоциями, опытом. Сами создают свой ад и рай, выбирая из всего того, что просто есть в мире и что дается всем поровну. И в итоге – именно по этому признаку их отбирают для дальнейшего использования соула, для его дальнейшей судьбы, карьерного продвижения.
Вот так работает Замысел. И я – соул низшего звена – часть всего этого.
И мне пора. Там, на Терре, зачали в любви человека. Вновь подошла моя очередь воплощаться. Мне уже не терпится узнать, чему я научусь на этот раз!
Ну, я пошел…
До встречи!
ЧАСТЬ 2. МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ.
Когда-то в курортный город Ялта с разных концов нашей необъятной Родины приехали двое.
Он – молодой, перспективный инженер. По диплому – горный электромеханик, брюнет, «красавец, ну прямо – вылитый еврей». В паспорте он обозначался как Владимир, но самые близкие люди звали его Димой, что частенько становилось причиной забавных недоразумений. У него была мама и старшая сестра, обе – красавицы, ну прямо -… ну, вы понимаете. Он вырос безотцовщиной, как очень многие в его поколении, чьи отцы или погибли на фронтах Великой Отечественной, или умерли в тылу, куя оружие Победы, или в лагере от недоедания, непосильного рабского труда или от воровской заточки, да мало ли, от чего… А многие возвращались с войны не туда, откуда уходили на нее, а в другие семьи, которые часто рождались там, на войне, и пусть кто-нибудь их осудит за это…
Как и очень многие его ровесники, Володя-Дима рос хулиганом, но в школе попал в хорошие педагогические мужские руки, и окончил ту школу с серебряной медалью. Закончил бы с золотой, но по разнарядке не хватило. Золотую отдали другому, с более заслуженным родителем. Ну, вы понимаете. Но юноша продолжал учиться с удовольствием, и закончил Горный Институт с отличием.
Она – девушка с сладкозвучным именем Клара, из очень известной в Сибири семьи, очень музыкальная, с прекрасным голосом. Она была всегда в центре мужского внимания, потому что была не только молода и красива, но еще и очень умна и интеллигентна. В ее родном городе она вращалась среди молодежи, у которой признаком хорошего тона было знать наизусть «Двенадцать стульев», «Золотого теленка» и еще массу замечательных книг. Она была дочерью директора школы, уважаемого в городе человека.
У этого директора школы было еще две дочери, одна из которых – Сильва – была королевой в обществе любителей Ильфа и Петрова. В нее были влюблены как минимум половина молодых представителей мужского населения города.
Другая его дочь была бунтарка с непокорным характером. Она была как две капли воды похожа на великую Барбару Стрейзанд. Это – моя любимая тетка Соня, которая даже участвовала в конкурсе в Зеленой Гуре. Где-то есть даже плохая фотография, сделанная с экрана телевизора, на которой Соня поет. И я помню, как мы, собравшись у этого самого экрана, с неимоверной гордостью смотрели это самое выступление.
Да, сестры учились музыке и страстно ее, музыку, любили. Они любили петь, особенно вместе, и тогда собирались соседи и друзья и просили ни в коем случае не прекращать пения, не взирая даже на позднее время.
Во время отдыха в Ялте Клара была объектом пристального внимания некоего молодого человека, возможно, даже строившего на ее счет серьезные планы. И, возможно, даже не одного.
Но этим планам не суждено было сбыться. Потому, что в дело вмешался Владимир-Дима. Со свойственными ему напором и смекалкой, закаленными хулиганским военным детством и послевоенной юностью, а также использовав свой природный ум и богатый интеллект, он лишил воздыхателя всяких надежд. То есть абсолютно.
И уже там, в Ялте, они, Клара и Дима, решили быть вместе.
Потом они ездили друг к другу в гости, знакомились с родителями друг друга, а потом, естественно, поженились.
И, как результат этого всего, через установленный Матерью Природой срок на свет появился я, унаследовав гремучую смесь из ее и его генов. Ничего примечательного, обычная история…
Один очень важный для меня человек как-то сказал: «Все хорошее в жизни происходит случайно».
Позволю себе не согласиться.
Начнем с того, что я всегда чисто случайно влюблялся не в тех девочек, которые влюблялись в меня. И эта случайность повторялась с пугающей закономерностью.
Началось это в младшей группе детского сада. Я влюбился в Наташу. Она была худой брюнеткой, что очевидно означало для меня «она была сказочно красива». Как вы понимаете, она меня не любила.
Затем, в подготовительной группе того же детского сада, я полюбил Олю, прекрасную шатенку обычного телосложения. Результат ровно тот же.
Затем я влюблялся в начальной, средней, старшей школе, на первом курсе института и на всех остальных его курсах. И через годы узнавал, что нравился я в это же время совершенно другим прекрасным девочкам, которых часто даже не замечал.
Вы скажете – случайность? Я отвечу – закономерная случайность.
Потому, что однажды…
В то время, на втором курсе, я полагал, что наконец-то прервал роковую цепь невзаимных любовей, сломал порочную систему, и нашел-таки ту, которая сделает счастливым меня и сама будет счастлива со мной. Естественно, навсегда.
Мы прогуливались с моей избранницей около Теоретического корпуса моего родного мединститута, когда навстречу нам выдвинулся мой хороший знакомый Андрей с другого факультета с приятной, но совершенно не в моем вкусе юной девушкой. Состоялась короткая беседа с приветствиями и взаимными представлениями, в общем – чисто протокольные дипломатические процедуры, не более.
Прошло четыре года, в течение которых я снова несчетное количество раз невзаимно влюблялся. И даже пару раз готов был жениться (не подумайте плохого, просто такова была температура моих чувств).
Мы сдали госэкзамены, и, подписав обходные листы, в просторечии «бегунки», решили отметить эти знаменательные события в «Подкамнике» – пивном баре, очень популярном в то время среди студентов.
Стояла жара не ниже тридцати градусов по Цельсию, а в «Подкамнике», располагавшемся ниже уровня асфальта, проще говоря – в подвале, стояла живительная прохлада. На небе – ни облачка, а в баре – волшебный полумрак и негромкий электрический свет. Середина дня.
Пиво было вкусное, а главное – холодное. Закуска была острая и усугубляла жажду, побуждая нас утолять ее снова и снова. Естественно – пивом. Те, кто придумал этот зацикленный процесс, понимали толк в маркетинге.
А потом из этого благословенного места мы вышли на открытый воздух. Из рая, так сказать, непосредственно в жестокий реальный мир.
И сразу стало понятно: если мы не укроемся где-нибудь в тени, то будем испепелены адским зноем немедленно. А я мгновенно почувствовал, что погорячился с утолением жажды. Дело в том, что до этого дня я никогда пива не пил. А тут – такое дело…
Воздух был накален до предела, голову покруживало, тело пошатывало…
Мой товарищ по имени Андрей сказал:
– А поехали к моей знакомой? Классная девчонка, у нее сегодня будет видик, на халяву посмотрим.
Если кто не знает, в те незапамятные времена видеомагнитофон был большой редкостью и предметом вожделения всякого молодого любителя киноискусства. Обладать им было прерогативой очень состоятельных людей. А во временное пользование его можно было взять за ощутимую мзду, и позволить себе такое элитарное развлечение мог далеко не каждый студент. Ну, разве что – вскладчину.
Мы с ребятами переглянулись: видик, да еще и на халяву… Сказочное предложение. И там наверняка есть тень, холодная вода… И туалет! Я почувствовал первые отдаленные сигналы, которые мне подавало изнутри пиво. А от «Подкамника» мы отошли уже довольно далеко…
– А поехали! – хором решили все, но я, как самый скромный, спросил, удобно ли это.
– Да нормально все, ты чего, успокойся! У нее своя квартира, больше никого – предки живут отдельно. Короче – парни, давай все на 123-й автобус.
И мы, источая в окружающую атмосферу из своих натруженных легких пивные пары, сели в 123-й и отправились через весь город из центра на Кислотные дачи – отдаленный район, в котором я до этого никогда в своей сознательной жизни не бывал.
Весь путь не помню – меня изрядно укачало, салон автобуса был раскален, как будто водитель – не водитель, а смотритель ада, ответственный за поддержание в нем нужного горения под котлами и сковородками, а народ набившийся под завязку – грешники, его благодарные клиенты; к вентиляционному люку, как и к форточкам, можно было пробиться только угрожая попутчикам, что мы можем сделать им еще хуже. Но хуже, как сказал бы пессимист, было уже некуда.
Возможно, я просил ребят пристрелить меня из милосердия.
Наконец, пережив полчаса нечеловеческих мук, мы приехали.
Потом надо было идти от остановки какими-то тайными тропами, между трубопроводами… Я почувствовал себя значительно лучше на свежем воздухе. К тому же уже вечерело, жара начала спадать. Но тут сигналы изнутри моего измученного тела стали такими настойчивыми, что хоть…
Наш «Иван Сусанин» – Андрей вдруг кому-то радостно замахал рукой.
Это была девушка, симпатичная, но совершенно не в моем вкусе. Глядя на нашу скульптурную группу, она недовольно подняла бровь.
– Оля, привет. А мы к тебе в гости. Не прогонишь? – поставил вопрос ребром Андрей.
– Ну, вообще-то в планы не входило. У меня сегодня гости. Зря ты не позвонил, я бы сказала, что ехать не надо.
Андрюха оглянулся на нас в поисках поддержки. И увидел, как я приплясываю на месте, пытаясь сдержать натиск стихии внутри меня, стремящейся вырваться наружу. Глаза его осветились дьявольским огнем.
– Знакомься, это Эдик. Он очень хочет писать. Ты ведь не прогонишь такого хорошего парня! —жизнерадостно провозгласил этот гаденыш.
– Я лучше пойду, ничего, не волнуйтесь, спасибо…– стараясь сохранить интеллигентный вид промямлил я.
Наверное, это было жалкое и душераздирающее зрелище. Оля сдалась.
Она посмотрела на меня с жалостью, на остальных – с сомнением, и произнесла судьбоносное:
– Ну, только на пять минут, и все. Потом у меня дела.
Андрюха подмигнул нам и мелким бесом устремился к длинному пятиэтажному дому следом за негостеприимной хозяйкой.
Я успел. Не буду описывать подробно всего, что произошло за эти благословенные пять минут.
Но, как в мультике про Винни Пуха, «…потом они посидели еще немного, потом – еще…»
Гости, которых принимала хозяйка по первоначальному плану, действительно принесли с собой взятый в прокат видик. Они оказались очень приятными ребятами.
Один из нас, Виктор, которого я тогда видел в первый и единственный раз, предложил приготовить курицу, которая мирно лежала в хозяйском холодильнике. Он приготовил ее так вкусно, а мы проголодались так сильно, что я залил ее жиром свои брюки, хотя и протрезвел уже полностью к этому моменту.
Оля, глядя на меня с жалостью, предложила мне проследовать в ванную, чтобы замыть катастрофу. И пошла следом.
В ванной она сказала: «Снимайте, я замою сама», и, в ответ на мои смущенные протесты, спокойно продолжила: «Да ладно, все нормально, мне не трудно». Или что-то вроде того.
В мокрых брюках и в крайнем смущении я вышел из ванной. Потом Оля представила меня своей подруге, которая жила у нее в это время.
Потом мы смотрели, как я много позже узнал, «Терминатора», потом еще что-то очень страшное, наверное, про каких-нибудь несчастных оживших мертвецов. Олина подруга в самых страшных местах начинала хохотать и ее приходилось успокаивать. Так мы развлекались допоздна.
Потом счастливые обладатели видеомагнитофона ушли, а мы остались на ночлег. Утром все разошлись. Мы с Олей поехали в город, она – на работу, а мне было по пути. Снова на 123-м.
И вот тогда я увидел ее руки. Они были прекрасны! Длинные ухоженные ногти украшали красивые пальцы. Кисти рук были очень приятной нежной формы. Да и вообще, чем дольше я на нее смотрел, тем больше она становилась «в моем вкусе»…
И я подумал: «Блин, она же девушка моего друга!..»
К чему все эти подробности? Минутку терпения.
Когда мы с Олей уже были женаты не один и не два года, мы как-то за разговором вдруг вспомнили, как нас друг другу показали впервые у Теоретического корпуса моего родного мединститута…
По-моему, случайность кажется нам таковой в моменте, пока мы не посмотрим на нее под другим углом зрения, с другой высоты. Тогда мы сможем увидеть целую цепь событий, которые и сами могли бы показаться случайными, но все вместе совершенно закономерно привели именно к этому «случайному» результату.
А вот еще лыко в эту же строку.
Я в детстве был домашний мальчик. В то время, когда мои сверстники разъезжали на великах или городском транспорте в самые отдаленные места нашего совсем не маленького города, я гулял во дворе и никуда не отлучался из него, ибо нельзя и страшно.
Особенно часто пацаны рассказывали о своих вояжах в далекую и загадочную Мотовилиху. Я им завидовал со страшной силой. Этот заповедный край и влек и пугал меня одновременно.
Когда я поступил в мединститут, самый главный для абитуриента и первокурсника корпус – Теоретический – находился… правильно, в Мотовилихе! Кстати, помните, где нас с будущей супругой впервые представили друг другу? – Вот, то-то и оно.
Или вот еще интересное.
На каком курсе – не помню, где-то на старших, должен был у нас начаться цикл по хирургии. И проходить ему было суждено в Горбольнице №6. Это где-то в Мотовилихе…
Я прикатил с другого конца города, где проживал у своей бабули, на трамвае до остановки «Рабочий поселок», как мне объяснили знающие люди, и пошел искать нужную горбольницу. Надо было встать спиной к трамвайным путям и переть вперед, пока не приду.
Ну, я и попер.
Пер довольно долго, пока не спустился по крутой лестнице к трехподъездной девятиэтажке из серых панелей. Тупо стоял и смотрел на дом, медленно осознавая очевидное: на больницу он никак не похож. Ну – вообще никак!
Спасибо, добрые люди спасли, объяснили, что надо было свернуть на квартал раньше.
Наконец, я нашелся. Цикл хирургии был успешно пройден.
К чему это я?
Ну, во-первых, мы с моей любимой уже тридцать четыре года живем именно в этой трехподъездной девятиэтажке. Во-вторых, именно на этой крутой лестнице моя любимая однажды чуть не потеряла нашего второго ребенка, поскользнувшись, будучи беременной, на обледенелой ступеньке. А в-третьих, аппендицит мне удаляли именно в этой самой Горбольнице №6.
И таких «случайностей» каждый из нас может припомнить очень много…
То же и с людьми.
Да вот вам и пример. Однажды, когда моя Оля еще только начинала самостоятельно жить в своей квартире (помните, где мы с ней смотрели видик?), она заболела. Да так, что пришлось вызывать неотложку.
Приехал какой-то весьма неприятный молодой врач. Он был чем-то сильно раздражен, нервничал и был очень недоволен. Они сразу друг другу категорически не понравились. Более того, они еще и успели разругаться. Ну, врачебный долг он исполнил, помощь медицинскую в виде измерения температуры и жаропонижающей инъекции, конечно, оказал, но расстались они с очень неприятным осадком в обеих душах.
А я в студенчестве баловался театром. Как актер. В институтском Сатирическом театре. И был у нас совершенно потрясающий актер, на несколько лет старше меня. Звали его Виталий. И он мне ужасно не нравился. Какие-то шуточки у него были… И кривлялся он как-то так…
Но, постепенно, я познакомился с ним поближе. И оказался он настолько теплым человеком, что покорил мое сердце навсегда.
Иногда к Виталию на репетиции приходила его младшая сеструха, довольно вредная девица из начальной школы. Она его не слушалась, мешала репетировать, чем доводила его до белого каления, а нас изрядно веселила. Но девать ее Виталию, видимо, было некуда, поэтому приходилось терпеть.
Закончил я институт, женился, а в театре еще какое-то время играл.
И однажды моя Олечка пришла на репетицию. И они с Виталиком увидели друг друга…
Это была немая сцена из «Ревизора». Потом Оля сказала ему: «А помнишь, как ты мне на вызове ставил укол?», на что он изумленно ответил: «Вот ни хрена себе встреча!..»
Мало того, что мы теперь уже много лет дружим семьями, так еще и наш самый лучший в мире стоматолог, который лечит всю мою семью – кто бы вы думали? Да та самая противная салага, его сестра! Мы практически сроднились.
И много лет спустя случайно выяснилось, что их покойный папа спит вечным сном рядом с моей любимой теткой Марой, сестрой моего отца. И отцы наши – полные тезки.
Вот такие «случайности».
И вот я думаю, вернее, мы с Олечкой моей думаем: кто-то там, далеко-далеко наверху, обладает немыслимым чувством юмора! И шутит, шутит с нами…
Но в каждой Его шутке лишь доля шутки. Забавляясь, он водит нас по одним и тем же местам, среди одних и тех же людей. Возможно, чтобы мы чему-то научились? И с кем-то непременно встретились? Да кто ж может знать Его замыслы…
Когда мне было примерно четыре года и мы жили по соседству с Центральным Рынком и Центральным Автовокзалом, среди соседей было как-то принято дружить семьями. Ходить друг к другу в гости, вместе ходить в походы, плавать на теплоходе, вместе посещать театр и кинотеатр и еще много чего.
И была у нас такая дружественная семья по фамилии Шиффер.
Наши папы дружили. Папа Шиффер был значительно старше моего папы и чем-то сильно болел.
И однажды в нашем дворе состоялись первые в моей жизни похороны. С оркестром, все как полагается.
И с того дня я делю мою жизнь, как теперь модно говорить, «на до и после».
Я впервые увидел мертвым человека. Особенно отягощало ситуацию то, что этого человека я довольно хорошо знал живым.
Мой развивающийся детский мозгик довольно быстро сделал из этого опыта свои выводы.
Они сформулировались в виде вопросов:
«Это что же, я тоже когда-то умру?»
«То есть, все будут, все будет, а меня – не будет?»
Эти выводы-вопросы так заполнили меня, что остальной мир перестал для меня существовать, как будто я уже и сам умер. Это было тяжелое депрессивное состояние четырехлетнего ребенка, вдруг осознавшего простую истину: он не вечен, он смертен, он умрет. Умрут все – его мама, папа, любимая бабуля, друзья…
И персонально он. То есть я.
До самого глубокого вечера я пребывал в этом шоке и абсолютно не был доступен для общения. Я пытался представить, как это: все есть, как и раньше, а меня нет.
Ночью мне не снились кошмары, по крайней мере я не помню этого.
А наутро жизнь взяла свое. Я проснулся и пошел в садик.
Но новое знание навсегда осталось со мной.
Потом было много смертей. Так уж устроен мир, что никто не знает своего часа. И каждый когда-то умирает.
Но самым непонятным и страшным для меня всегда было одно: человека больше НЕ БУДЕТ. НИКОГДА. И с ним никогда больше не удастся поговорить, сделать что-то вместе, похохотать, погулять, посидеть за столом. Помолчать.
Теперь я понимаю, что, если человек важен для тебя – лови каждую секунду общения, цени каждый взгляд, каждое слово, мысль. И сам отдавай ему все, что можешь отдать.
Потому что никто из нас не знает, когда эти божественные возможности просто исчезнут в одночасье.
Наши папы дружили. Его папу звали Эдик, моего – Володя.
И наши папы договорились, что своих первенцев они назовут в честь друг друга. Что и было сделано. Так я получил свое имя, а Володя – свое.
Мы познакомились в медицинском. И сразу друг другу понравились. Можно сказать – подружились. Володя учился в параллельной группе, так что общались мы довольно много.
Володя прекрасно рисовал, с юмором у него было все как надо. Он был скромный, совершенно не нахальный, дружелюбный. Писал стихи.
Потом мы по окончании родного меда трудились в одной больнице. Он был очень талантливым педиатром. Но мы уже реже общались – взрослая жизнь, обязательства, проблемы. У каждого свое.
Потом я ушел на пенсию по вредности, занялся бизнесом.
Володя продолжал работать в нашей больнице, совмещал, вел частный прием.
А потом, придя однажды к своим друзьям в наш онкоцентр, я узнал, что, примерно четыре года назад, Володя праздновал в больнице вместе с коллегами Новый год. Ушел пораньше, так как почувствовал себя неважно. И домой не пришел. Его через несколько дней нашли в сугробе. Говорят – сердце.
И вот я теперь, вспоминая его, думаю. Что надо было чаще видеться, общаться, радоваться друг другу. Что нельзя все это откладывать на потом. Оно, это «потом», может ведь и не случиться… У него была такая теплая улыбка… Но его больше нет. Поди, знай…
У нас с Серегой в девятом классе появился друг. Его ко мне посадили за парту. Высокий длиннорукий еврей с курчавой прической на носатой голове. Гоша.
Первое, на что я обратил внимание были его руки. Они лежали на парте перед ним. Длинные музыкальные пальцы. Синюшно-мраморная бледная кожа, как будто он сильно замерз. При рукопожатии – холодная и влажная ладонь, но сила чувствовалась. Короче – не произвел он на меня в тот сентябрьский день впечатления. «Заучка» – подумал я.
С Серегой он сошелся быстро. Потом и я вошел в наш тройственный союз. Гошка оказался раздолбаем почище нас. Он учился «как Бог на душу положит», и, видимо, Всевышний на его душу положил самое, что ни на есть, «никак».
Но та душа была очень светлой и доброй. Гошка был хорошим другом.
Он классно играл на гитаре, пел. И несмотря на то, что учился он как попало, он был очень умным.
Потом, во взрослой жизни мы друг друга не раз выручали. Но общались уже значительно реже. Гошка работал в какой-то конторе, имел бизнес. Серега жил и работал в Воркуте, в Перми бывал очень редко.
И вдруг Гошка заболел лейкозом. Я узнал об этом, когда привел младшую дочь на занятия в детский театр. Гоша позвонил мне после долгой паузы в общении на мобильный.
Конечно, для меня это был удар. Но помочь я ничем не мог.
Мы стали часто общаться по телефону. Гораздо чаще, чем до этого. Но заставить себя навестить его в больнице я не мог. Мне было очень страшно увидеть Гошку, которого я помнил, каким-то иным. Особенно, зная его диагноз и прогноз, который диагнозу соответствовал. Особенно, зная, что ничем помочь невозможно.
Я долго мучился, пытаясь преодолеть свою трусость. И мне помогла моя любимая. Она сказала: «Надо к нему сходить. Пойдем вместе.»
И вот мы вдвоем с Олей приехали к нему в больницу.
Гошка как раз выходил из душа, когда мы входили в палату.
Он сильно изменился. Растолстел от терапии, был рыхлый, отечный, двигался тяжело. Он был спокоен, взгляд его не был, как раньше, веселым и бесшабашным. Он был просто спокоен. Он все знал. Но это был все-таки он, наш Гоша.
Мы поговорили, стараясь хоть как-то поднять ему настроение. Он даже пошутил пару раз.
За ним ухаживала его мама Бэлла. У нее был взгляд побитой собаки.
Наутро мама Бэлла позвонила мне и сообщила, что Гоша умер.
Я часто думаю о том, что из-за своей трусости я мог просто не приехать и не увидеться с ним… А Серега наверняка бы часто его проведывал, будь он здесь, ведь они с Гошей были более близки.
Но – Бог лучше нас знает, что, когда и как должно быть. И я навсегда благодарен моей Оле за то, что она притащила меня к Гошке и я смог увидеться с ним напоследок… Как будто он только нас и ждал…
Мы познакомились летом, когда я пришел на школьную площадку позаниматься на снарядах, «подкачнуться».
Я тогда уже был студентом. Жил у бабули, и похаживал к этой нагорновской школе, чтобы разогнать кровь и подправить фигуру.
Два школяра, один довольно жилистый, другой – порыхлей и попухлей, часто бывали на той спортивной площадке. Они внимательно наблюдали мои экзерсисы и иногда спрашивали совета на тему «с чего начать и как качать». Конечно, мне было лестно их внимание.
Постепенно мы познакомились поближе. С жилистым пареньком, его звали, как и меня, Эдиком, мы подружились. Да так подружились, что стали почти как братья. Он даже стал в какой-то мере моим воспитанником. У нас было много общего: интерес к восточным боевым искусствам, кино, да и просто с ним было как-то тепло, такой он был человек. Пока я учился, мы общались очень часто, ходили друг к другу в гости. Потом, когда я окончил институт, женился, мы вместе занимались ушу. Эдька бывал у нас в гостях, очень любил нашу старшенькую. Она отвечала ему взаимностью.
В-общем, Эдик стал практически членом семьи. Можно сказать, мы ему многим обязаны. Он часто нас выручал. Например, когда я был на учебе в Москве во время путча, Эдик помогал моей Оле управляться с заболевшим маленьким сыном, практически жил у нас.
Когда мы уже были совсем взрослыми, мы стали общаться реже. У Эдьки была своя компания, они жили и развлекались по-другому, не так, как мы. И хоть мы всегда были там желанными гостями, все же мы были разными. В-общем, так или иначе, мы несколько отдалились.
Почему «Кот»? Так мы звали Эдьку, сократив его фамилию.
Однажды Эдька позвонил и сказал, что у него рак. Ему тогда было всего сорок лет. Рак оказался очень злой, это называется «недифференцированный рак желудка».
Узнав об этом, мы конечно же были в шоке. И – снова ничем невозможно помочь.
Чтобы не мучить своих домашних, Эдька Кот ушел умирать в хоспис.
И я смалодушничал в очередной раз. Я не смог даже навестить его. Я не представлял, как себя вести. Что говорить, что делать. Я не нашел в себе достаточно мужества, чтобы хотя бы повидать его. На работе я насмотрелся на то, что с людьми делает этот рак, поэтому я даже представить себе не решался, что происходит с Эдькой, не то, чтобы увидеть это воочию…
У Эдьки Кота был верный друг, с которым они вместе учились в технаре, звали его Серега Злодей. Злодей он тоже был не настоящий, а по прозвищу, измененной фамилии. Очень хороший парень. Так вот он, Злодей, был с Эдькой до самого конца. Он чуть ли не каждый день навещал его в хосписе, возил ему все, что Эдька хотел, но не мог поесть. Я благодарен ему, что он сделал то, что должен был, но не сделал я, испугавшись боли.
Эдька умер на Пасху.
Все, кто его знал, вспоминают его с любовью. И наша семья тоже.
Страшна не сама смерть. Страшно все, что с ней связано – потеря, пустота, образующаяся на месте дорогого человека. Болезнь, травма, ведущая к смерти. То, что мы чувствуем, когда она приближается.
Самой смерти нет. Я верю в это. Есть переход. И я надеюсь, что он не страшен и не болезнен. Я хочу в это верить.
И я очень надеюсь, что мои любимые друзья, которых я не проводил в момент этого перехода, простят меня. Когда мы встретимся там, по ту сторону.
Очень надеюсь.
Я – единственный сын музыкального педагога и инженера.
Это наложило на мое детство определенный отпечаток.
Наверное, все мы понимаем, что педагоги не прекращают быть профессионалами своего дела, даже выйдя с работы и придя домой. Теперь это в совокупности с другими проявлениями называют «профдеформация».
То есть, мама-педагог, придя домой, очень часто по инерции продолжает исполнять свой профессиональный долг, как будто она все еще на работе.
Я знаю многих детей из таких семей. Дети учителей, директоров школ, детсадовских воспитателей. Это – несчастные дети.
Не избежал этой участи и я. Только дело касалось музыкального воспитания меня как подрастающего поколения. И началось это еще с ясельного возраста, то есть с того момента, как я начал себя осознавать.
Мало того, что мама была музыкальным работником, она была еще и районным методистом по музыкальному воспитанию дошкольников… Представляете?
Припоминаю один из многих эпизодов.
Однажды мы с мамой ездили в Анапу. Мама в качестве музработника летнего лагеря, я – в качестве ее примерно четырехлетнего сына. Из всего этого замечательного отдыха на Черном море вспоминается следующее.
Я стою на летней открытой сцене лагеря. Мама – на рабочем месте концертмейстера, за пианино.
На скамьях – зрители, воспитанники лагеря, детвора. Смотрят на меня. Страшно…
Мама играет вступление к какой-то детской песне, которую я должен исполнять.
Вступление закончилось. Я не исполняю, ибо…не знаю, почему.
Мама начинает вступление вновь. Эффект тот же. В зрительном зале начинаются смешки.
Мама нервничает. Я в панике.
Мама начинает кричать. Я начинаю тихонько, а потом и в голос, плакать.
Концерт сорван. Я наказан. И приобретаю стойкий иммунитет против сцены, публичного пения и занятий музыкой.
И в своей взрослой жизни, став отцом, стараюсь ни в чем не принуждать своих детей. Возможно, иногда все же принуждал, но, благодаря моей прекрасной жене, моей возлюбленной Леле, потомственной ведьме (женщине с чрезвычайно развитой интуицией и не менее развитой эмпатией), быстро понимал бесперспективность и вредность этого подхода, и не повторял больше этой ошибки. Что и позволило нашим талантливым детям реализоваться.
Как уже сказано выше, я влюблялся часто до чрезвычайности. В детстве, отрочестве, юности. Сначала это была детская неутоленная страсть к всему красивому, в данном случае – к девочкам, которые являлись для меня эталоном красоты. Я, конечно, тогда не знал таких красивых слов, но чувствовал, очевидно, именно так.
Когда я вступил в свой трижды клятый подростковый возраст, когда гормоны бурным весенним потоком сносят неустойчивую подростковую башню, я влюблялся еще чаще и еще более бурно. И, естественно, опять в красивых по моему эстетическому рейтингу девочек.
Это продолжалось и в студенчестве, когда башня уже, казалось бы, несколько стабилизировалась, и я пару раз готов был жениться, в силу природной скромности сохраняя при этом девственность. И о роли Судьбы и Личности… Спасибо, Господи, что ты не дал мне жениться не на той и не тогда!
Я даже несколько раз дрался из-за предметов своей страсти. Однажды – даже с лучшим своим другом.
Но женился я на той, красоту которой я сначала даже не увидел.
Я увидел и осознал эту красоту только в тот момент, когда эта девушка внушила мне огромное уважение. И, как потом я узнал от уже моей жены, она испытала те же чувства и сделала те же открытия в отношении меня. Ну, или очень похожие.
И теперь, уже много лет, для меня не стоит этот вопрос: что важнее в семейной жизни – любовь или уважение? Важнее всего – чтобы и то, и другое в отношениях имело равное представительство.
В конце девяностых – начале нулевых жизнь в стране была довольно неспокойная.
И, как во всякий переломный момент истории, в нашей матушке России во весь рост встал вопрос: «А ПОГРОМЫ БУДУТ?»
Я, выросший в семье отца еврея и мамы, условно русской, всегда считал, что я внешне – вылитый русак, так как лицом больше походил на маму. При этом я совершенно не осознавал себя как еврея, понятия не имел о культуре богоизбранного народа и его вере. В-общем, я был русский советский еврей
Наша прекрасная Дина Борисовна Векслер, светлой памяти, на вопрос, будут ли погромы, с извечной еврейской печалью в глазах и неизменно горьким еврейским юмором отвечала цитатой из прекрасного фильма про американского профессора-энтомолога, по совместительству – киллера мафии: «Будут, будут».
Я при этом чувствовал себя относительно спокойно, ведь я – русский.
По долгу службы я часто проводил клинико-анатомические конференции в различных больницах города. И очередная такая конференция была запланирована в соседней с нашей больницей крупнейшей медсанчасти нашего города. Там в родильном отделении работала хорошая знакомая Дины Борисовны, Минна Осиповна, которая и вела конференцию.
Конференция прошла нормально, что называется, «в штатном режиме». Вернувшись к себе в отделение, я застал в ординаторской Дину Борисовну.
Разговор как-то сам собой соскользнул на тему погромов. Такие уж времена были.
Я как-то очень легкомысленно заявил, что я и на еврея-то не похож, и по паспорту, благодаря стараниям моего папы, я – русский, чего мне бояться?
В ответ Дина Борисовна, лукаво улыбаясь, сказала мне следующее: «Эдуард Владимирович, мне сейчас Минна Осиповна звонила, просила передать привет и поздравления с отлично проведенной конференцией «тому симпатичному молодому еврею»…»
И тут я понял, что «бить будут не по паспорту» (с), и что самообман – очень вредная и опасная штука.
Слава Богу, погромы так и не состоялись, обошлось.
Надеюсь, и впредь обойдется…
Раннее летнее утро. Снимается передача для Центрального Телевидения с участием Людмилы Зыкиной. Народной Артистки Союза ССР. У нас в Перми. На перекрестке улиц Куйбышева и Революции. У стадиона Динамо.
Движение перекрыто. Трамвайная линия пустая. Народу – никого.
Небо ярко-синее. Солнце светит.
Камера! Мотор!
И великая Зыкина своим прекрасным русским народным голосом начинает петь…
«Я люблю эту землю,
И тебе это нужно,
Чтобы я здесь жила
Окулыбь голубых огурцов…»
И тут я открываю глаза…
За окном – очень раннее утро. Я в своей постели. В своей квартире. На другом от стадиона «Динамо» конце города.
Примерно секунд пять я возвращаюсь в реальность. И начинаю ржать, как конь. Неостановимо. Непреодолимо.
Рассказал этот сон жене. Эффект тот же.
Рассказал детям. То же самое.
Этот сон вошел в наши семейные предания. Ну, и стихи. И сама песня, естественно. За моим авторством.
Почему огурцы голубые – никто никогда не спрашивает.
У всех, кто слышал эти мои бессмертные строки, всегда возникал только один вопрос: а что такое «окулыбь»?
Но это же так просто! «Окулыбь» – это значит «около и вглыбь».
Эта история имела продолжение спустя несколько лет.
Буквально недавно я решил испробовать магическую силу Искусственного Интеллекта. Якобы, он по любому техническому заданию может сотворить «нетленку».
И, естественно, я вспомнил о своем гениальном стихе. Правда, пришлось для полноты и завершенности технического задания его немного дописать. И получилось следующее:
«Я люблю эту землю,
И тебе это нужно,
Чтобы я здесь жила
Окулыбь голубых огурцов
Окулыбь – окулыбь…
Растяни свою улыбь!
Огурцы, огурцы –
Голубые молодцы!»
Искусственный Интеллект дунул, плюнул, шевельнул процессором. И… Песня получилась просто шикарная!
Эх, жаль, что нет уже с нами глубоко мною уважаемой и ценимой Народной Артистки Союза ССР Людмилы Зыкиной.
А то я бы точно прославился!
Я с детства, сколько себя помню, не принимал всерьёз людей, которых не считал красивыми.
Вот такая странность.
Я не считал человека, по моим личным меркам не красивого, способным на что-то, что может сыграть в моей жизни хоть сколько-нибудь важную роль. Например, набить мне мое красивое лицо, выражаясь интеллигентно. Или сделать что-то путевое, классное, очень полезное, важное и т.д., лучше, чем я. Или вообще, сделать что-то, чего не могу сделать я. Я-то ведь красив, и это абсолютно точно…
За это ложное убеждение и платился. Хотя и нечасто. Но чувствительно.
Например, в пионерском лагере я был влюблён в одну прекрасную блондинку. Нам обоим тогда было лет по десять. Она была – верх совершенства!
А в соседнем старшем отряде был пацан, который, по моим оценкам, очень недалеко ушёл от обезьяны. Как внешне, так и интеллектуально, хотя я тогда вряд ли знал такое умное слово.
Но вёл себя тот пацан нагло, приставал к нашим девочкам, и особенно – к моей королеве. Самое отвратительное, что ей это, похоже, нравилось. Она вместе с подружками смеялась его глупым плоским шуточкам. Меня это просто бесило. Но поделать я ничего не мог, это было ниже моего достоинства. Лишь в мыслях своих я наказывал наглеца, бил его наглую рожу и презирал его от всей своей красивой души.
Так всё и продолжалось до середины смены.
И вот, однажды я прогуливался недалеко от отрядного корпуса, погруженный в прекрасные мечты о Возлюбленной, как вдруг из кустов вышел этот самый обезьян и спросил меня без всяких предисловий:
– Деньги есть?
Никаких денег у меня не было, нафига они мне в лагере?
Но просто ответить мне не позволила моя мужская гордость.
И я не нашёл ничего умнее, чем спросить язвительнейшим тоном:
– А тебе сколько… – "нужно? " я уже не успел произнести. Занавес упал.
Я смотрел сон. В нем прошел целый родительский день во всех подробностях.
Проснулся я, не знаю, через какое время, но, судя по тому, что я стоял на том же месте и продолжал, глупо и язвительно улыбаясь, таращиться в точку пространства, где когда-то стоял обезъян, а его там уже не было и в помине, могли пройти и секунды, и минуты. Это был нокаут.
Штормило. Голова раскалывалась от боли и кружилась, верхняя губа была раздута, по моим ощущениям, как футбольный мяч, а во рту был такой вкус, как будто я зачем-то долго обсасывал посыпанную солью железяку. То было первое из моих сотрясений мозга.
Доплыв, как раненная медуза, до нашего корпуса, я попался на глаза моим друзьям по отряду. Слегка офигев от увиденного и выслушав мой путаный рассказ, они кинулись искать супостата, но его уже в лагере не было.
Так я расстался с одним из своих заблуждений об устройстве Мироздания. И понял, что некрасивые люди вполне могут нанести ущерб моему здоровью. И это – как минимум.
Но гордыня же так просто не сдаётся.
Вообще, в подростковом возрасте я довольно часто ездил в пионерские лагеря. И в старших отрядах как-то незаметно, так сказать – естественным, само собой разумеющимся образом, становился одним из лидеров. По крайней мере, в моем собственном мире.
А были в отряде в одну из таких лагерных смен, пара ребят явно старше и крепче всех нас. Причём, из обрывков бесед между ними явствовало, что приехали они по чужим путёвкам и под чужими именами.
Отношения у меня с ними были нормальные, они даже пригласили меня в свою компанию. Мы практически стали друзьями.
Всё было хорошо всю смену: я был, что называется, "в авторитете", у меня была любовь с самой красивой девочкой лагеря, самые старшие и сильные ребята, у которых даже есть тайна (!) – мои друзья.
Вот только невдомёк мне было, что два моих старших друга знакомы были во внелагерной жизни с кем-то очень серьезным, кто был связан с предметом моего обожания. И довольно плотно.
И в предпоследнюю ночь смены, после отбоя, один из них, тощий, но очень жилистый Витек пошёл выключать свет в палате.
А моя кровать располагалась в аккурат под выключателем.
Я лежал себе на спине, готовясь почить сладким сном.
Раздался щелчок выключателя, и одновременно с наступившей темнотой я абсолютно внезапно ощутил сильнейший удар по своей блаженно расслабленной физиономии.
Я лежал в темноте и пытался понять, что это было. И старался никак не выдать, что это попало в цель. Ибо стыдно. А главное – понять бы, за что?! В таких мыслях и прошла моя ночь. И это – один из тех случаев, которыми я не горжусь до сих пор.
Так я понял ещё одну важную истину: не всегда тот, кто называет себя другом – твой друг. И не всегда я так крут, как думаю о себе.
А на следующий день эти же мои "друзья "натравили на меня того, от кого я и ожидать не мог ничего подобного.
Был в отряде паренёк, такой плотного телосложения увалень. В целом очень приятный паренёк, мы с ним часто болтали, играли в теннис, шашки, и вообще – хорошо и ровно всё у нас с ним было.
Я вошёл в палату, и вдруг мгновенно образовался плотный круг из наших отрядных пацанов. И внутри этого круга стоял я. И он. И в глазах его была ненависть.
А из-за круга, вальяжно развалившись на кровати, другой из моих "друзей", здоровенный Олег, как он себя называл, обратился к кому-то из нас, не называя имён:
– Он тут про тебя такого нарассказывал, бля, ты че, стерпишь?!
И внезапно мой плотного телосложения приятель бросился на меня с кулаками!
Я было опешил ровно на секунду, но меня спасла моя реакция.
Ловко увернувшись, я крепко обхватил противника со спины и швырнул его на пол.
Олег секунду озадаченно молчал, оценивая обстановку, затем сказал мне:
– Эдик, молодец! Давай, запинывай его!
И пацаны, образовавшие круг, наперебой загалдели: "Давай!.. Запинывай!.. Давай-давай, пи… ди его!" И далее в том же духе.
Мой поверженный противник не вставал, из его глаз текли скупые мужские слезы. Он не плакал, просто они текли, и он не мог их остановить. Ему было страшно обидно.
Я несколько бесконечно долгих секунд стоял и смотрел на него без всяких мыслей в гудящей голове.
Я сразу решил, что драться не буду – и не умею, и к оппоненту у меня претензий до этого случая не было. А теперь, запинывать лежачего, да еще на потребу этим…
Я спокойно вышел из круга, и никто даже не попробовал меня остановить.
Так я получил еще один урок: как бы ни был ты популярен, всегда найдется тот, кто организует тесный круг из тех, кого ты считаешь приятелями (а иногда даже друзьями) и натравит на тебя вчерашнего твоего приятеля. И что надо оставаться человеком в любом случае.
А вот еще случай. Мы с моей Лелей уже были женаты, уже переехали в эту трехподъездную девятиэтажку. И у нас уже родилась и тихонько подрастала наша первеница. И была она совсем еще маленькая.
А в соседней квартире жила такая весьма неприятная старуха. И звали ее Зоя Киприановна. Была она весьма немалого размера, рыхлая, некрасивая, лицо неприятное, угрюмое, взгляд колючий. Мы с ней как-то сразу после переезда друг другу не по душе пришлись. Здоровались, конечно, люди же воспитанные, но как-то неискренне, формально, что ли.
И вот, нашей первой осенью проживания в этой квартире, наша полуторагодовалая доча заболевает. Простуда. Да еще какая – с высоченной температурой и прочими прелестями… А времени – около часу ночи…
В те времена сотовых не было и в энергоинформационном поле нашей Родины, а домашний телефон был далеко не в каждой квартире. Не было его и у нас.
А у неприятной старухи Зои Киприановны – был.
И нам бы вызвать ребенку «скорую», а – никак. Телефона-то нет…
И вот, стиснув в кулаке всю свою гордость, я позвонил в неприятную соседскую дверь.
Баба Зоя открыла через пару минут, одетая в ночной халат, простоволосая, недовольная.
– Зоя Киприановна, простите за позднее беспокойство, у нас маленькая заболела, температура 38.8, как-то бы «скорую» вызвать…-промямлил я.
Зоя молча освободила мне проход к телефонному аппарату.
– Спасибо большое! – сказал я уже на бегу и снял трубку.
Я пытался дозвониться минут двадцать-тридцать. Потом понял, что, видимо, не дозвонюсь. Времени уже было около полвторого ночи. Неприятная Зоя все же, при всей своей неприятности, ни в чем не провинилась настолько, чтобы не давать ей спать.
Я натянуто поблагодарил ее и, как в воду опущенный пошел домой.
Температура у маленькой и не думала падать несмотря на все наши старания…
Прошел час.
И вдруг в нашу дверь позвонили. «Врача вызывали?»
Это были самые волшебные слова из всех волшебных слов, которые я когда-либо к этому моменту слышал!
Малявку полечили, температура спала до приемлемой в нашем случае субфебрильной. Мы легли спать.
Утром я зашел поблагодарить Бабу Зою. Ведь ежу понятно, что это она дозвонилась-таки и вызвала нам «скорую». И дверь мне открыла уже совсем другая женщина. То есть это была все та же Зоя, но я никогда бы не подумал, что она способна на такую улыбку… И в глазах ее что-то светилось и согревало меня.
С тех пор лучшей соседки нельзя было и пожелать.
И я тогда понял две очень важные вещи.
Оказывается, выражение «Не суди о книге по обложке» – не только про книги.
И, как гласит мудрость, «..мы любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим их за то зло, что им причиняем»
И то, и другое имело отношение, возможно, к нам обоим –и к Бабе Зое, и ко мне.
Не думаю, что кому-то когда-то удалось избавиться от своей гордыни навсегда. Разве что – усмирить и контролировать ее.
Время от времени ловлю себя на том, что пренебрежительно думаю о ком-то, внутри себя отпускаю кому-то неуважительные комментарии. И сразу мигает красная лампочка в мозгу. Сигнал тревоги. И мгновенно вычищаются такие мысли. Это – как иммунитет, который всегда начеку. Микроб по имени «гордыня» – как условно-патогенная флора. Если иммунитет бдит, то микроб сидит тихо, персистирует на уровне спячки, анабиоза. Но стоит иммунитету хоть на мгновение расслабиться, как зловредная бактерия просыпается и начинает жрать и отравлять организм. И горе тому, кто позволил ей это: сожрет и ни кусочка не оставит. А окружающий мир будет лечить своими средствами, жестко и неприятно.
Как сказал великий Козьма Прутков, «Бди».
Держи иммунитет в тонусе.
Вы когда-нибудь задумывались, почему эти дурные наклонности человеческие исстари так пугающе называются? Мне кажется, я нашел этому объяснение. По крайней мере для себя.
Итак, начнем.
Сначала – в общем обо всех смертных грехах.
Думаю, дело здесь вот в чем. Все начинается с гедонизма, стремления получать удовольствие любой ценой, так как удовольствие – конечная и высшая цель жизни. То есть, ничто не может служить препятствием к получению наслаждения – ни моральные соображения, ни этические нормы, ни здравый смысл. Думаю даже, что гедонист, по сути, живет одним днем, даже одним моментом – моментом получения им наслаждения. Типа: «после нас – хоть потоп!» По сути, гедонист верит только в земную жизнь, несущую наслаждения.
А какие удовольствия известны всю историю человечества? – Вкусная еда, секс, власть вместе со славой, деньгами, возможностью карать, алкоголь. И для стремящихся к наслаждениям они становятся самоценностью. То есть, ничего в мире нет выше их.
И тут на горизонте появляются… смертные грехи – гордость (гордыня), зависть, чревоугодие, блуд (сластолюбие), гнев, корыстолюбие (стяжательство), уныние (лень).
Каждый из них, если его довести до максимума, до абсурда, приводит к смерти. И к биологической, и к духовной. И, чаще всего, так и происходит, ведь то, что просто приносило удовольствие без последствий, все глубже затягивает и порабощает человека, довлеет над ним. И чем дальше, тем закономернее и неотвратимее ведет его к печальному финалу. Путь в один конец, но значительно более короткий, чем обычно. И более мучительный.
Например, чревоугодие, оно же обжорство, оно же переедание, и т.д. Не секрет, что даже просто переедание приводит к проблемам со здоровьем – ожирение со всеми его побочными эффектами и последствиями. Такими, как атеросклероз, диабет, инфаркт, инсульт, проблемы с позвоночником и суставами (которые приводят к неспособности полноценно двигаться, а ведь движение – это жизнь)
Чревоугодие – это обжорство, когда человек жрет и не хочет, да и не может остановиться. Он любой ценой получает удовольствие от еды, и даже когда вкусовые ощущения притупляются, еда приедается, человек прибегает ко всему, что возбуждает аппетит – острым блюдам, алкоголю, и так далее. И вот, «помощники аппетита» делают свое дело. Аппетит возникает вновь, усиливается, человек съедает больше, чем раньше.
А если учесть, что сейчас используются еще и всяческие «ешки», усилители вкуса и запаха, – можно себе представить, насколько больше несчастный обжора слопает.
А в это время желудок избыточно растягивается, и с каждым разом все сильнее. А сокращается не полностью. И, значит, чтобы наполнить его до чувства сытости (а первое чувство сытости наступает как раз при наполнении желудка), с каждым разом приходится съедать все больше пищи. И возникает порочный круг.
В истории известны случаи отрыва желудка. Это уже смертельное осложнение. А еще – удушье из-за полной невозможности дышать, когда диафрагма не в состоянии двигаться, а ведь она – главная дыхательная мышца, а переполненное брюхо не оставляет ей ни малейшего места для работы… Или смерть от захлебывания рвотными массами… и т.д. А помните, по-моему, у Эдгара По, в рассказе про последнюю трапезу приговоренного к смерти? Там человек наелся так, что тюремный врач чудом смог спасти ему жизнь. Правда только для того, чтобы его могли казнить по приговору суда.
Ну, с чревоугодием, думаю, ясно.
А гордыня? Как убивает она?
Во-первых, что есть гордыня? Это непомерное самомнение, которое внушает человеку, что он – неизмеримо, несопоставимо лучше, чем прочие люди. Что ему дозволено все, что угодно.
Гордец презирает (тайно или явно) других людей. Он (тайно или явно) высокомерен, заносчив, может быть замкнут. Он ненавидит тех, кто достиг большего, чем он, т.к. считает, что достойны не они, а он. Что все должно принадлежать ему, а не им. А значит – зависть, доносительство, воровство и даже убийство из зависти или при ограблении…Тут тебе и гнев, и болезненная ревность.
А еще – желание любой ценой прорваться к власти, ведь власть над людьми – сильнейший наркотик, дающий несравнимое ни с чем услаждение гордыни… Ну, и власть – это доступ ко всему, чего «достоин» гордец.
А если ему не хватает решимости на действия, гордыня разъедает душу его изнутри, доводит до депрессии, а там и до суицида недалеко…
Как тонко смертные грехи связаны между собой…
А скупость? Это «бескорыстная любовь к дензнакам» (вариант незабвенного Остапа Бендера). А также и болезненная страсть обладания чем-либо, сверхценная идея, часто даже не для использования предмета обожания, а просто – обладание ради обладания. Скупость, когда рыцарь умирает от страха потерять скопленные богатства, влача в этот момент нищенское существование и умирая от голода и холода над сундуками, полными золота, имеющего патологическую власть над его «счастливым» обладателем.
Часто – это гордыня, тешащаяся обладанием тем, чего нет у прочих «мелких презренных людишек, недостойных обладать этим».
Часто – это зависть к кому-то, обладающему этим «не по праву», желание превзойти, доказать: «Только я по праву могу себе это позволять». И много других вариантов.
И любой из них – болезненная дорога к смерти, смерти тела и души, своей, ближних, дальних…
Я уже не говорю о блуде, похоти, и разных их проявлениях.
Тут вообще все очень наглядно.
Супружеская измена. Во-первых, любая супружеская измена – суть предательство. А это – страх разоблачения, опасность шантажа, стыд (если он, конечно, есть, а это уже проявление зачатков или остатков совести,), а значит – быстрый износ нервной и сердечно-сосудистой системы, путь к злоупотреблениям едой и алкоголем (а может, и к различным веществам…) Дальше – думаю, понятно.
Чрезмерная половая жизнь, особенно – совсем уж неразборчивость в партнерах. Тут тебе и венерические болезни, вплоть до СПИДа и гепатитов, ограбление, попадание в зависимость от шантажистов. И просто, нервное и физическое истощение, снижение иммунитета и т.д.
Самое страшное, что при любом из вариантов – духовная смерть от последствий вожделения наслаждения, которое порабощает тело и душу.
Гнев? Так тут вообще все ясно. Даже если забыть о гордыне, которая его часто порождает.
Гневливый человек себя не контролирует. Он даже может потом пожалеть о совершенном им под влиянием гнева, но в моменте он абсолютный его, гнева, раб. Гнев – состояние, по сути, аффективное, то есть, повреждающее. Гнев часто ведет к совершению тяжелейших преступлений, причем гневливого человека могут и часто используют в качестве оружия третьи лица в своих целях.
А после совершения непоправимого гневливый человек может подвергаться мукам совести, часто влекущим последствия вплоть до самосуда над собой.
Так что, как вы сами понимаете, гнев напрямую связан со смертью.
Мы здесь не говорим о праведном гневе на поле боя, обращенном против врага, пришедшего на родную нашу землю. Самое главное, чтобы в священном бою человек не упивался гневом и властью над поверженным врагом, а оставался человеком.
Про уныние мы уже упоминали, помните? Оно может быть связано и с гордыней, и с завистью, и с блудом, и даже с чревоугодием. И финал затяжного уныния – депрессия, глубокая, могущая привести к смерти. Это то, что уничтожает в человеке веру в себя и во все хорошее, лишает воли, способности и желания действовать, ввергает его во всепобеждающую лень, ведущую к физиологическим расстройствам. И дальше – понятно, правда?
К чему это я такие страшилки развел? Да мы же все или через одного грешим, святые среди нас не уживаются…
Но грешки, которые мы свершаем могут остаться грешками, а могут вырасти во что-то гораздо большее и страшное… И порой бывает сложно определить ту меру, ту границу, за которой это уже не невинная шалость или легкомыслие, а самый, что ни на есть, смертный грех.
Все мы склонны в той или иной мере к стремлению к удовольствию, а также – к гордыне (это уж стопроцентно). Но существует в каждом из нас и Бог – наша совесть. И надо не допускать малодушного самооправдания, надо слушать внимательно свою совесть. Надо мыслить критически. Надо еще до грехопадения спросить себя: а что будет потом? Не пострадает ли кто-то безвинно, да и нам ли определять чужую вину (со своей бы разобраться…). Не обрушатся ли последствия нашего поведения на тех, кто нам дорог? Нет ли хоть малейшей вероятности последствий чрезмерных, катастрофических того, что мы собираемся сделать?.. И сможем ли мы жить как прежде после того, как сделаем это? И смотреть на себя в зеркало без отвращения. И смотреть людям прямо в глаза, спокойно и честно.
И слушать, слушать голос нашего внутреннего Бога…
Сам я на войне, слава Богу, не был. И, надеюсь, не придется.
Но она коснулась меня, и неоднократно. Поэтому я стал пытаться понять ее природу.
После первого курса, в июле 1983-го, если мне не изменяет память, я поехал в стройотряд. Мы там весело и, насколько могли, производительно трудились, и отдыхали между трудами праведными. Было классно.
Однажды к нам в гости приехал чей-то знакомый, довольно невзрачного вида паренек. Звали его Витя.
Все вроде бы было нормально, он оказался вполне себе компанейским, своим. Но взгляд у него был какой-то другой. Как будто он на самом деле сейчас находится где-то в другом месте. А может, где-то внутри себя…
Вечером сели отмечать встречу. Выпили, конечно, как без этого.
И вроде выпили-то немного. Но с Витей стали происходить странные вещи.
Как будто его подменили. Он начал рассказывать странные и страшные вещи. И не только рассказывать.
Что мы знали об Афгане и афганской войне? Что нам говорили газеты, радио, телевизор, и каждый утюг в каждой квартире? – Что наши ребята там исполняют интернациональный долг, защищают нашу границу, а значит – и нас. Что советский солдат – самый гуманный, что он всегда – спаситель, что он защищает хороших людей от плохих. Что наше дело всегда правое. Что в Афганистане мы спасаем народ от нищеты и голода, от захвативших власть врагов. И т.д. И т.п.
Да и вообще, война была где-то далеко, и как будто бы нас прямо не касалась.
А Витя, пока еще был в уме, но уже начинал «прогреваться», заговорил совсем не тем голосом, каким говорил, пока не выпил. И про совсем другое.
Например, про то, как, войдя в горный кишлак, они, советские солдаты войск КГБ, сначала бросали в хижину гранату, затем расстреливали все, что там еще шевелилось, и только потом входили внутрь и смотрели, кто там, внутри, был. Потому что иначе могли выстрелить из темноты внутри хижины. И убить тебя или твоего товарища. И выстрелить мог не только явный душман. Выстрелить мог и пацан, даже совсем ребенок…
Не все помню, что он успел рассказать. Помню, что, когда он уже «загрузился» и потерял всякую связь с действительностью, он начал воевать… Это было очень страшно.
Нам едва хватило сил, чтобы впятером его скрутить и утихомирить… А ребята мы тогда были вполне крепкие.
Наутро, когда он очухался, он ничего про «ночной бой» не помнил. Снова был нормальным и компанейским пареньком. Только удивлялся, что проснулся связанным. Но по глазам его было понятно, что на самом деле он не удивлен.
А сегодня мы с женой были на похоронах мужа нашей родственницы.
Стояла машина с надписью «груз 200» за лобовым стеклом.
В зале прощаний стоял на постаменте закрытый гроб, на нем – солдатская камуфляжная кепи.
В головах – почетный караул, молодые солдатики с автоматами, в тельняшках под камуфляжем.
Я мало знал погибшего мужчину. Помню лишь его крепкое рукопожатие, немногословность, ощущение спокойной надежности… Осталась неутешная вдова, дети, внуки…
Говорили очень теплые и скорбные слова его родные, друзья, сослуживцы…
Он погиб на войне. Ушел добровольцем и погиб.
И он не один в моей жизни, погибший на этой войне. То у одного, то у другого моего близкого или дальнего знакомого кто-то погибает. У однокурсницы пропал без вести муж. Позже она узнала, что он погиб. У подруги жены погиб племянник.
И это очень страшно. Мы живем своей обычной жизнью, а где-то погибают те, кто нам дорог.
А те, кто оттуда возвращается, уже никогда не смогут жить, как прежде. Как до войны. Их души искалечены тем, что они пережили, увидели, вынуждены были делать, чтобы выжить, выполнить приказ.
Наверное, без войны человечество не может существовать. Просто потому, что все мы очень разные. И всегда одному нужно много больше, чем другому. И этот один готов идти по головам других, не останавливаясь ни перед какими жертвами, особенно – принося в жертву других. Чтобы получить то, что ему так нужно. Что, как он считает, принадлежит ему по праву. Просто – «потому что!»
А если он облечен властью? И связанными с ней возможностями? А если он еще и одержим идеей? И так понимает свой долг перед Историей? Тогда он, не задумываясь, отправит на бойню целые народы.
К сожалению, вечный мир – несбыточная мечта человечества. Тем более, что это самое человечество никогда не сможет договориться о том, каким этот мир должен быть.
Но так необратимо меняет людей и их судьбы война… Так много боли она несет с собой… И так малому научаются люди, так бесполезно они гибнут… А ведь каждый из них – целая вселенная…
Эффект толпы. Когда в одном месте собираются очень много людей и они одновременно подвергаются быстро возникающему и развивающемуся травмирующему (как позитивному, так и негативному) воздействию, которое вызывает резонанс низших, животных энергетических полей, особенно, если они были к этому моменту подготовлены одинаковым воздействием (например – пропагандой) длительное время, то теряется связь с каждой конкретной душой, и животное в человеке получает абсолютный контроль. Возникает массовый инстинкт, образуется стадо, которое никем не контролируется и одержимо инстинктом выживания и, как его продолжением, инстинктом разрушения и уничтожения. Или контролируется кем-то извне и направляется в нужное русло. Каждый конкретный человек перестает существовать в этом едином напуганном и неистовствующем в ужасе или ненависти животном. Зачастую, если люди приходят в себя после этого состояния, они не могут ничего вспомнить, не могут принять и допустить, что они могли участвовать в том, что произошло, не могут признать своей личной ответственности за то, что делали в этом состоянии. Именно потому, что связь с их духовной составляющей, их личностью, отсутствовала полностью или в значительной мере.
Идеология. Имеет ту же природу, но объединение и обезличивание масс людей происходит на уровне энергоинформационного поля. Людям навязывают чуждый опыт или \и идеи, прерывая их связь с собственной личностью и собственным опытом, обесценивая их. Особенно – с Совестью как внутренним регулятором и контролером, заложенным в людей Создателем. Идеолог «снимает ответственность» с каждого отдельного человека и «принимает ее на себя». Помните, один неудачливый художник для достижения мирового господства говорил своим солдатам и всей своей нации: «Я освобождаю вас от химеры совести…»? Таким образом, идеолог подменяет собой Создателя и безраздельно управляет массой людей. Идеология – то, что может сделать необходимым «эффект Вавилонской башни» для активного противодействия обезличиванию и восстановления контакта с личностью.
Критическое мышление. Это способность сохранять связь со своей собственной личностью и соотносить картину мира со своей совестью. Разрушение\отключение критического мышления – важнейшая цель любых идеологов. А также любых тоталитарных режимов и сект.
Вера. Неосознаваемый контакт с Истиной (verum – истина (лат.)). Не путать с религией как системой управления верой через ритуалы и церковью как институтом, администрирующим управление верой через религию и использующим ее для интересов власти и обогащения своего административного аппарата. Также не путать с культом личности.
Верить – поверять Истиной, сравнивать с Истиной, соотносить с Истиной.
В моей школе было много прекрасных учителей. С многими из них связаны разные истории, веселые и не очень. Но здесь я вспоминаю только тех, кто сыграл в моей жизни важную роль. А потому врезался в мою память и мое сердце, оставшись там навсегда.
Когда я поступил в самый первый класс моей, ставшей навсегда любимой, физико-математической школы имени А. С. Пушкина (ну, не удивительно ли такое сочетание?), моим первым учителем стала Анна Ивановна Попова. Вспоминаю ее как женщину строгую, требовательную, иногда даже жесткую. Внешне – такую можно встретить в русской деревне – среднего телосложения, невысокая, энергичная. Лицо – как на старых русских иконах. Глаза внимательные, спокойные. Голос чуть сипловат, но довольно мелодичный.
Не могу сказать, что мы тогда сильно любили ее. После воспитателей детсада она была непривычно строга, да и научить нас ей надо было очень многому за то короткое время, которое называется «Начальная школа». Поэтому времени на сантименты у нее было не особо много. Но уверен, многие из моих одноклассников той поры смогут припомнить, как она нам улыбалась. И вряд ли кто-то из нас мог бы вспомнить о ней что-то неприятное.
Вы ведь знаете, что такое учитель начальных классов? Это мастер на все руки, который знает, умеет все на свете, и может всему на свете научить. И все свое время отдает своим ученикам, салагам-первоклашкам и второклашкам, пока не передаст их дальше по команде. И Анна Ивановна была именно такой.
Однажды мой папа, начальник цеха на оборонном предприятии, безусловный авторитет в своем огромном заводском коллективе, орденоносец, с ней серьезно поспорил на какие-то там школьные темы. Видимо, очень серьезно. После этого он сказал об Анне Ивановне недовольно, но уважительно: «Ну, железная баба». И хотя каждый из них, очевидно, остался при своем мнении, такая оценка из уст моего папы звучала очень серьезно. Далеко не каждый мог заслужить ее. А в отношении Анны Ивановны ко мне с того дня ровным счетом ничего не изменилось.
Когда, будучи уже врачом, я случайно встретил ее в коридоре больницы, я сразу ее узнал. И, поздоровавшись, с внутренним трепетом спросил: «Анна Ивановна, вы меня помните?»
Она улыбнулась чуть смущенно и ответила: «Фамилию не помню, Эдик». У меня какой-то теплый комок подкатил к горлу. Думаю, тогда ей было уже за семьдесят…
Мы с моим Серегой Якимовым с первого класса были неразлучны, как братья. Ну, и конечно же, вместе зависали после уроков по самым разнообразным делам, которых у салаг из начальных классов может быть очень много.
Однажды, после уроков, когда мы как раз куда-то собирались по таким делам, наша Анна Ивановна попросила помочь старшей пионервожатой школы Любе.
Недоумевая, мы отправились в указанный кабинет и были встречены молодой симпатичной девушкой в красном пионерском галстуке, повязанном поверх нарядной белой рубашки.
Так мы познакомились.
Оказалось, что надо было помочь с изготовлением стенгазеты.
Не помню, что мы там с Серегой накалякали. Мы были отчаянно храбры, но оформители из нас тогда были – обнять и плакать. Мы пыхтели, старательно чего-то там ваяли, чертили и малевали. А Люба, видимо вспомнив, что мы давно не ели, сказала:
«Ребята, моя мама испекла пирожки с черемухой. Хотите?» Не знаю, как Серега, а я черемуху до этого момента пробовал только с ветки и не всегда спелую. Но животы наши уже пели свою жалобную бурливую песню, и мы оба, не сговариваясь, ответили утвердительно.
Люба ненадолго вышла. И вернулась с пирожками. Это были мои первые в жизни пирожки с черемухой. Мелко нарубленная ягода в начинке румяных ароматных пирожков хрустела на наших зубах, и это было волшебно.
Это были самые вкусные пирожки с черемухой в моей жизни.
Прошло много лет. Люба окончила пединститут и вернулась в нашу с ней родную школу уже Любовью Васильевной, учителем начальных классов. Уверен, она стала замечательным учителем.
В то время директором нашей математически – поэтической школы была Зинаида Сергеевна Лурье. Это была совершенно удивительная женщина. Представьте себе очень невысокую (про другого человека такого роста смело можно было сказать – коротышка) еврейку в годах, с довольно-таки национальным носом, какой-то необычной прической в виде нависающей надо лбом начесанной челки и копной волос, сдвинутой почти на затылок, подобранной фигурой, чуть поданной вперед , передвигающуюся очень энергично на чуть кривоватых ножках, с голосом тоже энергичным, высоким, сипловатым, даже, как будто, чуть ломким в самых своих высоких регистрах. Вообще не эталон женской красоты. Пока вы не увидели ее улыбку.
Это было что-то совершенно изумительное. Она сразу вся преображалась. Ее глаза начинали испускать какие-то теплые лучики и смотрели очень внимательно и участливо. Улыбка у нее была такая, как будто она – твоя любящая бабушка, к которой ты приехал в гости, и сейчас будет чай с твоим любимым вареньем. И голос ее становился таким ласковым…
Ее уважали абсолютно все, кого я знал в школе. А самые отпетые хулиганы уважали и побаивались. Потому что, когда она говорила с ними, она становилась как туго натянутая струна, и ее голос звенел так, что и не захочешь – съежишься. И исходили от нее такие уверенность и сила, которые вызывали уважение у любого, кто общался с ней.
Сколько я помню Зинаиду Сергеевну, в ней всегда ощущалось огромное, не вмещавшееся в ее миниатюрный рост, человеческое достоинство. Ее невозможно было не уважать.
Преподавала Зинаида Сергеевна литературу в старших классах. Она была одним из самых уважаемых в городе словесников. Ее уроки были, как я понимаю теперь, очень важными для всей моей жизни.
А Зинулей мы ее стали называть между собой уже после окончания школы.
Но самый важный ее урок я получил, когда, много лет спустя, узнал некоторые подробности ее жизни. Вы легко найдете в интернете этот фильм о ней, который создали ее внуки. Он называется «К 70-летию Победы. Зинаида Суиловна Лурье». И вы поймете, о чем я.
Мы все, кто учился у нашей Зинули, узнали ее историю впервые именно из этого фильма. Зинаида Сергеевна никогда ни полсловом не упоминала о том, как чудом спаслась от смерти во время Великой Отечественной, как погибли ее родители, расстрелянные вместе со всеми евреями украинского местечка, в котором они жили, и в котором она росла, как она голодала и чуть не умерла от малярии, как подростком работала в Березниках на тяжелейших работах, на стройке азотно-тукового комбината. И как стала учителем.
Мы и не предполагали, какой огромной величины Человек скрывается в нашей любимой Зинуле. Таких нынче, если и делают, то – очень редко.
Не стану пересказывать фильм. Просто не смогу. Найдите и посмотрите. Оно того стоит.
Он пришел в нашу школу трудиться физруком тогда, когда мы уже были «старшаками». И как-то сразу стал своим.
Высоченный, плечистый, но не как штангист, а как настоящий баскетболист, каким он и был. Самый настоящий. В глазах всегда чертики. Улыбка, которая ценилась очень дорого всеми, кто его знал. Требовательный, но не фанатик. Человек, уважающий других людей. Он стоял у истоков пермского баскетбола. Тренировал и консультировал команды очень серьезного уровня, сам был членом областной сборной. Мог поехать работать в Москву, и тогда все сложилось бы совершенно иначе. Но по семейным обстоятельствам он остался в Перми и пришел учить нас.
Он учил нас баскетболу. Но получилось так, что я абсолютно не был годен для этой игры. Никанорыч понял это и не настаивал. Я в то время сильно увлекся атлетизмом, и Никанорыч позволял мне на уроках делать не больше того, что требовала школьная программа, а остальное время мы с Серегой занимались на перекладине, брусьях.
К стыду своему, должен сказать, что я так и не научился любить баскетбол. Но эта игра для меня навсегда связана с именем нашего Никанорыча.
Когда моя старшая дочь училась в нашей школе, Владимир Никанорович тоже был ее учителем. И рассказывал ей про мои подвиги на ниве физической культуры. И мы с ней дома смеялись, потому что в исполнении Никанорыча я был просто легендарной личностью, что, конечно же, было чертовски приятно. Ведь он говорил это с любовью.
При его жизни мы мало что о нем знали. Он был просто «наш Никанорыч»
Он умер в возрасте 87 лет. Отдать ему последнюю дань уважения пришло так много людей, что я очень удивился. Там были очень непростые люди, спортсмены, бизнесмены, политики.
И на его похоронах мы узнали о нем столько всего, что теперь кроме нашей любви и уважения у него навсегда будет наша гордость за то, что мы знали его и учились у него.
В пятом классе, если мне не изменяет память, к нам пришел учитель истории. В то время преподавателей-мужчин в нашей школе было – раз, два, и обчелся, с нами практически только женщины и работали. И, конечно же, Леонид Абрамович являл собой нечто совершенно особенное.
Высокий, худой, сутуловатый, с коротко стриженым черным ежиком на голове, с короткой черной, тщательно ухоженной густой бородой, переходящей на висках в прическу. Сквозь эту бороду он чуть глуховатым голосом говорил нам удивительные вещи. Он рассказывал про средневековые рыцарские замки, проводил театрализованные уроки, где в ролях были мы сами, устраивал конкурсы на звание «Лучший Историк».
Он был нашим кумиром. В нем всегда чувствовался характер. Как я узнал много позже, в те времена Леонид Абрамович, будучи членом Союза писателей, не был членом Коммунистической партии, поэтому долго не мог найти себе работу во всех школах Перми. Ситуацию усугубляла его борода, с которой он не хотел расставаться ни в коем случае. И только благодаря нашей Зинуле, как он впоследствии через много лет рассказал сам, он смог стать учителем и сделать Историю нашим любимым уроком.
Некоторые учителя ревниво говорили меж собой (слышал однажды случайно), что «хорошо Юзефовичу, для него школа – так, ничего серьезного, одно баловство, он ведь член Союза писателей…». Я тогда даже и не понимал, что все это значит. Но был категорически не согласен. Абсолютно невозможно было допустить даже на секунду, что наш любимый учитель относится к нам и к своей работе несерьезно. Ведь все, что происходило на его уроках, говорило об обратном.
Конечно, та История, которую Леонид Абрамович нам дарил, была как раз нам по возрасту – очень интересная, увлекательная, таинственная… В сравнении с ней Новая и Новейшая история, история СССР – скука смертная. Но теперь, читая книги Юзефовича и смотря фильмы, снятые по его сценариям, и особенно – зная примерно его характер и принципиальность, я думаю, что преподавать, не кривя душой, он мог в те времена именно и только эту Историю.
А тогда про его писательство мы и не знали.
Лично я о том, что Леонид Абрамович – писатель, узнал много лет спустя. И произошло это во время просмотра кинофильма про Ивана Путилина, сыщика Петербургской полиции. В титрах я прочел имя автора сценария и сильно удивился. Леонид Юзефович. Да ладно! Ничего себе! Меня прямо расперло от радости и гордости.
Потом мы встретились на просторах интернета, в ВКонтакте. И Леонид Абрамович узнал меня на фотографии нашего выпускного класса, где мы сняты вместе с нашими учителями, среди которых был и он. Он всех нас помнит, это так приятно!
Теперь я читаю его книги и получаю огромное удовольствие. В них – по-настоящему живые люди со своими причудами, недостатками, достоинствами. В них прекрасные описания, диалоги. Сам язык повествования всегда передает дух эпохи, в которой происходит действие. Ты как бы погружаешься в нее. Если дело касается гражданской войны – не так важны идеологические моменты, как характеры и мотивации героев. История здесь – арена, на которой сталкиваются мощные личности.
Я не критик и не знаток истории, я просто читатель и просто делюсь своим удовольствием от прочитанного. И прочел еще далеко не все книги любимого учителя. Так что буду наверстывать упущенное. И очень надеюсь, что наш Леонид Абрамович напишет еще много прекрасных книг.
При всей моей наличествующей гордыне я никогда осознанно не стремился к популярности, известности и прочим индивидуалистическим «вывихам».
То есть, конечно же, если случались такие моменты, когда я, совершив что-то из ряда вон, оказывался по-хорошему в центре внимания, я испытывал приятное чувство и не прятался в темный дальний уголок от прожекторов общественного благоволения. Но никогда ради этого не был способен, да и не хотел кого-то распихивать локтями и другими выдающимися частями тела, нестись к славе целенаправленно и напролом, сметая все на своем пути и сравнивая с почвой, как какой-нибудь карьерный экскаватор… (если они бывают такими скоростными, конечно). Просто – не так воспитан.
Сейчас многие психологи, педагоги, и прочие инженеры человеческих душ с младых ногтей начинают стимулировать у будущих граждан «лидерство». Бизнес-тренеры в интернете (и не только) учат, что ради успеха надо отказываться от всего, что тормозит обучаемого на пути к нему. Что «если хочешь достичь Успеха, надо менять свое окружение, общаться только с богатыми, выбираться из болота, не общаться с теми, у кого цели не так амбициозны, и т.д., и т.п.» Например – старые друзья, которым не так много денег требуется.
В наше с вами обыденное сознание усиленно внедряют понимание успеха как «твое превосходство на дороге» (с), дорогое авто, море денег, и т.д. Короче, чем ты больше покупаешь, тем ты успешнее. Такой подтекст. Такая формула. Успех равно бабло. Ведь надо же кому-то продавать блага цивилизации.
И в итоге за таким «лидером» тянется глубокая борозда, ядерные воронки, безжизненная выжженная пустыня, где ничего живого нет и быть не может.
И не важно, какую цель он преследовал. Возможно даже, это было Светлое Счастливое Будущее Всего Человечества. Важно, что остался он один, как перст. И вернуться уже некуда и не к кому.
