Будем жить!
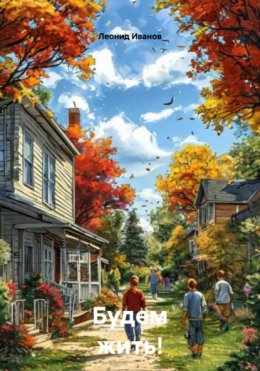
Повесть
Оптимизму больных раком посвящается.
Глава 1.
Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович подождал, пока водитель обежит вокруг «Ленд крузера», услужливо открыв ему дверку, и вальяжно выпростал своё грузное тело из салона. За шесть лет, что он не был в онкологическом центре, этот «раковый корпус», как с недоброй шуткой называл Дмитрий Иванович печальное лечебное заведение, здорово изменился. Некогда обшарпанные стены зданий больничного комплекса радовали глаз не очень яркой расцветкой сайдинга, территория оказалась благоустроена, в центре поставлены красивые кованные скамейки, по аллейкам с жидкими деревцами ровными рядами выстроились такие же кованные фонари, стилизованные под старину. И только у самого шлагбаума на въезде на территорию по-хозяйски распласталась большая лужа.
– Вот это по-русски, – с раздражением подумал солидный посетитель, которого всегда и во всём прямо-таки бесили глупость, тупость и неаккуратность. – Хотя, как ни украшай, всё одно – тоска страшная. Не дай бог загреметь сюда снова!
Он бы и сегодня не приехал в это заведение на окраине города, если не вчерашний звонок. Уже три с лишним месяца отбивался Дмитрий Иванович от рейдерких атак. Два года назад он выступал на совещании у губернатора и рассказывал, какие перспективы может сулить его производство, если вложить в него некоторую сумму на приобретение небольшой линии и немножко дать на оборотные средства. Банки в условиях кризиса мало того, что взвинтили проценты до умопомрачения, от предоставления длинных кредитов все, как один, отказывались напрочь. Потому очень удивился предприниматель, когда через неделю на его мобильный раздался телефонный звонок, и девушка нежным голосом сообщила, что с ним хочет встретиться заместитель губернатора. Еще через неделю после этой встречи, где он, оперируя конкретными цифрами, рассказал, что всего лишь триста миллионов рублей кредита дадут городу три десятка рабочих мест, а через два года он вернёт деньги и начнёт платить в бюджет в два раза больше, чем сегодня. Еще через неделю вопрос с кредитованием из областного бюджета, даже без решения законодательного собрания был урегулирован.
Предприятие буквально на глазах преобразилось и вскоре стало очень лакомым куском, поэтому на него сразу же начали разевать рот со всех сторон. Не надо было обладать недюжинным умом, чтобы понять, откуда дует ветер. И дураку было понятно, что вложив деньги в развитие, чиновники хорошо продумали план фиктивного банкротства ради приобретения готового производства через афилированные фирмы за копейки. Дело начало набирать уже такие обороты, что пришлось подключать все рычаги. Вот и вчера, отвалив больше сотни тысяч местной телестудии за получасовую передачу, он в прямом эфире рассказывал популярному ведущему о создавшейся ситуации. А едва вышел из студии, включив телефон и еще не успев положить его в чехол на поясе, услышал звонок.
Голос в трубке спросил:
– Дима, ты жить хочешь?
– Ну, началось! – подумал Дмитрий Иванович. – Похоже, после передачи, в которой откровенно рассказал о сложившейся ситуации и сделал прозрачные намёки на крупных чиновников, захватчики перешли к открытым угрозам. Хорошо, что жену отправил к тёще в Ригу, а сын уже три года живёт в Германии. Ну, а сам как-нибудь справлюсь.
Пока раздумывал, голос снова спросил:
– Так я спрашиваю, ты жить хочешь?
С каким-то непонятным задором он ответил:
– А хочу!
– Тогда завтра срочно ко мне!
– Володя, это ты что ли?
– А ты думал кто?
– Да тут у меня ситуация такая складывается, что не знаешь, на кого и подумать. Извини, старик, я тебя сразу не узнал.
– Я тебя в телевизоре тоже не узнал. Извини за прямоту, но вид у тебя кошмарный. Может, конечно, и свет в студии неудачно выставили, но мне твоя физиономия жутко не понравилась.
– Коли ты смотрел передачу, то понимаешь причину.
– Да мне твой бизнес по хрен! Я про здоровье.
– Понимаешь, недели три уже температура за 38, и никак сбить не могу. И, понимаешь, вроде бы опять с желудком проблемы те же самые. Болит. Наверно, опять надо лишнее отрезать.
– Короче, Склифосовский, завтра к 9 ко мне. Там разберёмся, что тебе отрезать, а что наращивать.
– Володя, к девяти никак не могу. Дай подумать. Вот в два я у тебя буду. Обязательно!
– И готовься к тому, что может придётся пару недель полежать.
– Ну, это никак не получится. Слышал, какая у меня ситуация? За пару недель тут всё растащат по винтику.
– А не ляжешь, твои винтики тебе уже не понадобятся. Я может быть и ошибаюсь, но, согласись, по пустякам я бы тебя не дергал. По лицу видно, что у тебя со здоровьем проблемы серьезные. Как бы не пришлось снова под нож ложиться.
– Неужели рейдеры, зная, что у меня шесть лет назад вырезали рак, и друзей моих уже подключили в своём стремлении захватить производство? – думал потом Дмитрий Иванович по дороге домой. – Нет, на Володьку это не похоже. Они дружат с детства, вместе хоть и не часто ездят на охоту, изредка, чаще не позволяет занятость, проводят вместе выходные в его загородном доме. Значит, что-то Айболит действительно усмотрел даже через телевизор, коли так срочно приглашает. Они действительно давно не виделись – из-за проблем с бизнесом уже три месяца было не до бесед с друзьями. И вот он приехал в онкоцентр к своему старому другу, который шесть лет назад делал ему операцию по удалению злокачественной опухоли.
– Неужели снова операция?
Тогда он попал в руки докторов, по их словам, очень вовремя. После операции не потребовались ни химия, ни облучение. И Дмитрий Иванович уже уверовал, что все угрозы остались позади. Более того, он почти напрочь забыл о своих несчастьях, и только уже почти незаметный шрам через весь живот напоминал о «предварительном звонке с того света».
–Ладно, бог не выдаст, свинья не съест! Может просто Вовка, этот хирург от бога, ошибся, и всё образуется. А температура из-за того, что где-то простыл.
Пока Дмитрий Иванович обходил лужу, аккуратно ступая своими лакированными туфлями по узкой сухой полоске асфальта у самой стены проходной с одетым в тёмную форму охранником, пустыми глазами бездумно глядящим на снующий туда-сюда народ, из-за угла девятиэтажного корпуса показалось несколько машин. Впереди шла «газель» с трафаретом на лобовом стекле «Груз 200», за ним ещё один микроавтобус и большой автобус с одетыми в черное пассажирами.
– У них тут что, свой ритуальный зал что ли имеется? – удивленно подумал Дмитрий Иванович. – Неужели здесь умирают так часто, что даже пришлось оборудовать зал для прощания? А вообще, кажется, встреча с похоронной процессией – примета плохая. К несчастью, вроде… Надо будет посмотреть в интернете.
И хотя в приметы Дмитрий Иванович не верил, неприятный осадок на душе остался.
Глава 2
Ильдар.
Огромный комплекс девятиэтажных зданий и строений пониже, как только Ильдар вышел из маршрутки и осмотревшись прочитал вывеску «Областной онкологический центр», своей массивностью и размерами напугал, даже заставил пригнуться, втянуть голову в плечи, чтобы быть менее заметным, как в ожидании неведомой опасности. Но мысль тут же услужливо подкинула спасительное размышление. «Так ведь в этих зданиях, поди-ка, не одна сотня пациентов, а то и тысяча, – думал Ильдар. – Не может быть, чтобы все они были безнадежными! Наверняка, безысходность сильно преувеличена. Ну, не умирают же люди от рака тысячами только в одной области! Есть, конечно, и такие, не без этого. Но ведь народ умирает не только от рака».
Ильдару умирать от рака таким молодым, когда едва перевалило за тридцать, совсем не хотелось. Да как же это может такое быть? Жена, что, в двадцать пять останется вдовой, а двухлетняя дочь – сироткой? Но ведь это же совсем несправедливо!
Спросил у охранника, стоящего на входе на огороженную высоким чугунным забором территорию, куда надо идти с направлением. Тот махнул рукой влево: «Приёмное отделение – там. За угол завернёшь, увидишь».
Ильдар шёл по выложенной узорчатыми плитками неширокой дорожке и думал: «Приёмное отделение, приёмный покой, вечный покой…». Насколько велико временное расстояние между этими двумя определениями? И на сколько лет оно растянется для него, простого деревенского жителя? Но может всё-таки в районе врачиха Анна Степановна ошиблась, и нет у него никакой опухоли? Тем более – злокачественной. И понапрасну убивалась эти дни его жена Айгуль и ходила сама не своя, занятая тяжкими думами.
Чего не было в приёмном отделении или как его там – приёмном покое, так это покоя! Люди в белых халатах сновали туда–сюда по коридору, забитому народом, стоящим в ожидании приёма, кто-то пытался пролезть без очереди, кто-то ворчал на устроенный бардак, ругал власти всех уровней, которые не могут сделать самого элементарного, чтобы навести порядок, кто-то заводил перепалку с хитромудрыми ловкачами, норовящими прошмыгнуть в заветный кабинет раньше других.
– Что у Вас? – раздражённо спросила молодая женщина в белом халате, едва он оказался возле окна регистратуры.
– Вот, направление к вам из района, – и подал заблаговременно вынутую из кармана и бережно разглаженную на широком пластмассовом прилавке бумагу, у которой, как ни старался быть аккуратным, загнулись уголки.
– Ну, и что ты тут мне суёшь? Видишь, написано же: паспорт, страховой медицинский полис, страховое пенсионное и паспорт. К тому же у нас приём ведётся строго по предварительной записи.
– А Денис Михайлович сам при мне сюда звонил и записывал в очередь на сегодня.
– Ну, если сам Денис Абрамович! – произнесла с издёвкой женщина.
– Денис Михайлович, – поправил Ильдар.
– Ну, и кто он такой, твой Денис Михайлович?
– Главный врач нашего района. – Считая, что уж эта должность непременно возымеет воздействие, Ильдар суетливо полез в карман, достал бумажник, торопливо вынул нужные документы и протянул в окошечко, вырезанное в толстом стекле, отделяющем работников регистратуры от нетерпеливой толпы пациентов.
– Карточка есть?
– Какая карточка? – не понял Ильдар.
– Ты что, как нерусский? Раньше у нас бывал? Карту на тебя заводили? – уже совсем раздраженно вопрошала женщина.
– А-а! Нет, не бывал. Первый раз.
– Тётя Вера, заведи на новенького карточку, – повернула голову к работающей рядом соседке недовольная сотрудница, подвинула по столу документы.
– Кто следующий?
Соседка, женщина давно пенсионного возраста, минут пять что-то писала, заполняя какие-то бланки, потом взяла документы Ильдара, посмотрела на него удивительно добрыми, будто от слёз полинялыми серыми глазами и начала заводить медицинскую карту. Писала она неторопливо, старательно, аккуратно выводила каждую буковку.
– Шарапов? Это что, родственник что ли тому Шарапову, который в кино про бандитов был?
– Нет, не родственник. Просто однофамилец, – ответил Ильдар, и на душе почему-то стало немного светлее.
Заполнив карту, бабуля положила её на стопку других таких же и сказала:
– Кабинет 103, вон там. Иди, занимай очередь. Потом вызовут. Но можешь сегодня и не успеть. Хирург один, а вас вон сколько!
– А 103-й это на каком этаже? – переспросил Ильдар.
– Так на первом же! Чего тут не понятного? – ввязалась в разговор недовольная сотрудница, что принимала документы. – Вот деревня! Ни фига не соображают.
Ильдар пошёл вдоль по коридору в указанном направлении и через два поворота вышел в просторный вестибюль, тоже, как коридор, забитый народом. Вдоль стен были расположены больничные, обитые дерматином, широкие лавочки, на которых сидели совсем уж немощные пациенты, те, кто помоложе и поздоровее, стояли кучками посередине или от безделья рассматривали лекарства установленного тут же аптечного «аквариума» и читали заголовки газет почему-то закрытого газетного киоска.
Приём вели в двух кабинетах. На двери одного синела табличка «Маммолог», на другой под нужным Ильдару номером 103, красовалась такая же яркая надпись «Хирург». В первый почему-то заходили только женщины на вид в основном лет этак от тридцати до сорока пяти, в 103 стояли мужчины и женщины. По большей части – солидного возраста. Некоторых сопровождали родственники, и вместе со своими престарелыми родителями заходили внутрь, узнать от доктора о дальнейших действиях, потому что не надеялись на слабеющую память самих пациентов.
В очереди в основном говорили о своих болячках, о множестве народных рецептов, которыми знакомым знакомых удавалось излечиться от рака. Слева бабуля диктовала женщине схему приёма болиголова, которым готова поделиться, потому что уже три года выращивает на своей даче, справа мужчина доказывал благотворное воздействие на организм свекольного сока, что излечил одного дальнего родственника. И если у него сейчас тоже признают рак, он теперь знает, как от него избавиться.
Невольно слушая эти разговоры, Ильдар всё же больше был занят своими невесёлыми мыслями. Вот говорят, что основной причиной онкологических заболеваний является экология. Но он-то всю свою недолгую жизнь, за исключением ПТУ, где за два года получил корочки тракториста, прожил в самой что ни есть благоприятной и экологически чистой зоне. В их селе, что относится к отрезанному болотами и бездорожьем от Большой земли Заозерью, нет не то что вредных производств, нет вообще никакого производства кроме сельскохозяйственного. Испокон веков люди жили тут натуральным хозяйством, пахали землю, разводили скот, ловили в многочисленных озёрах рыбу. Он еще был совсем мальчишкой, но помнит, как в советские времена раз в неделю за ней прилетал гидросамолёт, но потом эти рейсы оказались нерентабельными, и рыбу люди стали ловить исключительно для себя. Ею можно было бы кормить свиней, но население в основном состояло из татар, и потому разводили в Заозёрье в основном коней, да выращивали телят. С наступлением зимы, когда промерзали болота, и появлялась дорога, скот вывозили в ближайшие города на мясокомбинаты или ждали заготовителей с Севера. Правда, эти северяне были родом с Кавказа и для не умеющих торговаться селян безбожно занижали закупочные цены. Зато они избавляли от хлопот с поездками да торговлей на рынках, где чаще всего приходилось отдавать всё оптом таким же расторопным носатым и шумным покупателям, что чувствовали себя в мире торговых отношений не только опытными дельцами, но и хозяевами.
Как оказалось, эти дети гор захватили не только рыночную торговлю. Когда вчера по приезде в область Ильдар сунулся было в ближайшие к автовокзалу гостиницы, они и там тоже были владельцами. И за ночь в самом скромном номере надо было отдать столько, сколько Ильдар зарабатывал за неделю. Поэтому он решил переночевать в пластиковом кресле зала ожидания, но в десять вечера, после отправления последнего междугородного автобуса, его попросили покинуть помещение.
На ночь устроился в таком же кресле на вокзале железнодорожном. Посмотрел в буфете у опять же очень загорелого от природы торговца цены и подивился, как люди умеют делать деньги. Четыре кусочка поджаренного мяса на деревянной палочке стоили ровно столько, сколько платили в их селе закупщики за два килограмма телятины в живом весе. Благо, жена положила в дорогу пакет с едой, но пожевав всухомятку, захотелось пить. И хоть жалко было денег, но пришлось взять стаканчик чая из пакетиков по цене двух буханок хлеба в их приткнувшемся прямо к пекарне заозерском сельмаге.
… Очередь Ильдара к хирургу подошла только к половине третьего. Перед ним вошла надменного вида богато одетая женщина лет пятидесяти с многочисленными перстнями и кольцами на пальцах. Держалась она особняком от всех, в разговоры не вступала и к двери, после того, как оттуда торопливо вышел очередной пациент и, глядя на часы, заторопился влево по коридору, подошла гордой походкой, высоко держа голову. Но у самой двери, прежде, чем постучаться, как-то сразу сникла, робко дважды ткнула костяшками в белый пластик, втянула голову в плечи и в этаком подобострастном полупоклоне шагнула внутрь: «Будьте добры, разрешите, пожалуйста?»
Вышла она минут через десять совсем другим человеком, будто бы разом постарев лет на десять. Опустив голову, побрела по коридору, чуть не натыкаясь на стоящих в очереди пациентов и по-прежнему снующих туда-сюда работников младшего персонала.
В кабинете были мужчина и женщина. Она что-то торопливо писала, он равнодушно посмотрел на вошедшего и голосом безмерно уставшего человека негромко произнёс:
– Присаживайтесь.
Ильдар сел на указанный стул возле стола и стал ждать, пока доктор пролистает принесённые ему из регистратуры документы, мельком пробежал взглядом направление из районной больницы.
–Раздевайтесь до пояса и ложитесь на кушетку.
Ильдар быстро сбросил свитер, футболку, снял ботинки и лёг на спину на холодную клеёнку кушетки. Хирург помыл руки, пощупал живот, помял его в разных местах, спросил, где болит, снова помыл руки и сел за стол.
– Проведём дополнительные обследования. Если потребуется, прооперируем. Ночевать есть где?
– На вокзале. Я и эту ночь там провёл, – поторопился пояснить Ильдар. – Ничего, даже поспал часа три.
– Да нет, батенька! – сказал доктор, обращаясь к пациенту совсем как в старых фильмах про дореволюционную Россию. – В твоём случае – это не лучшие условия для ночлега. Подожди минуту.
Он набрал три цифры внутреннего телефона, спросил, есть ли места в комнатах для приезжих, потом снова набрал три цифры:
– Володя, я тебе сейчас пациента из района направлю. Посмотри, куда его можно пристроить. Да знаю я, что нет мест. Парень и так уже одну ночь на вокзале ночевал. Устрой хоть в вестибюле на диван, а завтра выпишешь кого, и на его место положишь. Надо, Володя, очень надо! Хорошо! Спасибо! Так, давай сейчас иди по коридору влево, поднимайся на второй этаж, там тебя устроят. Скажешь, документы сестра чуть позднее занесёт. Вещи с собой? Всё, топай. Да скажи, пусть следующий заходит.
Так началась для Ильдара жизнь в онкологическом центре.
Глава 3.
Вадим
– До чего же стремительно летят годы, неотвратимо приближая жизнь к логическому завершению, – думал Вадим Альбертович, отвернувшись к стене, чтобы не включаться в разговоры соседей по палате. – Вот, сколько ему ещё теперь осталось? Несколько месяцев, год, два, три? А может десять? Эк, загнул! Да десять и без такого диагноза прожить – это уже за чужой счёт, потому что по статистике русским мужчинам отведено всего пятьдесят девять. Пятьдесят девять! Ну, всё правильно! Может как раз и дотяну до среднестатистического показателя. И вроде ничего уже на этом свете не держит, а уходить жалко. Пролетела жизнь! Промчалась со скоростью одной из тех комет, что то и дело бороздят тёмное августовское небо, вспыхнув на мгновение и тут же угаснув, оставляя в полёте свой моментально исчезающий свет. Что его держит? Работа? Да будь она трижды проклята! И будь проклят тот день, когда он, с раннего детства мечтающий стать геологом, поддался на уговоры друзей и пошёл в кинотеатр на только что вышедший на экраны фильм «Журналист». И всё! О геологии с её романтикой он больше не вспоминал – он теперь непременно хотел стать журналистом. Только журналистом и никем больше!
Нет, журналистику он потом искренне полюбил, она дала ему возможность очень много поездить, познакомиться с удивительными людьми, ставшими героями его очерков, своими глазами увидеть, как варят сталь, и как добывают нефть, побывать в огромных цехах машиностроительных предприятий и у конвейера скромных кондитерских фабрик. Всю жизнь он учился у своих одарённых коллег, с одними будучи знаком лично, других зная только по журнальным и газетным публикациям. Искренне завидовал замечательным материалам и жалел, что так содержательно и увлекательно не получается у самого, и стремился, стремился подниматься к вершинам мастерства. Потом уже и сам стал признанным журналистом, параллельно преподавал на факультете журналистики, помогал молодым ребятам-практикантам делать первые шаги в профессии, уговаривал девушек искать другую стезю, потому что журналистика – дело мужское – она заставляет сопереживать вместе с героями, вторгаться в чужую жизнь, выступать в защиту несправедливо обиженных, трепать нервы до полного изнеможения. Именно эти факторы заставляют снимать стресс водкой а потом становятся причиной того, что самые способные, самые одарённые спиваются и очень рано уходят из жизни. Журналистика требует от человека полной самоотдачи. В ущерб отдыху, семье, увлечениям.
Впрочем, увлечения тоже бывают разные – от собирания почтовых марок до рыбалки, охоты и женщин. Его увлечения женским полом работе не мешали. Наоборот, они каждый раз придавали хороший заряд бодрости, вливали столько энергии, что он чувствовал себя на вершине покорённой горы, с которой виднелись далеко внизу перистые облака. Эти увлечения заставляли Вадима Альбертовича изощряться в написании каждого материала настолько, чтобы он обязательно понравился очередной пассии, заставил её с ещё большим пиитетом относиться к нему – мастеру слова.
Эти увлечения всю жизнь молодили его, потому что его пассиями были в основном студентки и практикантки, мимолетные, на один раз, знакомые из бесконечных командировок. И даже в возрасте за пятьдесят Вадим Альбертович, да какое там к чёрту Альбертович, он всегда и для всех в редакции был просто Вадимом, а по отчеству к нему обращались только чиновники, да и то лишь на официальных мероприятиях, оставался предметом воздыхания многих женщин самого разного возраста.
Женился Вадим вскоре после окончания университета. Как обладатель красного диплома имел право выбора. Журналисты требовались в Мурманске, Кузбассе, на БАМе, но Вадим выбрал Западную Сибирь. Именно здесь, по его мнению, тогда жизнь била ключом. Здесь силами всей страны осваивались непроходимые болота, в далёких глубинах которых находились несметные запасы нефти и газа. Здесь ставили буровые вышки, прокладывали трубопроводы, пробивали сквозь непролазные топи дороги, строили новые города. О чём ещё мог мечтать молодой романтичный выпускник журфака, кроме как с головой окунуться в эту настоящую, бурлящую, наполненную смыслом и созиданием жизнь? И хотя Вадиму предлагали остаться на кафедре, его приглашали в редакцию самой интересной на то время газеты «Смена», он без сожаления оставил Ленинград и поехал в Тюмень, где в областной газете была вакансия корреспондента отдела промышленности. Друзья отговаривали и в то же время завидовали.
Там, в Тюмени, он сразу влюбился в свою работу, что бросала его из одного трассового посёлка в другой, мотала по тайге и тундре, пересаживала с вертолёта на вахтовку, с неё – на идущий несколько суток по зимнику без остановки на ночлег плетевоз с трубами для строящегося газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», о котором трезвонили наверное все газеты Европы. Он спал в кабинах грузовиков, на постелях уходящих в ночную строителей, на жестком диванчике аэродромного домика. Писал свои репортажи в самых невероятных условиях, даже пристроившись возле непрерывно горящей печурки утепленной армейской палатки на сорок человек. Написанные карандашом, потому что ручки на морозе становились ненужными, эти свои материалы отправлял попутными рейсами вертолётов, там лётчики пакет передавали своим коллегам с транспортных самолётов, и вот так, окольными путями репортажи добирались до редакции и сразу занимали место на полосах. Иногда поздними вечерами, там, где была хотя бы отвратительная ведомственная связь с Большой землёй, диктовал свои тексты редакционной стенографистке – легендарной Вере Сергеевне.
К журналистам на Севере относились почтительно, с должным уважением, потому что они были здесь в доску своими, вместе со строителями, буровиками, шоферами и вертолётчиками делили нелегкий быт и немудрёный обед, нередко состоящий из разогретых банок каши с тушенкой да оттаявшего у печки хлеба. Они так же смело пили неразбавленный спирт, слушали задушевные откровения, сами заводили умные разговоры.
Однажды, после вот такой двухнедельной командировки, немного одичавший без привычной цивилизации, Вадим, пропаренный и отмытый в лучшей в городе железнодорожной бане, нечаянно оказался в гостях на дне рождения девушки одного из его коллег. Там и потерял в очередной раз свою голову.
На Лизу он обратил внимание сразу же. Чем-то особенным она выделялась среди своих подруг. Чем, он даже не понял. Но выделялась. И он начал «бить крылом». По совету друзей, он прихватил с собой гитару, и после обязательных тостов за именинницу, её родителей, за любовь и за девушек, Вадим начал петь. Известные песни Высоцкого он перемежал своими, сочинёнными еще в студенческие годы и написанными совсем недавно, во время бесконечных северных командировок.
Как обычно во время таких импровизированных концертов в тесных компаниях, он увлекался настолько, что полностью уходил в себя. Были только он сам и его песни. И ничего вокруг.
А когда отложил гитару, взял поданную ему рюмку и, чокаясь со всеми, посмотрел в глаза Лизы, сразу понял, что попал в омут.
В этом омуте его закружило, утянуло на дно. Через две недели (редактор уговорил заведующую ЗАГСом оформить заявление задним числом) в редакции играли комсомольскую свадьбу. И полетела жизнь дальше, только уже с новыми обязанностями и новыми попутчиками. Вскоре родилась двойня, потом ещё мальчик, Вадим стал заведующим отделом, редактор для молодого и перспективного сотрудника, к тому же многодетного отца, выхлопотал в обкоме трёхкомнатную квартиру.
Но освоение недр интенсивно продолжалось, командировок меньше не становилось, и в этих постоянных отлучках, а выходные были заняты написанием материалов, Вадим как-то не сразу заметил, что дети, воспитываемые в основном бабушкой, быстро растут, что у жены интересы больше крутятся вокруг её работы в музее изобразительных искусств. Он был весь в работе и очень быстро стал заместителем редактора, был включён в кадровый резерв обкома, но жизнь внезапно сделала крутой поворот.
В соседней области случился большой скандал с участием редактора партийной газеты. Его вышибли из членов бюро обкома, предложили уйти на пенсию по собственному желанию, а предварительно уволить и своего замешанного в скандале заместителя. Вадима пригласили в отдел пропаганды обкома, где в кабинете заведующего в присутствии заведующего сектором печати объяснили, что им очень дорожат, но в отделе пропаганды ЦК есть мнение перевести его в соседний город и назначить редактором. Оба первых между собой уже переговорили и на такой перевод согласны. С жильем там пока вопрос открыт, но в течение полугода тоже будет решен.
Несмотря на то, что Вадима переводили в город с миллионным населением, именуемым центром культуры и искусства, жена переезжать наотрез отказалась. Тут у неё постоянно болеющая мать, тут учатся дети, а срывать их не резон, тем более, что ещё неизвестно, понравится ли там ему самому, приживётся ли он в новом коллективе. Ведь коллектив редакции, который сожрал редактора вместе с замом, наверняка рассчитывал на кого-то из своих и варяга не примет.
Коллектив принял. Правда, всё действительно оказалось не так просто. Но Вадим человеком был не конфликтным, компанейским, быстро уловил настроения коллег и понял причину их недовольства предшественником, умело нейтрализовал неформального лидера, сделав его своим замом. И бурный конфликт, в ликвидации которого оказались задействованы самые высокие инстанции, очень быстро угас. А когда Вадим через полгода отказался от предоставленной ему квартиры в пользу живущей в общежитии семьи одной сотрудницы, его зауважали даже те, кто относился с предубеждением.
Самого же его устраивала комната в обкомовской гостинице. Первое время он ездил домой каждый выходной, потом из-за неотложных дел стал ездить реже, а затем и вовсе появлялся не чаще раза в месяц, да и то на праздники. Так и жили они семьёй, которая существовала, по сути, только формально.
Крутить романы, особенно в первое время, он опасался. Именно амурные истории предшественника стали той искоркой, от которой разгорелось пламя большого скандала. К себе в обкомовскую гостиницу, где он занимал хороший номер, гостей приводить тоже было нельзя, потому что персонал, он в этом ничуть не сомневался, о каждом шаге своих постояльцев, об их моральном облике, докладывал не только своему начальству, откуда информация обязательно шла наверх, но и в соответствующие органы, без пристального внимания которых не оставался ни один из номенклатурных работников.
Но романы были. В основном мимолётные, без взаимных обещаний и обид. Как правило, заводил их Вадим (хотя скорее всего, он был лишь тем кроликом, которого гипнотизировали, чтобы заглотить, ведь выбирает всегда женщина) с особами молодыми, но замужними. А им самим огласка была совсем ни к чему. Он в этом случае сохранял лицо перед заботящейся о моральном облике своих членов партией, они блюли реноме перед мужьями.
А потом партия в одночасье рухнула, но партийная газета осталась, хотя тут же появилось множество других. Но те, как правило, возникнув на короткое время, сыграв свою роль по проведению очередной выборной кампании, растворялись в небытие, уступая место новым болидам, промелькнувшим ярким светом и облившим нечистотами какого-нибудь политика.
Вадим по-прежнему был человеком авторитетным. Он не лез в депутаты, откровенно не поддерживал тех или иных прорабов перестройки, сохранял возможность относительной независимости газеты, убеждал сотрудников искать интересные читателям темы, избегая так называемой «чернухи», по-прежнему заступался за обиженных, изобличал прохиндеев, пытающихся нажиться в мутной воде неразберихи с приватизацией. Такие же борцы появлялись на экране телевизоров на местных каналах, что стали быстро множиться, но тоже сыграв свою роль, отбывали в столицу с солидными суммами гонораров. Он же оставался и набирал вес правдолюбца, честного человека, которого не могут подкупить ни власть, ни рвущиеся к ней. Стал часто выступать по телевизору в разных программах, давать интервью, постоянно мелькать в кадре, превращаясь в хорошо узнаваемого в городе человека. Он сохранял центристские позиции, не шарахался ни вправо, ни влево, но только сам знал, каких трудов и скольких нервов это ему стоило. Тем более, что по сути не с кем было поговорить, излить душу.
Будь он человеком верующим, каковыми стали хотя бы для вида, чуть не все современные политики, он бы мог поговорить со своим духовником и снять часть тяжести взваленного на крепкие плечи груза. Но духовника у него не было, а настоящие друзья, кому можно было бы полностью довериться, жили далеко. В этом большом и шумном городе, хоть и в несколько раз уступающем его родному Ленинграду, настоящими друзьями он так и не обзавёлся. Жена, если ещё можно было так назвать Лизу, что женой оставалась только формально, наверное бы его поняла, посочувствовала, но и она была далеко. Причём, далеко не только из-за разделявшего их расстояния.
Мимолётным подругам, их у него было немало, свою душу он тоже никогда не открывал. Не жилеткой для слез приходили они к нему в холостяцкую квартиру. Они являлись для весёлого отдыха, для расслабления и для секса, что для этих девиц со свободными нравами было совсем не чуждо. И разница в возрасте в два с лишним раза их совсем не смущала – были бы у временного избранника деньги да мужская сила.
Она у Вадима ещё была, но такие развлечения давно уже не приносили ему радости. Если какое-то время назад, в театре или на концерте он гордился, что рядом с ним находится красивая молодая девушка, радовался не только завистливым взглядам мужчин своего возраста, но и осуждающим взглядам их спутниц, то теперь и это не доставляло удовольствия. Он нередко появлялся то на выставке, то в филармонии с очередной смазливой спутницей, развлекал её, потом привозил домой, а наутро прощался без тени сожаления, что уходит она может быть навсегда. Он никогда таким девушкам не звонил, но и не отказывался от новой встречи, если они объявлялись сами.
А хотелось покоя, стабильности, верной и понятливой спутницы. Лиза была такой, но она всецело была занята внуками.
Глава 4.
Дед Коля
Татьяна тихо ушла в самом конце зимы. И не болела вроде бы, не жаловалась на хвори, и дед Коля не видел, как она тайком пила какие-то таблетки, а иногда будто просто так потирала ладонью левый бок. О своём нездоровье, как потом выяснилось, не говорила она ни слова ни сыну, ни дочери. Только однажды утром, проснувшись, как давным-давно было заведено, ровно в семь часов, дядя Коля не услышал привычного звона посуды на кухне. Сел, покрутил головой, как советовал когда-то давно один знакомый, утверждая, что таким образом улучшается кровоснабжение головного мозга, с лёгким кряхтением поднялся, потёр смолоду побаливающую поясницу, нащупал тапочки, всунул в них свои босые ноги и, шаркая, отправился на кухню.
Татьяны там не было. Не было на плите и свежесваренной каши, ставшей привычной в их утреннем рационе.
– Видать, захворала моя старушка, – заботливо подумал дед Коля и, чему-то улыбаясь, отправился к жене, с которой они давно уже спали в разных комнатах, чтобы не тревожить друг друга храпом или кашлем.
Жена лежала на спине, держась правой рукой за левый бок. Голова её была запрокинута, рот открыт, будто в попытке докричаться до спящего за стеной мужа. Даже не дотрагиваясь до тела, дядя Коля понял, что жена оставила его доживать на этом свете одного.
После похорон и поминального обеда, когда соседки-старушки разошлись по домам, напоследок скорбно вытирая слёзы и одинаково вторя, что, слава богу, не намаялась Татьяна, прибрал господь с миром. Говорили, что, конечно, могла бы ещё жить да жить при её-то здоровье, да, видать, так было судьбой определено. Другие кивали головами, мол, им тоже не много осталось на этом свете. У порога откланивались и уходили каждая к себе со своими скорбными мыслями о бренности жизни.
А когда народ разошёлся, начался семейный совет. Светка, сноха, сразу заявила, что деду надо сегодня же переезжать к ним, не гоже одному, старому да немощному, век вековать. Квартиру можно сдавать – вон сколько объявлений от желающих. Хоть и хрущёвка, но трёхкомнатная, и не беда, что кухонька крохотная да одна комната проходная. Люди и такой рады. И русские семьи жильё ищут, и кавказцы. С этих можно запросить даже больше, потому что дом неподалёку от рынка, вот только загадят они чужое жилье, как пить дать. Потом скоблить да чистить долго придётся.
Танька, дочь, с тем, что деда надо забирать, была полностью согласна. Но женщины расходились в том, у кого отец будет жить.
– Мы папу к себе забираем, – безапелляционно заявила дочь. У нас и район тихий, и парк рядом, так что есть куда погулять выйти.
– Так у вас же двухкомнатная квартира на троих, куда вы деда-то поселите? – запротестовала Светка.
– А мы деду маленькую комнату отведём, а Серёжку сюда поселим. Парню уже жениться пора, пусть привыкает самостоятельно жить.
– Ну, если на то пошло, у нас тоже Наташка на выданье, тоже стесняется кавалеров приводить. Пусть дедуля её комнату занимает, а она здесь поселится. И университет рядом, и работа в двух кварталах.
– Нет уж! – категорично заявила Татьяна. – Папулю мы забираем к себе. Всё-таки родная дочь лучше снохи, что бы ты ни говорила.
Разговор начинал обретать форму скандала. Дед Коля поднялся из-за стола:
– А что вы тут распорядились-то? Я никуда не собираюсь. Дайте мне спокойно помереть в своём доме.
– Ага, а кто тут за тобой прибираться станет? – взвилась Татьяна. – Мы сюда каждый день не наездимся. Не близок крюк с работы сюда таскаться.
– Таня ведь правду говорит, папа, – поддержала Светлана. – У нас же дома свои дела, да и на работе так выматываешься, что никаких сил нет, а ещё к тебе сюда ездить.
– Вот что, милые мои, я никого и не прошу сюда ко мне, как Танька сказала, таскаться. Я не маленький, сам себя обихожу, силы, слава богу, ещё есть. И разговоры о моём переезде вы тут напрасно затеяли. Мы с Татьяной тут сорок лет прожили, тут и помрём оба. Она, царствие ей небесное, ушла с миром, да и мне немного осталось. А потом, что хошь делайте.
Дед Коля повернулся и пошёл из залы в свою комнату. Всё это время молчавшие мужчины тоже поднялись и пошли на площадку выкурить по сигарете. У сына и зятя тоже были свои мнения по поводу дальнейшей судьбы деда, где и с кем ему доживать, но ни тот, ни другой в разговор жён не встревали. Их супруги не спрашивали, а если бы и спросили, то вряд ли прислушались.
На второй день, когда на двух машинах съездили на кладбище и вернулись домой, едва только женщины уже в присутствии своих взрослых детей затеяли разговор о переезде, дед Коля и с небывалой раньше строгостью пресёк их доводы и аргументы, взял с полки какую-то толстую книгу и ушёл в свою комнату, демонстративно громко притворив дверь.
Первое время сын и дочь звонили каждый день, справлялись о здоровье, спрашивали, что готовил на обед, чем ужинал. После девятого дня звонки постепенно перешли с ежедневных только на воскресные. Раз в неделю забегала после лекций внучка Наташка, иногда с подружками. Пили в зале чай, потому что на тесной кухне за крохотным столиком места было только на двоих, весело щебетали о своих университетских делах, жаловались деду на строгость молодых преподавателей, хихикали по поводу нерадивых кавалеров и шумной стайкой убегали по своим молодым делам.
Время от времени заезжал внук Серёжка. Но это были только визиты вежливости. Он отказывался от чая, сидел на диване, справлялся о самочувствии, беспрестанно кому-то звонил и пикал кнопками, отправляя смс-ски, спрашивал, не надо ли чем помочь, в магазин там сходить или ещё что, а когда дед от его волонтёрской помощи отказывался, ссылаясь на массу дел, уходил с обещанием как-нибудь заглянуть снова.
Иногда заезжали и сын с дочерью. То ли они сговаривались заранее промеж собой, то ли так получалось, но каждый раз объявлялись врозь. Только на сороковины дети и внуки сидели за общим столом, а после будто чёрная кошка промеж них пробежала. Дед Коля не забивал себе голову такими пустяками, и от разговоров о завещании, что заводили и дочь, и сноха, только отмахивался:
– Да что вы меня хоронить-то торопитесь? Не собираюсь я помирать, отступитесь вы от меня. А похороните, потом сами разбирайтесь, кому квартира отойдёт. Другого-то богатства мы не накопили. Да и квартира незавидная – скоро, поди, дому срок годности кончится. Вон в Москве, по телевизору говорят, хрущёвки уже сносить начали. Дойдёт это и до нашего города.
Как-то очень быстро растаял снег, не было даже привычной для весны грязи, начался дачный сезон, сын и дочь наперебой приглашали его на свои дачи, но ехать никуда не хотелось. Это раньше они с Татьяной занимались посадками у тех и других, благо участки находились в одном кооперативе, на них всё лето приходился и полив, и прополка. Дети наезжали только на выходные, да и то можно сказать, с инспекторской проверкой: всё ли сделано, да не созрели ли огурцы и ягоды.
Чаще всего, когда созревал урожай, привозили своих друзей шашлыков отведать да попариться в баньке, которые дед Коля на обоих участках соорудил на совесть. Пенсионерам на дачах тоже было лучше, чем в квартире, поэтому дед Коля с Татьяной всё лето жили за городом в срубленной из брёвен старого дома даче, которую потом отписали сыну. Как-то незаметно и на этой своей даче они стали вроде как не хозяевами, а гостями. Правда, из рубленой половины их никто не выселял, потому что там было теплее, но в выходные всё чаще хотелось уехать в город, чтобы не мозолить глаза семье сына и его друзьям. А уж если заявлялся Серёжка с компанией, Татьяна сразу начинала собираться в город, объясняя, что им с дедом надо было давно проверить, всё ли там в порядке, да только боялись оставить дачу без присмотра.
Дед стариком себя не считал. Силы у него были, всю тяжёлую работу на даче он делал сам, хотя и сын, и зять ворчали, что мог бы их дождаться, но он не любил, когда кто-то мешался под руками. Татьяна тоже на старуху не тянула. Правда, после рождения внука, а потом и внучки, сразу безоговорочно объявила себя бабушкой и старалась во всём соответствовать новому статусу. А уж когда те стали взрослыми, и совсем смирилась со своей старостью.
Конечно, на даче было бы вольготнее, но дед Коля даже не представлял, как он будет один там, где привык быть вдвоём с женой, всего несколько месяцев не дождавшейся их золотой свадьбы. Дома – другое дело. Тут они хоть и были вместе, но больше времени проводили каждый в своей комнате. Дед отдавал предпочтение книгам, а Татьяна – телевизору. И возникшая после смерти жены пустота не так угнетала, как на даче. Дед Коля замкнулся. Он целыми днями сидел с книгами, читал первое попавшее под руку, а когда переворачивал последнюю страницу, не мог вспомнить ни строчки из прочитанного. Текст не отпечатывался в сознании, занятом совершенно другими мыслями.
Старик тосковал. Тосковал сильно, хоть и не подавал вида.
Вот, говорят, перед смертью у человека перед глазами вихрем пролетает вся его жизнь. Дед Коля умирать не собирался, и жизнь перед его глазами не пролетала стремительным мигом, а медленно, как в занудных телевизионных сериалах, которые так любила Татьяна, просматривалась серия за серией. В этих своих воспоминаниях он иногда так отрешался от действительности, что вставал из кресла и направлялся к двери, чтобы напомнить жене о том или ином случае, но сделав два-три шага, останавливался, осознавая, что сказать некому, что он один-одинёшенек в этой сразу ставшей такой ненужно большой квартире.
От этого одиночества начинало ныть сердце. Дед Коля брал со столика валидол, клал его под язык, откидывался в кресле, стараясь переключиться на что-то приятное, но это что-то непременно было связано опять же с Татьяной, и становилось ещё тоскливее.
Хандра наваливалась всё чаще и чаще. В этом своём состоянии отрешённости от мира дед Коля забывал про еду и вспоминал о ней, только когда в животе начинало урчать. Тогда он шёл на кухню, доставал из холодильника пакет кефира, наливал кружку и пил маленькими глотками, только чтобы заглушить чувство голода.
Когда сын или дочь спрашивали, что он ел на обед или на ужин, дед Коля вообще не мог вспомнить, а ел ли хоть что-то, или так и просидел в кресле с открытой книгой, но ворчал в ответ, что, слава богу, на что на что, а на еду его пенсии ему хватает.
К концу лета начал болеть живот. Резь время от времени становилась настолько невыносимой, что хоть старик и терпеть не мог врачей, пришлось идти в поликлинику. Участковый врач дала направление в гастроцентр, где впервые в жизни деду Коле пришлось глотать резиновый шланг. Его выворачивало наизнанку, но медсестра просила потерпеть и с каждым глотательным движением пациента проталкивала противную кишку всё дальше.
И это были не единственные мучения, которым подвергли доктора попавшего к ним руки пациента. После того, как он прошёл полное обследование, оставив в кассе почти всю свою пенсию, выписали деду Коле направление в онкоцентр. Так и оказался старик среди других товарищей по несчастью, диагноз которых люди называли коротким словом рак.
Глава 5.
Фёдор
На злополучные военные сборы Фёдора призвали из резерва только потому, что тот, кого надо было отправить, за неделю до этого сломал ногу. Какая-то косточка в ступне хрустнула, когда неловко оступился на лестнице. И поехал младший лейтенант запаса Фёдор Березин в десантный полк на целых два месяца.
Армейская жизнь его не тяготила, наоборот, он даже в какой-то степени обрадовался предстоящим изменениям в наскучившем однообразии пресной гражданской жизни. Служил он в ВДВ, поэтому надеялся снова ощутить непередаваемое чувство полёта под куполом парашюта, когда душа поёт, а от неописуемого восторга ощущения необъятного пространства хочется кричать во весь голос.
Но начало сборов оказалось более, чем скучным. Каждый день в течение двух недель их снова и снова заставляли укладывать парашюты, потому что половина участников сборов не имела об этом ни малейшего представления. Ещё по два часа они прыгали с тренажёров, натирая ремнями плечи, потом прыгали с вышки, проводили ориентирование на местности, ходили на стрельбы и на инженерную подготовку – учились взрывать бетонные сваи и железнодорожные рельсы, отрабатывали приёмы рукопашного боя.
Правда, потом были и прыжки. И с Ан-2 и с ИЛ-76. Особенно нравились Фёдору прыжки с этого большого самолёта. Перед десантированием он снижал скорость до 300 километров в час, и всё равно воздух казался таким плотным, что из чрева лайнера прыгал, будто на поверхность воды.
Но романтика, как и следовало по логике, что за хорошим всегда следует плохое, закончилась учениями. За четверо суток «диверсантам-партизанам» предстояло ночами пройти более двухсот километров, условно взорвав несколько «стратегических» объектов, охраняемых во время учений солдатами срочной службы.
Как назло зарядили дожди. В чётко определённых командованием местах днёвок, где их проверяли следившие за учениями независимые инспекторы, возле нещадно дымящего от сырых дров костра сушили одежду и обычные кирзовые солдатские сапоги. И надо же было так случиться, что уже на второй день носок правого Фединого сапога оказался настолько близко к огню, что пригорел. А самое неприятное заключалось в том, что в нём образовалась хоть и небольшая, но дырка, через которую влага от мокрой травы сразу же проникала внутрь.
