Темные финансы. Неликвидность и авторитаризм на окраинах Европы
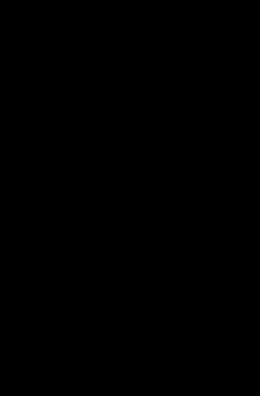
Fabio Mattioli
Dark Finance: Illiquidity and Authoritarianism at the Margins of Europe
© 2020 by The Board of Trustees of the Leland Stanford Jr. University. All rights reserved. This translation is published by arrangement with Stanford University Press, www.sup.org
© А. Белоусова, перевод с английского, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Предисловие редактора
Предисловие научного редактора перевода – не слишком устоявшийся формат. Это не рецензия – ее (наверное) должны делать авторитетные специалисты в области, первые читатели и критики. Рецензия – это первый шаг в рецепции текста в ту или иную интеллектуальную среду. Рецензент при таком взгляде если не нулевой пациент определенной идеи, то по крайней мере ее переносчик. Предисловие – это не краткое содержание: обычно сам автор раскрывает во введении или первых главах текста свой замысел или его структуру. В советском книгоиздании нередко самим книгам предшествовал большой комментарий главного редактора, редактора серии или научного переводчика. Основной сюжет таких предисловий – показать, как стоит читать и понимать публикуемый текст, объяснить, как он встраивается в картину доктрины идеологии. Но был и другой формат, который давал широкий исторический и отчасти антропологический контекст, например тамильского стихосложения в серии «Библиотека всемирной литературы». Существует и тяжелый, строго научный формат предисловий – как в четырехтомной серии «Хозяйства и общества» Вебера. Этот формат описывает проблемы и сложности, с которым сталкивался научный редактор скорее серии, чем книги, дает интерпретации текстов и отдельных глав. Это работа для интеллектуальной верхушки академической и издательской среды. Есть еще версия, когда предисловие – это попытка переосмысления: например, более чем 50-страничное предисловие О. Хархордина к «Нового времени не было» 2006 года. Есть редкий, но красивый формат «предисловие-как-дополнительный-текст» самого автора. Так, в качестве предисловия к «Обществу спектакля» от АСТ используется предисловие к четвертому итальянскому изданию 1979 года. Кажущееся на первый взгляд откровенно архивным и неуместным предисловие оказывается способом упаковать два текста в один, когда основной раскрывается через реакцию автора на рецепцию текста в исторических событиях. А читатель оказывается наблюдателем третьего или четвертого порядка. Кроме того, бывают и переводы без предисловий, но причины их существования для меня являются загадкой.
Теперь, когда проявлены основные виды предисловий, скажу, что это предисловие не является ничем из перечисленного. Свою задачу я вижу не как калибровку того, как стоит понимать историю финансиализации одновременно далекой и похожей Македонии[1]. Я хочу лишь показать контекст и расположить тезисы, от которых можно начать разговор/спор. Я предлагаю читателю не место у костра с обсуждением, а розжиг – кусок сухой бересты или газеты. А задача этого предисловия о предисловиях – правильно позиционировать дальнейшие слова о книге и о ее (возможной) роли.
Чтение предисловия и участие в разговоре является личным делом каждого. Если вы точно знаете, зачем вам эта книга, или, наоборот, хотите читать ее просто как зарисовки из жизни Македонии 10-летней давности, мое предисловие не сможет быть вам полезным. Но если у вас, как и у меня, есть интерес к антропологической работе, к попыткам увидеть за историей Македонии закономерности, я постараюсь вам помочь.
Фабио Маттиоли – социальный антрополог, преподаватель в Школе социальных и политических наук Мельбурнского университета и научный сотрудник в Центре искусственного интеллекта и цифровой этики. Бакалаврская степень получена в Университете Флоренции, магистерская – в престижной французской Высшей школе социальных наук (EHESS), а PhD – в Городском университете Нью-Йорка (City University of New York). Иными словами, Маттиоли – если не образец, то пример сильного международного исследователя, укорененного не в местной, а в глобальной академии. Среди интересующих его областей – постсоциализм, антропология финансов и экономическая антропология, социальные исследования Восточной Европы, городская антропология. Согласно сайту Мельбурнского университета, в последние годы исследовательские проекты сместились в сторону новых технологий: теперь проекты связаны с инновациями в цифровой экономике, антропологический взгляд на сосуществование и интеграцию ИИ и человека и сопроизводство фейковых новостей людьми и алгоритмами социальных сетей. Это позволяет предположить, что Маттиоли в начале 2020-х, при переходе от PhD-исследователя к полноправному академическому сотруднику, сменил фокус интереса от регионализированного и более теоретического (финансы) к более практическим и более хайповым направлениям. Его последние статьи – о том, насколько приемлемой потребители из Австралии и Мексики считают работу с использованием новых технологий, в том числе связанных с искусственным интеллектом, при производстве вина, от дронов до «электронного носа» для анализа состава вина, или как основатели стартапов, участвующих в государственном акселераторе, выстраивают или создают свою легитимность. Не настолько интригующе, но более респектабельно, чем темные финансы, поглощающие Македонию.
Сама книга «Темные финансы», насколько удалось понять, является переработанной для широкой публики диссертацией. В 2021 году книга получила почетное упоминание Американской антропологической ассоциации, а в 2023 году – награду Общества экономической антропологии (SEA). И уже на этом моменте я хотел бы акцентировать внимание на судьбе книги. Будучи не антропологом, но представителем близкой научной сферы, я не могу вспомнить за последние годы широкой публикации, обсуждения и награждения несколькими ассоциациями какой-либо кандидатской диссертации. Или хотя бы публикации диссертации, пусть и не по антропологии, но по близким дисциплинам – психологии, социологии, социальной философии. Наверное, такие примеры можно найти, но мой тезис заключается в том, что на русском языке публикации такого формата выходят исключительно редко. Книги исследователей небезызвестного фонда можно было бы назвать исключением, если бы исследования глубинки и околокриминальной занятости были бы интересны сравнительно широкому кругу читателей за пределами победителей и будущих победителей конкурсов фонда. Поэтому сформулирую так: в России пока не сформирована практика и публикации, и чтения (и письма) диссертаций для широкой публики, нет разных голосов, говорящих разное и о разном. И этот недостаток отечественного издательского дела позволяет подсветить два преимущества книги: она простая, и она не претендует на единственно верное описание своего объекта.
Эта книга действительно очень проста: вы можете предложить ее практически любому взрослому человеку, и он ее поймет, сможет сформулировать, что изучал и что хочет донести до нас Фабио Маттиоли. В ней есть несколько действительно сложных, академичных и насыщенных страниц, но практически все они находятся во введении и касаются концептуализации исследовательской части. Мы постарались сделать их более прозрачными, хотя задача таких предложений и абзацев – быть строгими и четкими, нежели интуитивно понятными. За исключением этих страниц остальная книга состоит из трех жанров – общего описания общественных событий в Македонии; этнографического описания конкретных случаев, наблюдений, разговоров; рассуждений, встраивающих описания в ряды и объяснительные цепочки.
Вторая сильная сторона книги: она не претендует на единственное верное описание Македонии, строительного сектора, мужественности или постсоветских практик взаимозачета. Работы отечественных антропологов часто ультимативно рассказывают об артефактах советского быта, системе власти в малых городах или рыболовстве эвенков так, как будто это жесткие вещи мира, не терпящие другой интерпретации. Я могу предположить, что причина этого в скрытой или очень простой концептуализации феноменов. Силы концептуализации хватает, чтобы указать на феномен, но не показать его краски, его контекст и хинтерланд. Проблема с таким подходом в том, что он безальтернативен, он не позволяет обсуждать, если ты не согласен или видел другое. Можно лишь дополнять уже сказанное вариациями на тему. Но есть и другой подход: когда то, о чем в книге написано, и то, о чем книга рассказывает, – это разные вещи. Как Латур, описывая сложности процедур в бюрократическо-юридическом феномене Госсовета, рассказывает нам не про конкретный феномен парадоксального бюрократического института, а предлагает способ объяснения и описания мира на примере необычного, и потому выпуклого, феномена Госсовета. То же самое делает и Маттиоли: для него Македония лишь удачный пример того, как работают финансы, того, как происходит превращение и замещение всего финансами и финансовой логикой. Македония для него (по крайней мере, в этой книге) – пример периферии Европы, куда обновление и заемный международный капитал добрались в последнюю очередь. В одном из интервью он указывает, что его выводы о Македонии релевантны и для таких стран, как Турция, Венгрия или Индия, а судя по количеству ссылок на исследователей России – и для России. Но важно, что через Македонию здесь говорится о другом.
К моему большому разочарованию, здесь говорится не про города, архитектуру, строительство или дома. Она даже не про финансы и экспансию финансового сектора. Эта книга не ограничивается обличительными зарисовками про жизнь в постсоветской автократии, как интерпретировал книгу портал The Review of Democracy, – тут достается и коррумпированным чиновникам от Европарламента, и пожилым югославским разведчикам, и итальянским «предпринимателям». Македония и ее строительный сектор предстают контекстом, в котором происходит действие. Описываемое действие – парадоксальная финансиализация периферии Европы в момент экономического кризиса. Но все это вместе должно рассказывать нам о связности мира, о том, как выстраиваются отношения между центром и периферией, какую динамику они задают в самовосприятии и идентичностях жителей периферии Европы. О том, как пугающая автора политическая система оказывается не более чем гипсовым львом на фасаде реплики античного здания. О том, что политика – это не столько про выборы, сколько про международные займы, рынок труда, отношения на рабочем месте и возможность разделить обед с коллегами.
Заинтересовавший Маттиоли сюжет – план «Скопье–2014». В 2010 году, когда большая часть мира только начала приходить в себя от кризиса 2008 года, правительство небольшой и небогатой Македонии внезапно объявляет о старте масштабного и дорогого плана городской реконструкции столицы. Абсурдность ситуации вызывает вопрос: как это возможно? Почему и за счет чего бедная Македония в момент, когда весь мир еще не перезапустил стройку после пузыря 2008 года, запускает процесс если не джентрификации, то городского обновления? Откуда на это должны появиться деньги у инвесторов, строителей и покупателей? Приблизительно с такими вопросами была начата работа, которая продолжилась полевым исследованием в 2013–2014 годах, а еще 7 лет спустя была признана как рассказ о впечатляющем исследовании. Для ответа на этот вопрос необходимо пройти по улицам бунтующего города, понять роль Македонии в экономике Югославии, разобраться в особенностях европейских программ экономического развития и увидеть способы, которыми прорабы на стройке пытаются водить за нос инспекции. Такие сюжеты составляют художественную, этнографическую и риторическую части исследования.
На мой взгляд, замечания о сальных шутках пожилого албанского инвестора-мутилы или зарисовка о самогоноварении у отставных силовиков не добавляют рациональности аргументации, но делают книгу ярче. И тут вскрывается ключевая проблема книги – она не очень убедительна. Может быть, дело в том, что у нас разные дисциплинарные представления об убедительности, или это во мне токсично говорит опыт постсоветского человека «и не такое видали», но аргументация Маттиоли не убеждает меня. Можно предположить, что это результат сокращений и специфичной «подготовки книги для широкой публики». В том, как женщины-менеджеры заботятся о своих мужчинах-рабочих, как они вынуждены скромно и подчеркнуто по-деловому одеваться, я могу попытаться разглядеть многие феномены, но не увидеть поступь финансиализации от центра к периферии Европы. За дурными и похабными шуточками рабочих, сидящих без работы и оплаты на стройке, навряд ли стоит «авторитарный режим Груевского». Такую манеру общения наблюдатель обнаружит во множестве «трудовых коллективов» определенного типа: с временной занятостью, мужским разновозрастным составом с разной квалификацией, но сходным жизненным опытом. То же самое он увидит и на стройке в Аргентине, Канаде или Индии. А вот в других условиях – на нефтяных или газовых вахтах (где состав рабочих групп меняется реже), на совершенно неквалифицированных сезонных работах (как у сборщиков хмеля Оруэлла), в рейсах на рыболовных траулерах – и отношения внутри группы, и тип разговоров будут немного другими. И, к сожалению, это не только зарисовки, дополнения к основному аргументу. В таких сюжетах Маттиоли показывает нам, из чего составлена повседневная жизнь Македонии и власть финансиализации.
Такие риторические приемы, нагнетание, как в сериале 80-х «Спрут», заставляют ожидать развязки, что через все эти практики проявится настоящая Македония, настоящие македонцы, югославы и албанцы без влияния зловещего режима и всепроникающей финансиализации. Но в книге мы видим лишь отдельные практики разной степени порочности, коррумпированности, прозрачности и связности. Проникает ли власть режима во «все поры македонского общества»? У меня нет уверенности в этом. Вызвана ли перестройка македонского общества и особенности его политической жизни режима внешними силами? Отчасти да и отчасти нет. Можно согласиться с ключевым тезисом, что экспансия финансов на окраину Европы изменила, переформатировала и использовала идентичности местных жителей, опиралась на их надежды на процветание. Но была ли она орудием подчинения? Наверное, это слишком сильное, слишком политизированное, слишком яркое утверждение для такого рода работы.
Еще одно уязвимое место книги как академического издания – нехватка саморефлексии. Во введении есть пара абзацев, которые можно посчитать за попытку описать позицию автора, того, откуда ведется повествование, но они коротки и имеют формальный характер. В ситуации, когда существенная часть исследований является легендами для создания информационных поводов и информкомпаний, исследование на любую острую тему сложно не заподозрить в ангажированности. Описания такого рода не формальность, отвечающая требованиям этических комитетов, это предохранитель читателя от манипуляций. Мы можем быть хоть как-то уверены в точности наблюдений и честности суждений, только если знаем, что является их предпосылками, – то есть понимаем позицию автора. Позиция и суждения должны быть одного рода, быть просто связанными. Иначе, как нередко бывает в отечественных исследованиях, попадающих в СМИ, за высказываниями и выводами нетрудно разглядеть даже не уши, а цвет кожи кошелька заказчика работ. Но такой раздел, к сожалению, не является обязательным, хотя украсил бы практически любую работу по обществоведческим дисциплинам.
Обобщая, скажу, что эту книгу стоит читать. Читать в первую очередь как отпечаток работы другого мыслительного коллектива. Как документ, в котором можно обнаружить отношение «западной академии» к полевой работе, рефлексии исследователя, способу письма и аргументации, отношение к разным странам. И фигура автора тут также будет иметь значение. Эту книгу стоит читать как пример книг, формата которых у нас нет, но который тоже имеет свою ценность. Эту книгу можно рекомендовать почитать людям, просто интересующимся разным: постсоветской историей, Балканами, Македонией или финансами. И пусть не со всеми интерпретациями жизни на периферии от (теперь уже) австралийского антрополога можно согласиться, у книги множество других достоинств. В данном случае важно, как она сделана и о чем она рассказывает.
Благодарности
Книги, и в особенности по этнографии, не являются индивидуальными достижениями, несмотря на авторство, указанное на обложке. Эта книга была бы невозможна, если бы не помощь сотрудников Construx и других македонских компаний, которые приняли меня, несмотря на мои минимальные знания македонского языка и мою полную бесполезность для их работы. Для меня было честью облачиться в синюю спецодежду компании и разделить, пусть и со стороны, некоторые из трудностей ее работников.
Я в большом интеллектуальном долгу перед многими людьми. Кэтрин Вердери, Майкл Блим, Сета Лоу, Джефф Масковски, Дэвид Харви, Джули Скурски, Эмили Чаннел-Джастис, Дэвид Боренштейн, Наоми Адив, Джей Блэр, Юрай Анзулович, Андреина Торрес, Сайгун Гекариксель, Салим Карлитекин, Росио Хиль и другие способствовали созданию книги в годы моей учебы в Аспирантском центре Городского университета Нью-Йорка. Эмили Гребл, Сьюзан Вудворд, Мадиган Фихтер и члены Нью-Йоркского кружка (NYC Kruzhok) были потрясающими товарищами по дискуссии, с которыми я сформулировал многие из своих начальных идей. В Центре европейских и средиземноморских исследований Нью-Йоркского университета книга вызрела и приняла свою теперешнюю форму благодаря поддержке Ларри Вольфа, Розарио Форленца, Кристиана Мартина, Эрики Роблес-Андерсон, Лилли Чамли, Софи Гоник, Рикардо Кардосо и Лилианы Хиль. Но именно в Мельбурнском университете проект увидел свет благодаря активному участию Джона Кокса, Дебры Макдугал, Гарриетты Ричардс, Макса Холлерана, Мишель Кармоди, Карлы Уилсон, Кари Долгрен, Синтии Сир, Тэмми Кон, Камео Далли, Моники Миннегал, Фионы Хейнс, Энди Доусона, Майкла Херцфельда, Аманды Гилбертсон, Калиссы Алексеефф, Эрин Фитц-Генри и многих других коллег из Школы социальных и политических наук.
Некоторые из ключевых идей этой книги были сформулированы в ходе мимолетных бесед с коллегами, с которыми меня сводили профессиональные перемещения, таких как Элизабет Данн, Лариса Куртович, Джессика Гринбергер, Сара Мьюир, Неринга Клумбите, Эндрю Гилберт, Матильда Кордоба-Азкарате, Клаудио Сопранцетти, Марек Микуш, Дана Джонсон и Алан Смарт. Аарон З. Питлак, Дэниел Сулелес, Пол Лэнгли, Ана-Флавия Бадуэ и другие участники конференции Общества экономической антропологии 2017 года помогли мне развить мои представления о финансиализации. Большое спасибо Деборе Джеймс, Ивану Райковичу, Сохини Кар, Дзаире Тициане Лофранко, Антонио Пускеду и Рамоне Стаут, которые помогли улучшить несколько ранних черновиков.
Мне особенно повезло, что в моей работе принимали участие такие ученые из Македонии, как Горан Янев, Энди Граан, Кит Браун, Розита Димова, Дэйв Уилсон, Василики Неофотистос, Люпко Ристевски и другие коллеги из Института этнологии и антропологии Скопье, которые давали советы, приводили примеры и поддерживали контакты на протяжении десяти лет работы в этой стране. Тияна Радеска, Петар Тодоров, Гани Рамадани и Бранимир Йованович оказали мне огромную помощь в получении доступа к различным материалам, любезно делились ими за ужином и выпивкой.
Эта книга не состоялась бы без полного энтузиазма руководства Мишеля Липински и заботы всей редакционной команды Издательства Стэнфордского университета. В нынешний период нестабильности в издательском мире их приверженность интеллектуальным обменам и поддержка начинающих ученых были просто образцовыми. Несколько других институций оказали проекту финансовую и логистическую поддержку. Большое спасибо Совету по европейским исследованиям Колумбийского университета, Фонду Веннера-Грена, Аспирантскому центру Городского университета Нью-Йорка, Центру европейских и средиземноморских исследований, Институту Ремарка при Нью-Йоркском университете и Школе социальных и политических наук Мельбурнского университета.
Однако в наибольшем долгу эта книга перед теми наставниками, друзьями и товарищами, которые помогли мне найти путь в бурном море интеллектуальной, экономической и экзистенциальной неопределенности. Моя мать Кристина, мой отец Лучано и мой брат Федерико поддерживали меня своей непоколебимой верой. Пример моих бабушек и дедушек – Энрико, Норфы, Беппе и Марисы – и Маэстро Фаччини научил меня ценности, достоинству и поэтике тяжелого труда. Бела, моя спутница, крепко держала штурвал, пока мы пересекали три континента, приводя меня в неожиданные места, где мои мысли могли свободно блуждать, обретая полноту в гармонии с ее красотой.
Введение
История создания неликвидности в Македонии
Зима 2017 года. Туман опускается на Скопье как смертоносная, но милосердная пелена. Призрачное свечение озаряет улицы для нескольких офисных работников, быстро идущих между зданиями вдоль главных городских артерий. Поверх черных масок-респираторов периодически выглядывают голубые, карие и зеленые глаза. Кафе открыты, но пусты, напоминая глубокие вздохи в равномерном дыхании. Здания медленно возникают и исчезают в смоге, их силуэты смешиваются в тысячу химерных форм.
Когда Скопье оживает, это не приносит облегчения. Необарочные фасады расползаются, как пластиковые паразиты, по скелетам зданий социалистических времен. Бронзовые памятники национальным героям отражают звук шагов, распространяя эхо пустых обещаний великого будущего, разоблаченных хрупкими формами ветхих школ и больниц. В проеме небольшой триумфальной арки виднеются кучкующиеся новостройки, которые выросли как грибы после дождя на восточных окраинах – олигархи и правительство, которое спонсировало македонскую городскую экспансию, вероятно, считают их победой. Для жителей, подрядчиков и горожан они – тревожное свидетельство быстрорастущих долгов.
Израненный, измотанный, недоверчивый – современный Скопье восстанавливается после похмелья от строительного запоя, затянувшегося на десять лет. Предполагалось, что волна городского обновления, анонсированного в 2010 году и известного как «Скопье-2014», удержит на плаву экономику Македонии во время международной рецессии, последовавшей за ипотечным кризисом в США 2007 года – экономическим потрясением, которое на последующее десятилетие заморозило международные кредитные рынки и повлекло за собой несколько кризисов ипотечного и государственного долга в Европе. В теории государственные кредиты, субсидировавшие план «Скопье-2014», представляли собой инвестицию, которая должна была предотвратить распространение финансовой нестабильности на Македонию, сделать страну узнаваемой и привлечь глобальный капитал. На практике средства доходили лишь до немногих компаний. Деньги словно испарялись, не успев добраться до местного бизнеса. Неоплаченные счета же, напротив, никуда не девались.
Как во многих других мировых столицах, спираль кредитования, сделавшая «Скопье-2014» возможным, возникла из пула ликвидных инвестиций, поддерживающих финансовую архитектуру современного капитализма. Необычным было разве что время ее появления. Глобальные кредиторы заинтересовались Македонией именно в тот момент, когда инвестиции в строительство по всей Европе считались безрассудством. Что еще важнее, их кредиты, казалось, предназначались для государственных структур, а не повторяли того неразборчивого поведения, что наблюдалось до глобального финансового кризиса. Правительство Македонии набрало долгов и – теоретически – наличности, которую можно было тратить, но удивительным образом македонский бизнес и граждане едва могли получить кредиты от частных банков или даже выплаты от госорганов. Для них Македония не была страной, купающейся в деньгах. Наоборот, казалось, что страна бедствует от нехватки ликвидности и несправедливых условий труда.
Для тех же, кто придумал необарочные фасады «Скопье-2014», рост строительного и финансового секторов Македонии был чрезвычайно прибыльным. Между 2006 и 2016 годами премьер-министр Македонии Никола Груевский, его двоюродный брат и руководитель службы безопасности страны Сашо Миялков вместе с узким кругом политиков и олигархов использовал ресурсы, предоставленные международными финансовыми организациями, чтобы завладеть активами и упрочить свой контроль над государством и обществом. Под звук ударов кувалд скрытно работали сети вымогательств, насильственных приобретений, политического насилия, арестов, неизбирательной прослушки и запугивания. С каждым евро, шедшим на обустройство городских пространств Скопье, режим Груевского становился физически ощутимым, производя впечатление сильного, реального и неизбежного.
Илл. 1. Статуя Александра Великого появляется из зимнего тумана в Скопье (В русской традиции Александр Великий традиционно называется Македонским, в переводе сохранена версия оригинала)
Находясь в тисках безденежья и деспотичного режима, большинство македонцев чувствовали себя бессильными. Груевский, напротив, казался неприкосновенным, способным контролировать экономику страны и ответить на любые протесты или скандалы. Даже когда в 2015 году оппозиция опубликовала аудиозаписи, которые вскрывали преступления режима, Груевский и его партия «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ) выстояли, оказавшись сильнейшей партией на выборах 2016 года и недосчитавшись всего нескольких мест до нового большинства.
И все же, когда режим, казалось, был готов пережить очередной кризис, он вдруг рассыпался. Вознамерившись помешать (хрупкой) коалиции создать новое правительство, ВМРО-ДПМНЕ попыталась затормозить, бойкотировать и в конечном итоге физически оккупировать македонский парламент, организовав озлобленную толпу бандитов и ярых националистов. В минуты наступившего хаоса и насилия слухи о перевороте распространялись со скоростью лесного пожара. Охваченные паникой, мои друзья и собеседники звонили мне в Нью-Йорк. Они опасались, что армия поддержит режим, и ожидали, что президент Македонии Горге Иванов, ближайший соратник Груевского, объявит военное положение. После нескольких часов хаоса, однако, ничего не произошло. В своей речи Иванов призвал всех сохранять спокойствие. Находившийся в Вене Груевский последовал его примеру. Наконец, вмешалась полиция, удалив поддерживающих ВМРО-ДПМНЕ протестующих, – так аура неуязвимости, окружавшая режим, испарилась.
Как вышло, что режим Груевского, подчинивший себе сердца и умы македонцев, пал так стремительно? И если режим был таким могущественным, почему он оказался неспособным пойти на открытое, крупномасштабное политическое насилие, когда в этом была острая необходимость? Эта книга утверждает, что устойчивость и хрупкость македонского авторитаризма напрямую связаны с формами финансовой экспансии, переживаемой на периферии Европы. Представленное мной этнографическое исследование македонского строительного сектора свидетельствует о том, что режим Груевского процветал благодаря геополитической ценности, которую такая небольшая, окраинная страна, как Македония, обрела в ходе глобального финансового кризиса. Сумев получить доступ к финансовым ресурсам в период заморозки глобального кредитного рынка, Груевский вплел сложные слои финансовой зависимости в городской ландшафт.
В реконструкции Скопье финансовые схемы навязанного кредитования и иллюзорного богатства переплелись с формальными и сущностными процессами в ядре политический жизни Македонии. Вместо того чтобы быть функцией устройств учета или ликвидного капитала, финансы распространялись через пересечения и противостояния множества акторов. Финансовые потоки следовали за властными играми таких фигур, как Груевский, который смог использовать в своих интересах одновременно и ожидание прибыли глобальных финансовых игроков, и жажду признания, которую выражали македонские граждане. В результате в стране, унаследовавшей черты финансовой периферии, возник особый вид неликвидности, где долговые отношения расширялись, но поток денег оставался централизованным и ограниченным. Неликвидность позволила Македонскому правительству на десятилетие монополизировать денежную массу и вынудить бизнес и частные лица согласиться с авторитарной политикой. Неликвидность, скорее усиливая, чем сглаживая финансовую эксплуатацию, ощутимую в Македонии, маскировала структурные зависимости режима – до тех пор, пока режима не стало.
Эта книга рассказывает истории предпринимателей-неудачников, рабочих, увязших в долгах, и честолюбивых бюрократов – и показывает, что экспансия финансов на окраинах Европы превратила идентичности, ценности и надежды на экономическое благополучие в орудия подчинения. Каждая глава предлагает исследование нового места, где столкнулись и переплелись друг с другом финансы и политика. В этой хронике событий авторитарный режим Македонии, оседлав волну финансовой экспансии, сначала проникает во все поры македонского общества и усиливает свое влияние, но в конце концов понимает, что, как и все спекулятивные пузыри, его власть всегда была на грани краха.
Финансиализация и политика
Большинство аспектов современной жизни – от продовольственного производства до образования, от ежедневных покупок до контроля за распространением заболеваний и предотвращения катастроф – становятся возможны благодаря долговому финансированию и связаны с ростом или сжатием финансовых рынков. Социологи называют это нарастающее влияние финансовых акторов, рынков и способов мышления финансиализацией – это глобальный процесс, который все больше понимается как социальное, а не экономическое явление[2].
Тогда как ранние исследования экспансии финансов сосредоточивались на ее техническом и функциональном аспектах, благодаря мировому финансовому кризису стало вполне очевидно, что финансиализация пересекается с официальной (а также повседневной) политикой[3].
Уже в 1920-х годах мыслители-марксисты представляли расширение влияния финансов как классовый проект, в котором правящие классы использовали государственные структуры для расширения своего господства. По мнению Гильфердинга, финансовая экспансия была вызвана возникновением крупных монополий, в которых происходило сближение интересов богатейших слоев буржуазии и государственных бюрократов[4]. Столкнувшись с характерными кризисами сверхнакопления, финансовые элиты используют политическое влияние, законодательство и военную силу для открытия новых рынков и трансформации своего производственного капитала в финансовую прибыль. Как следствие, финансиализация привела к драматичным политическим событиям – от войн до смен режимов и (более или менее скрытых) форм колониализма[5].
Экспансия и повышение ликвидности финансового капитала при этом также взаимосвязаны с более тонкими политическими процессами. Социологи под влиянием представлений Фуко о надзоре и дисциплине показали, что финансы воздействуют на коллективную и частную жизнь, переводя противоречивый социальный опыт в ясно считываемые формы. Эта новая идеологическая основа помогает представлять и лучше понимать социальные взаимоотношения[6]. Через дискурсивные и перформативные практики ипотека, кредитные карты и алгоритмы переплавляют «общественные и семейные отношения в шестеренки глобальных спекулятивных финансовых стратегий»[7]. Эти новые технологии распознавания пересматривают понятие «ценности», перестраивая не только стандарты оценки, но даже и субъективные процессы, с помощью которых граждане осмысляют самих себя и, в конечном счете, свои коллективные устремления[8].
Чем более значимой составляющей общественной жизни становятся финансы, тем в большей мере их источники, траектории и воздействие формируются специфическими историческим, социальным и экономическим контекстом[9]. В этом контекстуальном подходе определяющим для финансиализации и ее политического значения является то, как ее присваивают, применяют и встраивают в мораль отдельные сообщества акторов[10]. Это, конечно, легко заметить в среде профессиональных финансистов, неуловимых глав центральных банков и менеджеров хедж-фондов[11], формирующих ее инфраструктуру в соответствии со своим мировоззрением. Но есть и многие другие, чьи действия имеют критическое значение для существования финансов: политические лидеры, приглашающие или заманивающие глобальных инвесторов[12]; менеджеры и бюрократы, которые стремятся заполучить контракты с кредитным финансированием, исполняют их или жонглируют ими[13]; рабочие, рассчитывающие подзаработать на финансовых сделках или вынужденные брать разорительные микрокредиты, чтобы избежать финансового банкротства[14]; и матери и жены, на которых возложена обязанность вносить свой вклад и защищать финансовую стабильность их семей[15]. Эти акторы встречаются с финансами, манипулируют ими и формируют их в разнообразных контекстах, изобилующих моральными дилеммами и противоречиями, находящимися под влиянием индивидуального опыта или стремлений в той же мере, в какой они ограничены, или обусловлены, трендами, которые задаются глобальными финансовыми игроками. Именно эти неравные встречи с открытым исходом делают финансиализацию реальной[16].
Это соображение приводит к концептуальной дилемме: если финансовая экспансия осуществляется множеством акторов, формируется множеством отношений и приводит ко множеству политических последствий, имеет ли все еще смысл говорить о финансиализации как о реальном, отдельном, целостном процессе? В конце концов, большинство сценариев, характерных для финансиализации (то есть получение кредитов, заключение долгового договора, покупка или продажа акций), не подразумевают прямого взаимодействия индивидов с реальными денежными потоками. На практике встречи с финансами предусматривают взаимодействие с чиновниками, долговыми коллекторами, бизнес-партнерами, кредитными скоринговыми системами, банковскими служащими и даже иногда программным обеспечением[17].
Должны ли мы ответить на этот непростой вопрос, отказавшись от представления о финансиализации как действительно существующем процессе в пользу «эффектов финансиализации», так же как в 1970-е годы ученые поставили под вопрос существование государства как предмета исследования?[18] Или нам следует преодолеть неопределенную природу понятия, уточнив его границы, и использовать финансиализацию только чтобы обозначать внедрение специфических режимов калькуляции, которые подчиняют финансовые процессы неолиберальным рынкам, что некоторые начали называть финансиализацией финансов?[19]
Ни одна из этих трактовок не будет продуктивной для таких мест, как Македония. Отказ от концепции финансиализации, отрицание какой-либо целостности ее существования или ограничение этого явления техническими аспектами затруднили бы понимание финансовой экспансии в периферийном контексте, где финансы предстают в особенно противоречивых формах по сравнению с теми, что наблюдаются в торговых залах Лондонской и Чикагской биржи. На этой мировой окраине финансовая экспансия может действовать через различные средства обмена и быть напрямую связана с действиями небольшой клики местных политических лидеров, которые «управляют государственными делами, задействуя методы и инструменты финансовых инноваций»[20]. Эти специфические формы политики, вовсе не являющиеся аномальными, разыгрываются в шизофренической симфонии глобального кредитования и, по сути, приоткрывают завесу над политическими процессами, которые делают возможными некоторые из наиболее абстрактных финансовых инноваций, регулирующих жизнь в ядре глобальной экономической системы.
Виды финансов, наблюдающиеся на мировых перифериях, предлагают третий вариант аналитического подхода к финансиализации: уйти от изучения технических аспектов финансов или сетей их главных операторов и вместо этого обратиться к политическому и экономическому ландшафтам, в которых разворачивается финансовая экспансия. Если финансиализация «порождается гетерогенностью и различиями, а также разнообразными стратегиями бытия и становления особенными типами людей, семьей или сообществ»[21], то тогда технические, социальные и культурные процессы, характерные для финансовых элит, представляют собой лишь один из многих компонентов, образующих финансиализацию. В этой перспективе социоэкономический процесс финансиализации не является ни социальным актором, ни чертой специфической социальной группы, ни серией мимолетных эффектов. Финансиализация, скорее, аналитически определяет политическую и экономическую конъюнктуру, которая дает форму, определяет, поддерживает или структурирует финансовую экспансию – результат более или менее устойчивых взаимодействий, отношений и борьбы, – опосредованную историческим и материальным процессами, которые пересекаются с усилиями государства и отражают опыт общества в глобальной экономической системе[22].
Органическая политэкономия
Понимание финансиализации как политической и экономической конъюнктуры представляет собой одновременно и теоретическую, и методологическую задачу. Это значит найти этнографические и аналитические пространства, адекватные для исследования того, как глобальные события, подобные мировому финансовому кризису, взаимодействуют с политическим контекстом общества на периферии, такого как македонское. Это также означает дать голос этнографическим свидетельствам, показывающим, что финансиализация – это не однонаправленный процесс, зарождающийся в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае или Франкфурте и (не)равномерно движущийся в сторону периферии. Как и формы колониального капитализма, описанные Минцем, Ортисом и Коронилом, этот подход к финансиализации представляет собой динамику взаимодействий[23] – ряд неравных отношений, конфликтов и противоречий между центром и периферией, между либеральными лидерами и потенциальными диктаторами, а также глобальными финансовыми институциями и местными рабочими.
Чтобы проанализировать и реконструировать эту интерактивную динамику, я разложил процесс финансовой экспансии в Македонии на пять аналитических компонентов, которые описывают ее историческую и географическую траекторию, ее распространение через множественные кредитные логики и ее переплетение с индивидуальными и коллективными идентичностями. Эти пять аналитических пространств не только дают различные этнографические перспективы, но также выявляют различные виды переплетений – разнообразные отношения, которые вплетают формы финансов в общественную жизнь и порождают неравные, но «значимые связи между людьми»[24].
Выявление отношенческой природы финансиализации требует комплексности – подхода, в котором ожидания прибыли финансистов сопоставлены с опытом других социальных акторов, таких как нуждающиеся рабочие и расчетливые политические лидеры. В македонском контексте это значит понять, почему международные финансовые институты, такие как Deutsche Bank, Citibank и Международный валютный фонд (МВФ), решили инвестировать сотни миллионов евро в Македонию[25] в свете реализуемой Груевским стратегии брендинга и узнаваемости; возросшую способность олигархов рассчитывать на неликвидность, играя на мечтах граждан, которые на десятилетия застряли в нескончаемых циклах экономической стагнации; и плавную интеграцию вредных финансовых схем в план благотворного социалистического неформального кредитования. Без этих частей истории будет невозможно понять, почему финансовая экспансия резко ускорилась во время финансового кризиса, породив призрачные финансовые богатства и хрупкий, но всепроникающий авторитарный режим.
Несмотря на аналитическую ясность этого подхода, сбор данных, необходимых для выявления и исследования этих пяти пространств переплетений, был особенно затруднен постепенным расширением авторитарной политики в Македонии. В 2013–2014 годах, когда я проводил 12-месячное этнографическое исследование строительного сектора Скопье, политические контуры правления Груевского были очень расплывчаты. Собеседники шепотом рассказывали о политически мотивированных нападениях, о мухлеже правительства с госконтрактами, о том, что за бизнесменами и иностранцами, вероятно, активно следят агенты спецслужб, и о гомофобных нападениях на сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и квир-людей. Эти слухи создавали всепроникающую атмосферу страха и недоверия. Многие жаловались – ставя «философские» диагнозы политической обстановке, которая ощущалась ими как все более репрессивная, – но неохотно называли имена, суммы, а иногда и конкретные примеры, которые могли бы выдать их собственное участие в незаконных сделках.
Эта подозрительность сделала мою работу в поле чрезвычайно обескураживающим и тревожным опытом. Находился ли я под наблюдением? Были ли участники моего исследования честны со мной в своих свидетельствах? Почему многие упорно использовали вымышленные примеры? Были ли виной тому мои недостатки как этнографа? И только после нескольких визитов, когда публикация аудиозаписей воодушевила критиков и оппозицию, я осознал, что ведение разговоров в абстрактном и общем ключе зачастую было проявлением заботы, попыткой моих собеседников защитить нас обоих от раскрытия опасных деталей. Что еще важнее, призрачный ландшафт, который они порождали, стал критически важным аналитическим инструментом для понимания остро политизированной и противоречивой природы финансиализации и ее связи с правлением Груевского. Туманные и при этом опасно балансирующие «на границе реального и мнимого»[26], эти слухи сопровождали каждую неудавшуюся сделку, представляя Груевского всемогущей тенью – не устойчивого автократического государства, а режима, построенного на неуловимых противоречиях.
Пока я собирал данные, расширение влияния авторитарного правительства Груевского стало сказываться на исследовании, вызывая опасения за пределами аналитической части. Несколько компаний, выразивших интерес к участию в ходе предварительного этапа исследования, отказались от общения, опасаясь политических последствий от раскрытия своих финансовых связей. Оказавшись во враждебном ландшафте, я сузил границы включенного наблюдения в некоторых организациях и решил сосредоточиться на Construx – строительной фирме средней величины с финансовыми проблемами, оставшейся на периферии политической сети ВМРО-ДПМНЕ. Проводя время на ее стройплощадках, вместе с бездействующими рабочими ожидая редких поставок строительных материалов и сопровождая некоторых ее (потенциальных) субподрядчиков, я выслушивал сетования мужчин, пытавшихся разобраться с ошибочными финансовыми решениями. Чтобы выявить источники их тревог, я брал интервью у стейкхолдеров, участвовавших в построении финансовых схем Груевского, отслеживая цепочки финансовых потоков, соединявших рабочих-мужчин с администраторами-, менеджерами- и специалистами-мужчинами в нескольких государственных организациях и министерствах, местных и международных строительных компаниях, а также местных и глобальных финансовых институтах. В конечном итоге эти связи привели меня обратно в Construx и его административные офисы, где я сопровождал (или развлекал) архитекторов, планировщиков и ассистентов, и их женский взгляд на вещи представлял совершенно иную сторону финансиализации.
Получившийся в результате нарратив открывается рассказами из разных гендерных перспектив о рабочих дилеммах, которые помогают объяснить противоречивые отношения, воплощенные в финансовой экспансии[27]. Гендерно специфичные стремления, трудности и страхи, как оказалось, одушевляли часто не связанные между собой встречи, вызывавшие финансы к жизни. Выявить сущностные измерения финансовой экспансии помогает тревожный опыт женщин, который я использовал как линзу, через которую рассказана история мужского мира, где финансовые противоречия связывали во взаимном угнетении македонских рабочих, бюрократов и даже итальянских инвесторов. Хотя этот выбор означал меньше возможности прямого высказывания для женщин, он все же позволил мне подчеркнуть общий опыт в постиндустриальном контексте, в котором привилегии, определявшие идентичность мужчин, испарились, и им пришлось с большим трудом искать новые источники социальной значимости. В Македонии Груевского возможность получения доступа к финансам стала одновременно и доказательством, и инструментом преодоления чувства, что рабочие места и, шире, общество феминизировались – как если бы перехват глобального финансирования мог обеспечить новые направления для хищнического, мужского доминирования[28]. Неудивительно, что протест против Груевского возглавили не закаленные мужчины из рабочего класса, а молодые женщины, которые, как показывает илл. 2, вставали лицом к лицу со спецподразделениями полиции и бросали вызов, физический и символический, финансовой магии Груевского.
Эта книга помещает призрак неликвидности, обнаруженный из разных гендерных перспектив, в широкий исторический и географический контекст, разбирая непосредственную эволюцию политической экономии Македонии. Я потратил много времени на анализ формальных показателей, используемых экономистами для описания общего положения экономики Македонии (и соседних стран), и сбор данных в Македонском национальном архиве, архиве Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других подобных источниках, чтобы исследовать обстоятельства в прошлом, которые создавали основу для режима Груевского. В основе этой книги лежат компаративные вопросы, которые были сформулированы в обсуждении моих архивных и количественных изысканий с политэкономистами и финансовыми экспертами. Результатом стал нарратив со смещенным ритмом, в котором количественные и компаративные вопросы пересекаются с экзистенциальной борьбой македонских рабочих и менеджеров – органический подход к политической экономии, вдохновленный критической философией праксиса, присутствующей в большом количестве неортодоксальных марксистских текстов[29], прослеживающей генеалогию масштабных изменений до микроуровня повседневных действий[30]. В этой отношенческой перспективе кризисы, такие как нефтяные шоки 1970-х, постсоциалистический транзит или глобальный финансовый кризис прошлого десятилетия, не являются лишь экономическими переменами. Напротив, они возникают из обычных событий общественной жизни, открывающихся и закрывающихся пространств политического действия и воображения[31].
Илл. 2. Один из символов Цветной революции: женщина-македонка открыто сопротивляется режиму, используя щит полицейского как зеркало. Фото: Огнен Теофиловский
Ключевую роль в этой истории сыграл глобальный финансовый кризис. Чтобы предотвратить его распространение, финансовые институты выдавали профилактические кредиты небольшим периферийным странам, таким как Македония. Груевский использовал эти кредиты, все более недоступные для независимых компаний, чтобы захватить македонскую экономику. Неверные финансовые решения и отложенные платежи укрепили отношения между авторитарными лидерами и олигархами и изменили отношения рабочих и менеджеров между собой. Без гроша за душой, в изоляции, с уязвимой гендерной и профессиональной идентичностью, рабочие и менеджеры пытались восстановить свою индивидуальность в опоре на нелиберальные моральные ценности, которые ВМРО-ДПМНЕ использовала, чтобы править Македонией. С каждой неудачной сделкой люди оказывались привязанными к режиму все сильнее, и этот финансовый поводок, казалось, был повсюду, хотя часто так и не материализовался.
Постсоциализм и финансовые кризисы
Чтобы понять, почему финансы обрели такую важность для режима Груевского, необходимо проследить его корни в югославской политической экономии и его связи с сетями власти, которые способствовали зависимости социалистической Македонии от глобального импорта и помощи. Между 1945 и 1991 годами Македония была одним из наименее развитых регионов Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), в которую также входили Словения, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория и два автономных региона – Косово и Воеводина. Благодаря внеблоковому статусу югославского государства, позволявшему СФРЮ иметь дело как с Западом, так и с Советским блоком, недоразвитость Македонии нивелировалась доступом к весьма недорогим кредитам для бизнеса и частных лиц.
Югославские финансы создавали пространство, где политические лидеры, бизнесмены и сотрудники разведки манипулировали международными валютными кредитами, чтобы поддерживать местные производства и гарантировать, что рабочие ощущают рост уровня жизни. В 1970-х рост финансового процветания замедлился в условиях стагнации и инфляции, усугубленных внезапным ростом цен на нефть и глобальных процентных ставок, известных как Волкеровский и нефтяной шоки. С истощением потока международных кредитов европейские партнеры отвернулись от югославской продукции и в начале 1980-х ужесточили политику кредитования. Не сумев получить новые международные займы, Югославия оказалась разорена из-за внешнего долга и гиперинфляции, что открыло путь к выкупам компаний, срежиссированным МВФ и международными кредиторами, в обмен на масштабное ужесточение бюджетной политики и структурные реформы.
В 1990-е годы с падением социалистической системы Югославия, и Македония в особенности, утратили свой геополитический статус и были ввергнуты в спираль финансового сжатия. Схемы дикой приватизации, предписанные международными организациями и реализованные бывшими коммунистическими лидерами, раздробили сферы политической власти и производственной инфраструктуры страны[32]. Как отмечали Вердери и Хамфри, переход от социализма вместо либеральных социальных структур и круга благоприятных возможностей, создаваемых конкуренцией, привел к установлению полуфеодальных порядков, характеризующихся политической раздробленностью и распадом общества[33]. Эта обстановка переходного периода была, судя по всему, полна драматичных, сеющих хаос конфликтов. Олигархи, мафия и банды конкурировали за власть над осколками социалистических государств[34]. В зазорах между этими конфликтами аппаратчики, международные организации и рядовые граждане полагались на старые и новые личные отношения, чтобы преодолеть экономические и бюрократические барьеры путем нелегальных, но морально оправданных компромиссов[35]. Эти неформальные финансовые процессы стали особенно очевидны в периферийных странах, поставленных на грань экономического краха геополитической нестабильностью и криминальной приватизацией, – таких, как Македония, где не только маргинализованные сообщества, но даже государственные учреждения оказались зависимыми от серых форм финансирования и системы семейных связей[36].
Если Македония не скатилась к открытой войне, как многие ее соседи, то только благодаря умелому руководству ее первого президента Киро Глигорова и его консолидированной сети бывших социалистических соратников. В бытность свою министром финансов, Глигоров разработал ряд конституционных реформ в Югославии и договорился о реструктуризации долга в период конца 1970-х – начала 1990-х. Эти международные связи помогли Глигорову добиться мирного вывода могущественной Югославской народной армии из Македонии. Но они же позволили Глигорову взаимодействовать с сетями бывших секретных агентов и руководителей импортно-экспортных операций и снабжать Македонию ресурсами, необходимыми для того, чтобы создать резервы для ее национальных банков и обеспечить другие критически важные услуги, включая доставку лекарств, топлива и продовольствия, ранее поставлявшиеся другими югославскими республиками.
Влияние Глигорова, однако, было недолгим. После того как в 1994 году он был выведен из игры в результате взрыва автомобиля, к власти в Македонии в первые годы переходного периода пришел Социал-демократический союз Македонии (СДСМ). Под руководством Бранко Црвенковского СДСМ ускорил процесс приватизации промышленности. Некомпетентные или нечестные менеджеры, поддерживаемые СДСМ, обанкротили сотни предприятий и присвоили доходы, что привело к потере тысяч рабочих мест. Одновременно македонцы оказались отрезанными от региональных и европейских рынков из-за Балканских войн и двух эмбарго, наложенных Грецией. Находясь на грани экономического коллапса, Македония столкнулась с отказом Греции признавать ее название[37], отрицанием существования македонской нации Болгарией и нежеланием Сербии признавать независимую Македонскую православную церковь. Македонские граждане, прежде свободно перемещавшиеся по миру со своими красными югославскими паспортами, вдруг оказались в экономической и политической изоляции, а свобода от социализма обернулась контрабандным ввозом и вывозом ресурсов из маленькой страны, в которой они были заперты, как в ловушке[38].
Тогда как македонцы пытались самоорганизоваться в неформальной экономике, политические элиты последовали совету международных организаций, которые ратовали за вступление страны в Европейский союз (ЕС) как наилучшее экономическое и политическое решение, способное покончить с финансовой стагнацией. Чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС, правое и левое правительства сократили госдолг, провели структурные реформы, снизили госинвестиции и гармонизировали юридические и экономические нормы страны с европейскими. К 2006 году, когда был избран Груевский, страна считалась образцом в проведении неолиберальных реформ в Восточной Европе и следующим кандидатом на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО). Но в 2008-м все изменилось. На саммите НАТО в Бухаресте, на заре финансового кризиса, Греция наложила вето на вступление Македонии в альянс и сигнализировала о своей готовности сделать то же в переговорах о вступлении в ЕС. После такого унижения Груевский сменил приоритеты[39]. Время постсоциалистической жесткой экономии кончилось.
(Не)ликвидность и режим
Сложно оценить, был ли саммит НАТО 2008 года переломным моментом в отношениях Груевского с Западом или он просто ускорил уже запущенный процесс становления авторитаризма. Ясно, однако, то, что жизнь при правлении Груевского радикально отличалась от того, что граждане переживали в период политического распада и финансовой фрагментации, свойственных для начала транзита. Режим Груевского парадоксально походил на процесс частичного возрождения: отдельные (репрессивные) направления политики использовали финансы, чтобы распространить влияние и централизовать македонское государство, а также внедриться в межличностные и неформальные отношения, ставшие пространством солидарности и смысла в предыдущие десятилетия.
Эта необычная конфигурация власти была отчасти результатом неустойчивого положения Груевского. В 1990-х его политическая клика занимала относительно маргинальные позиции. Связи его семьи с кругами олигархов и сотрудников спецслужб, которые возникли в результате транзита, были ослаблены смертью его дяди Йордана Миялкова. Между 1997 и 2002 годами Груевский, занимая пост министра финансов, сумел обзавестись личными связями и ресурсами, чтобы начать собственное восхождение к власти. Однако только с глобальным финансовым кризисом Груевский и его клика получили возможность преодолеть и замаскировать свое недостаточно центральное положение среди серых кардиналов постсоциалистического периода.
В отличие от стран, где стремительное развитие финансовой сферы облегчило наращивание чрезмерного долга, банковская система постсоциалистической Македонии была очень консервативной. До глобального финансового кризиса международные инвесторы, фонды и даже такие организации, как Всемирный банк и МВФ, проявляли мало интереса к этой стране, предпочитая другие, более прибыльные рынки, – и эта изоляция позволила сделать вывод, что Македония выстояла в шторме «с минимальным воздействием на местную экономику»[40]. В ходе глобального финансового кризиса, однако, неолиберальный стиль Груевского и брендинговые кампании его правительства обратили на себя внимание международных инвесторов. Пока обрушивалась архитектура глобальной ликвидности, македонское правительство сумело получить доступ к инвестициям от акторов, либо заинтересованных в диверсификации своих портфелей, либо стремящихся предотвратить распространение на Балканах долгового кризиса, который уже успел посеять хаос в Греции.
Существенная порция нового государственного долга была направлена на крупномасштабные строительные проекты. Задуманные как способ стимулировать сектор в кризис и повысить международную узнаваемость Македонии, «китчевые» и «неэффективные» городские проекты, такие как «Скопье-2014», вызывали опасения относительно способности Македонии выплатить свои долги. Чтобы поддерживать видимость бюджетной дисциплины, Груевский и его режим разработали хитроумные стратегии отложенных платежей, навязанных кредитов и нестандартных государственных (суб)контрактов. Для олигархов эти условия работали хорошо, поскольку открывали возможности для «творческих» способов отъема собственности. Однако в случае менеджеров и рабочих небольших компаний обещанное Груевским обогащение часто означало эксплуататорские условия труда, из-за которых они теряли и время, и деньги.
Сорвавшиеся сделки и ускользающие богатства, которые отмечали этот все более неравный контекст, заставили многих бизнесменов объяснять разнообразные финансовые неурядицы, мнимые банкротства и быстрое обогащение влиянием ВМРО-ДПМНЕ. Как теневой оператор финансов Македонии режим Груевского казался разрастающейся политической сущностью, призрачной силой, которая получила контроль и расширила свое влияние на македонское государство настолько, что могла повлиять на любую сделку. Подпитываемая фактами и слухами, неликвидность оказалась элементом атмосферы страха и надежды, которые граждане связывали с режимом Груевского, стала экономическим выражением палимпсеста из коллективных ожиданий, тенденций кредитования и политических интриг.
На базовом уровне чудовищная форма неликвидности, существовавшая в Македонии, отражала разворот потоков международных кредитов от частного сектора к государственному, вслед за глобальным финансовым кризисом. Но македонская неликвидность также воплощала собой второй, политический процесс. Отложенные платежи и несостоятельные сделки понимались как ясное доказательство авторитарного присутствия Груевского в повседневных явлениях – почти что инструмент, диагностирующий его растущую власть над македонским обществом. С точки зрения рабочих, бизнесменов и граждан, живущих в стагнирующей постсоциалистической экономике Македонии, неликвидность подкрепляла и усиливала тревоги, противоречия и другие формы социальной уязвимости – это третье, экзистенциальное социальное измерение, с помощью которого неликвидность наполняла личные отношения унынием и бесплодными ожиданиями.
Эти три аспекта неликвидности, отражающие глобальное преобразование кредита, цепочку политических зависимостей и экзистенциальные сомнения, определили постсоциалистическую форму политической магии – политическую и экономическую конъюнктуру, которая сделала режим Груевского реальным не вопреки, а благодаря его противоречиям. Одновременное присутствие и отсутствие денег позволило авторитарному правлению Груевского стать материальным, конкретным и цельным. Обещание финансовых расчетов с глобальными державами и их постоянная отсрочка сделали из Груевского необходимую фигуру, сакральную, почти демоническую сущность, чьи финансовые связи держали македонцев в удушающих путах. Неликвидность оправдывала режим Груевского на эмоциональном уровне, через надежду на восстановление гендерных прав, которые не могли осуществиться в полной мере. Так режим достиг апогея своего существования, скрывшего финансовые и политические опасения в слоях экстрактивного угнетения. В ситуации безысходности неликвидность превратила режим Груевского в последнюю надежду граждан. Покорившись ему и режиму ВМРО-ДПМНЕ, македонцы надеялись выбраться со свалки истории.
Далее, таким образом, последует рассказ о противоречивых отношениях, которые позволили Груевскому опираться на особую форму финансиализации, в которой запутанные, нежелательные и централизованные потоки долговых средств составляли «нормы и механизм власти»[41]. Ликвидность определяет процесс познания, в котором материальные техники, дискурсы и устройства нормализуют как риск, так и «мнимое чувство безопасности и оптимизма»[42]. В свою очередь неликвидность, понятая не как владение активами или форма знания, позволяющая продать активы на рынке, а как набор навязанных кредитных отношений, формировала безнадежную, полупрозрачную оценку геополитического контекста существования Македонии как столкновения между постсоциалистической периферией и глобальным финансовым кризисом[43].
В обстановке, полной противоречий, неликвидность превратилась в непредсказуемую пляску ситуативных и эксплуататорских финансовых связей, которые никого не могли обмануть, но были повсеместными из-за кажущегося отсутствия альтернативы. Экзистенциальные надежды, страхи и формы лишения собственности, сконцентрированные вокруг неликвидности, поддерживали авторитаризм на плаву. Как конъюнктура конъюнктур неликвидность стала предпосылкой, а также одним из следствий централизованного правления Груевского, финансовым пространством между обещанием и реальностью, между надежностью патернализма и реальностью насилия, благодаря которой ВМРО-ДПМНЕ казалась вечной – пока не кончилась.
Обзор глав
До 2015 года авторитарный режим Македонии упоминался в международных СМИ главным образом в связи с проектом «Скопье-2014». Происхождение и обоснование проекта, состоявшего из сотен новых зданий и статуй, прославляющих выдуманное эллинистическое и необарочное прошлое, были покрыты тайной. С тех пор предпринимались расследования, чтобы выяснить, сколько он стоил, какие компании выиграли контракты и кто из архитекторов предложил китчевую эстетику плана. Глава 1 рассказывает другую, скрытую историю – она о том, как теневые дельцы вступают в сговор с бывшими тайными агентами, замышляя разрушить бывшие социалистические предприятия и инвестировать во множество объектов недвижимости в Скопье. Глава описывает финансовые сети, находящиеся в центре строительного бума в Скопье, их связь с потребностью в иностранной валюте в социалистическую эпоху и их ключевую роль в поддержке политических амбиций Груевского. Проследив их траекторию в переходный период, глава показывает, как урбанизированная среда стала волшебным устройством, с помощью которого отмываются грязные деньги и двусмысленные властные отношения превращаются в национальную идентичность.
Македония в постпереходный период – это страна, бедная природными ресурсами, с высокой безработицей и небольшим количеством отраслей, создающих добавленную стоимость. Откуда же пришли средства на «Скопье-2014» и другие государственные инвестиции в проекты, связанные со строительством? Глава 2 разбирает международные условия, которые благоприятствовали и структурировали приток капитала в Македонию, фокусируясь на двух столпах финансовой экспансии на периферии (то есть на прямых иностранных инвестициях / ПИИ и фондах помощи). В ней описывается, почему международные инвесторы и организации решили предоставить средства македонскому правительству, несмотря на недостаток доверия, которое характеризовало глобальную экономику. Глава также прослеживает скитания группы итальянских инвесторов, пытавшихся ускользнуть от глобальной неликвидности, перехватив международные инвестиции в Македонии. Их истории описывают местные, ориентированные на ренту структуры, созданные правлением Груевского, и иллюстрируют, как ЕС, внутри которого нарастает неравенство и разобщенность, порождает финансовые периферии и поддерживает авторитарные режимы.
Каким образом международные кредиты преобразовались во власть внутри страны для правительства Груевского? В главе 3 я исследую особенности внутренней финансиализации Македонии, концентрируясь на кризисе неплатежей, последовавшим за глобальным финансовым кризисом, который способствовал возвращению сделок натурального обмена, известных в стране как «компенсация» (макед. компензациja). Намечая траекторию компенсации после социализма и ее связь с македонской банковской системой, глава описывает, как компании, не связанные с политикой, получают платежи товарами, которые им не нужны. Эти объекты, например квартиры или яйца, теряют ценность, обязывая бизнесы либо принимать убытки, либо избавляться от этой собственности, передавая ее субподрядчикам и рабочим. Описывая политическое принуждение и следующее за ним изъятие собственности, глава показывает, что компенсация представляет собой форму навязанного кредита, полностью встроенного в глобальные финансовые потоки. На периферии европейской и мировой финансовой системы необходимость конвертировать стоимость из одного средства оплаты в другое позволяет авторитарным режимам усиливать свою власть, проникая глубоко в человеческие социальные связи.
