Рыцарь из Таматархи
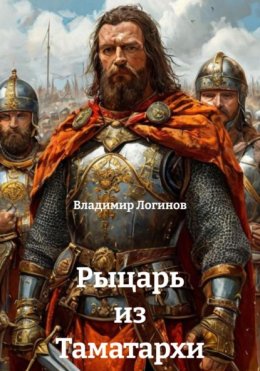
Верни мне мир людей красивых,
Верни надежду и любовь…
Глава 1. НАСТАВНИК
Раннее летнее утро застало деда Богуна в глубокой задумчивости. Он сидел на обросшем мхом валуне, на берегу моря, и взор его был устремлён скорей в себя, хотя, казалось, смотрел он куда-то в туманную даль. На чистом, будто умытом утренней росой небе, ещё синем, но уже тронутом розовой полоской зари, проглядывали кое-где колючие звёзды. Рассвет всегда наступает раньше, чем проснётся ветер и придёт из степи к воде, а потому поверхность её была спокойной гладкой; море ещё спало и дыхание его отражалось только в ленивой волне, набегавшей с лёгким шипением на прибрежную гальку. Эту утреннюю тишину и отсутствие какого-либо движения нарушали только две чайки, носившиеся со стонущими криками над морской гладью. Однако эти суетливые птицы, и дед Богун казались маленькими, а потому проглатывались утренней тишиной, морем и степью. Всё как-то переходило в иной мир, в иную жизнь, отличную от людской. Степные духи отступали, но как дикие звери, залегали где-то в складках бескрайней равнины, в дубово-буковых лесах вдали. За синей полосой горизонта клубилось что-то недоброе, подстерегающее, но куда-то манящее и загадочное…
Рассвет наступал медленно, но неотвратимо. Вот и ветерок проснулся, шевельнул седые космы на голове деда, и красавица-заря за его спиной окрасила нежнейшими охристо-розовыми валёрами четвертушку небесного свода, но он не обратил внимания на эту красоту. Перед его затуманенным взором протекал иной мир: мир его молодости с боевыми походами, с уртонами возле родников и рек, с жаркими сечами и тризнами после них. Вместо ноющих криков чаек слышал он визг и ржание коней, призывные звуки боевых труб, страшный лязг и звон мечей, стоны и выкрики, столкнувшихся в боевом азарте ратных дружин.
Дед будто слился с валуном, на котором сидел, но спина его не выглядела согбенной, придавленной прожитыми годами. Наоборот, хоть и подсохший от времени, стан его выглядел прямым, а в лежащих на коленях узловатых руках чувствовалась былая сила. Видно было по всему, что старик в молодости был громадиной. Такой спокойно мог размахивать тяжёлым, шипастым моргенштерном, мечом и боевой секирой. На левой щеке старого воина виднелся безобразный шрам от стрелы, которую он, по-видимому, в пылу боя просто вырвал с кусочком жевательной мышцы и кожи, а потом ему просто замазали рану густой смесью мёда и дёгтя.
Так как наступило пролетье и тепло, старик был бос. Ступни, в какой-то чешуе вместо кожи с загнутыми вниз жёлтыми ногтями, больше смахивали на куриные лапы. Однако одет он был в белую длинную рубашку, с вышитым красной нитью узором по подолу и вороту. Только рубаха эта была не простой, не для рыбака или пахаря. Она была из дорогой, висконовой ткани, византийского производства, а потому такое одеяние и широкий, в ладонь, военный ремень на поясе, указывали на то, что дед Богун принадлежал к знатному сословию.
Палевая дымка по горизонту сгустилась и порозовела, поверхность воды в море из тёмной стала нежно-салатного цвета, утренний бриз породил лёгкую волну. Дед очнулся от воспоминаний и повернул голову в сторону бегущего к нему верзилы с обрубком бревна на плечах. Сбросив бревёшко на гальку, парень заговорил:
– Ну, дед, сёдни пять поприщ отмахал!
Богун, взглянув на мокрую, прилипшую к телу, льняную рубаху парня, приложил суховатую ладонь на вздымающуюся грудь, и бодро заметил:
– Топаешь быдто лошадь, взмок лишку, а энто худо, но ништо, важно, что не задохся, младень! Сердце стукотит ровно, гулко! Эх вы! Привыкли всё на кониках гарцевать, а мы вот бывало, в молоди, в бытность деда твово, князя Святослава, по десять поприщ с полным вооружением пешком, рысью, пробегали, и хоть бы хны! Избаловались вы, нонешние!
– Не ворчи, дед! Чего пешком ходить, коли, кони есть! – огрызнулся парень!
– Дурень ты, Мстиславушка! – недовольно вскинул кустистые брови дед. – А ну яко, по случаю, конь падёт, егда ты в одиночестве, и запасной лошадки нетути, а надо поспешать? Ведь пёхом придётси, со всей амуницией и оружьем, да поприщ двадцать! Доброго ратника, воина, не просто вырастить, младень! Многих мучений, долготерпенья преодолеть надоть с отрочества, прежде чем получишь ратное обличье. Ну да не зря я старался! Зело крепок ты вырос, токмо вот грузнеть начинаешь, видать жрёшь много лишнего. А так ништо, даже статью, да и обличьем, на деда свово, князя Святослава, смахивать стал!
Парень поскучнел, неохотно возразил:
– Ну, чего ты, дед, едой меня попрекаешь?
– Да не попрекаю я тебя! – заметил Богун. – Но излишества не позволяй себе, дабы тяжко телу не было. Помню, отец твой, преславный князь Владимир, выделил тебе удел энтот Тмутараканской, и привёз тебя сюда боярин Ульян махонького, трёхгодовалого. Замухрышкой ты был тогда – вот и взялись тебя откармливать, и ведь откормили, богатырём стал. Ну, конечно, пестовал тебя я с малолетства, не давал в лености пребывать. Был я для тебя заместо матери и отца. Не я ли, и дружинники мои, обучали тебя искусству боя, владению моргенштерном, боевой секирой, а главно мечом и саблей? Я ведь, Мстиславушка, давно в энтих краях. Ещё дед твой, князь Святослав, после разгрома Хазарского Каганата оставил меня здесь воеводой, дал пять тыщ дружинников, и повелел обустраиваться, и не на время, а навсегда – вот вся жизня моя здесь и прошла. В трудах, заботах, в ратных походах… Я, младень, по молоди, где токмо не побывал, с кем токмо не ратоборствовал: и с булгарами, и с ромеями, и с печенегами, и вот с хазарами, да буртасы, да гузы, да о-о-о…
Дед завыл, словно волк в ночи, подняв глаза в утреннюю синеву неба. Парень же, как бы невзначай, заметил:
– А люди вот говорят, что отец дал мне, малолетнему, самый захудалый удел, да ещё на отшибе, понеже не любил меня.
– Что-о-о!!! – взвился Богун. – Много ты смыслишь, младень! Да Таматарха богаче Киева и Новгорода Великого вместе с Черниговом! Отец твой дал тебе, дурню, самый богатый удел, и любовь тута не при чём! Надо было стать твёрдой ногой в Предкавказье, и энто мудрое решение, парень. Здесь хазарские иудеи и византийцы самые хитрющие торговцы, но пошлинные сборы платят исправно. Мы же ежегодно отправляем в Киев дани немалыми обозами, с большой охраной. Одного серебра и изделий из него не одну телегу, а ещё посуду вельми изукрашенну, да парчу и ткани шёлковы, да кожи, а главно соль из Меотийского озера, да много чего. Ты же сам свидетель того! Аль не отбивал ты наскоки печенегов, жаждущих пограбить богатый обоз? Чего вон со смолян возьмёшь, аль с северян черниговских окромя ржи? А у нас тута и пшеница знатная родится, урожай богатеющий сбираем. То-то, младень!
– На отшибе живём! – упорствовал парень. – Далёко от земель русских!
Богун сурово посмотрел на него, но голос его помягчел:
– Да иде ж далёко, коли едут в энти края постоянно торговые гости со всей Руси-матушки, ажник с северных озёр, с Варяжского моря, с Новгорода Великого, с Пскова, почитай со всего леснова краю, да везут меховую рухлядь, за котору ромеи тутошни, золотыми солидами расплачиваютси. Они, солиды энти, ещё византиями прозывают, а серебряные монеты, милиариссиями. Ты же ведаешь! А потом здеся всё ж теплее, чем там, хотя рубим мы, русичи, себе хоромы из дуба, а здешние хазары, да и ромеи тож, ладят себе домы из камня дикого, а то и из глины. Вон Фанагорию греки сплошь из камня сработали, да и Таматарху тож. Давно ещё гунны, яко смерч бешеной, пронеслись по энтим краям, и энту Фанагорию, да Боспор за проливом пожгли, а стены-то каменны остались, тако греки города восстановили. А пошто? А по то, младень, что торговля тута вельми знатная, порты морския, соль из Меотийского озера, рыба добрая, а потом Шёлковый путь тута пролегает. Запомни, паря, оборот товаров чрез энти порты византийски, зело агромаден. Дед твой, князь Святослав, не зря уцепился за энти порты и землю Тмутараканскую, понеже большой доход землям русским торговля тутошня приносит…
На восточной стороне неба сквозь розово-палевую дымку горизонта проглянул край солнца, и лёгкие волны в море заиграли красноватыми бликами. Всё вокруг осветилось, приобрело контрастность, а чаек прибавилось. Богун между тем продолжал вразумлять своего подопечного:
– Твой отец, князь Владимир, сказал яко-то, а я запомнил: «… не голод и корысть создают добрую жизнь в народе, а крепкое частное хозяйство и крепкое взаимодействие энтих хозяйств меж собой. Их честность, трудолюбие, ограничение потребы, взаимное доверие, рождаемое выполнением обязанностей. Не страх и не властолюбие творит государственно единство, но создаётся готовностью к жертвам яко воина, тако и простого гражданина, верою в нравственну святость государства…».
Богун суровые брови свои, вдруг, раздвинул, посмотрел на парня ласково, заговорил мягче:
– Вот и тута дружинники наши, кто постарел, землю возле реки Кубана пашут, хлеб растят, а подвластны тебе хазары овечек, да коней пасут, а кто и тож земельку ковыряет, ну а уж торговцы тот хлеб, кожи скупают, да за море продают, подати тебе платят, по то и порядок в земле Тмутараканской. Ты уж привык здеся к народу разношёрстному, Мстиславушка. Ты посмотри, на яких токмо языках здеся не говорят. Не зря же я к тебе учителей ромейских приставил, дабы учили тебя всему, что сами знают. Вот и владеешь ты теперя языком греческим, и языком тюркским, и грамоту ромейску разумеешь, и счёту обучен. Князь грамотным должон быти. Не то, что вон Оттон, король германский, вместо подписи в указе своём, палец, бывало, послюнявит, в сажу окунёт, да в грамотку палец энтот и ткнёт. Вот и дружина у тебя разношёрстна: окромя русичей и хазары с булгарами, и аланы с касогами. Вон даже варяга, Юху Синисало, отец твой в дружину прислал, дабы норманн сей, обучал ратников твоих пехотному бою…
– А что, – оживился Мстислав, – зело добрый ратник, берсерком себя называет! Храбрец, отчаюга тот ещё! Жаль токмо, что язычник!
– Энто по то он себя тако называет, паря, что, егда достиг он возраста воина в пятнадцать годов, тако победил медведя с одним ножом, скрамасаксом называется по-ихнему. Учти, младень, победить матёрого медведя не кажному по плечу. Вот с той поры, энтот Юха и надевает медвежью шкуру егда в бой идёт, да ещё личину волчью, с клыками оскаленными, себе на рожу-то напяливает, да рога бычьи на главу водружает.
– Тако личину-то и я надеваю, егда в бой иду! А то, что в дружине у меня хазары, булгары, да аланы с касогами, тако ведь энто всё друзьяки мои! Я же с имя с отрочества, вырос, ты ж сам зрел!
– Ну, у тебя-то личина железна, – гнул своё Богун, – не така страхолюдна, яко у энтого Юхи! Ромеи вон яко его узрят в боевом облачении, тако в обморок падают! Ну, да ладно! Ты вот лучше мне поведай, пошто от жены, от Марии, морду воротишь? Всё ж княжна она аланска, знатного роду, детей вот двух тебе на свет произвела, наследника нам родила, Евстафия! Растёт ведь добрый отрок, да куда тамо – вьюнош! Дочка Татьяна, красавица писаная, замуж уж пора. И ты, не младень уже, а муж зрелой. Младень – энто ты для меня. Лет-то тебе уже за три десятка перевалило. Чего скажешь?
Мстислав замялся, не зная, как ответить наставнику. Богун подстегнул:
– Чего молчишь? Язык проглотил! Ну, соври что-нибудь!
– Тако врать-то не умею я! – промямлил, наконец, парень.
– Что-о!? Неужто хитрые ромеи не обучили тебя вранью? Дело-то нехитрое! – усмехнулся Богун. – Ладно, уж, коли, детей наклепал, тако значит, была меж вами любовь! Да и парень ты красивый, могутный. Взор у тебя, яко у орла, нос тонкой, с горбинкой, яко у скандинавов. Помни, что течёт в тебе кровь викингов, чрез мать твою, Рогнеду, и деда Рогволда, а оне, норманны, зело воинственны народы. Их хлебом не корми – дай повоевать…
– Я морду от неё не ворочу, дед, да токмо не любит она меня! – кинулся в признание Мстислав. – Я же чую! Уж ни за что лишний раз не обнимет! Да и в походах я ратных часто бываю! Рано вы меня оженили!
– Тьфу, ты! – развеселился Богун. – Да кто ж баб пытает, любят оне, аль нет!? Важно, чтоб парень любил и всё тута, а на неё наплевать! И не рано оженили, а в пятнадцать годков, то-то! Тако исстари заведено, ещё предками нашими, да и у других народов такой же обычай. Парень девку полюбил, а та уж молчи, подчиняйся. У меня вон их, баб энтих, косой десяток был, и я не разбирался с имя, любят оне меня, аль нет, лишь бы я любил!
– Некогда мне с ней любиться! – отрезал Мстислав. – Дела у меня поважней, сам ведаешь!
Богун пристукнул сухим кулаком по своему костистому колену, заговорил жёстко:
– Чего несёшь-то, дурень! Твоя родня теперя алански князья по жене! Энто твоя опора в ратных делах! Так что не смей Марью обижать!
– Да не обижаю я её, дед! – взвился Мстислав. – С чего ты взял?
– Эх ты! Она скрытная, токмо мне одному жалобилась! Якобы ты с ней редко беседы ведёшь, не приголубишь, не улыбнёшьси даже, с детьми не поиграешь!
– Тако егда играться-то? Ведь дома-то редко бываю! – оправдывался парень. – Вот и завтрева в поход, со всей дружиной, а энто три тыщи ратников, да и дорога дальняя!
– На касогов задумал? – Богун сурово глянул в глаза парню. – Чего ты с энтим Редедёй нияко не замиришьси?
– Он моих людишек притеснил, обидел, а то несносно мне! – парень с вызовом посмотрел на старого наставника. – Неужто простить? Ратники меня не поймут, дед! Слабым быть не желаю!
– Всё за славой воинской гоняешься! – Богун ещё раз пристукнул кулаком по колену. – С одной стороны энто похвально! Дед твой, князь Святослав, тоже великий воитель был, так и сгинул в бою. Другой твой дед, по матери, преславной Рогнеде, варяг, князь Рогволд, тоже велик воин, тоже пал в битве. Видать судьбу их повторить хочешь, а с другой стороны, в семье ведь порядок нужон, не то и не заметишь, яко в гнезде твоём змеи заведутси, Так-то, младень! Ну, да Перун тебе в помощь! В ночь энту, петуха ему в жертву принесу!
Мстислав подозрительно покосился не деда, обронил уже привычную фразу:
– Ты егда, дед, язычески привычки бросишь? Един у нас бог, Иисус Христос!
Богун протестующе поднял вверх руку ладонью к стоящему перед ним собеседнику, твёрдо заявил:
– Ты, Мстиславушка, меня не учи! Зелен ещё, хоша уже три десятка лет прожил! Не переделаться мне уже в нову, ромейску веру! Древняя вера предков наших держит меня ещё на энтом свете. Обычаи старые блюду и на том стоять буду!
Послышался конский топот, и подскакавший гридень, бодро соскочив с коня, согнулся в поклоне.
– Ну, что там, Трофим? – нетерпеливо воскликнул Мстислав.
– Тако гонцы прибыли, княже! – выпалил парень.
– Откуда?
– Тако один из Чернигова, а другой от князя касожского, Редеди!
Глава 2. ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК
Богун, бодро встав с камня, сел в седло, глухо проворчал:
– Ноги, что-то болеть стали, ребятушки, ну, а вы поспешайте пёхом!
Наставник, хлестнув коня концом повода, ускакал вперёд, а Мстислав с гриднем пошли вслед по прибрежной гальке к мысу с одиноко стоявшим дубом. За мысом перед ними открылась панорама Таматархи с одноэтажными, в основном, домами из дубовых брёвен, с огородами и виноградниками. Хотя ближе к морю высились двухэтажные каменные дома людей торговых с окнами, блиставшими византийскими стёклами. Княжеское же подворье выделялось крепким, двухсаженным забором из вертикально вкопанных, заострённых вверху брёвен, внутри которого располагалась двухэтажная изба князя, а вокруг кузня, казарма, конюшня, амбары, клуни, даже огород и баня. В морскую гладь врезалось более десятка причалов, тоже из крепких дубовых брёвен. Тёмными силуэтами виднелись длинные складские помещения, а возле них муравьями шевелились люди. Причалы обросли галерами, с которых суетливо разгружался прибывший товар. Полуголые грузчики таскали мешки, катили бочки на берег. Здесь же несколько человек в тяжёлых дорогих одеждах степенно распоряжались, указывая, куда какой товар нести. На рейде две одномачтовые триеры ждали, когда освободится какой-нибудь причал. Ещё дальше на рейде виднелся громоздкий двухмачтовый дромон из Византии.
По выложенной диким камнем улице сновали люди. Женщины, проводив коров и овец с общее стадо, торопились к заутрене в небольшую деревянную церковку. Поравнявшись с князем, низко кланялись ему. Мстислав, не обращая внимания на женщин, высказал давно засевшую в голове мысль:
– Надо бы храм Божий из камня сладить, Трофим! Не дай, не приведи, сгорит энта деревянна, а каменной-то ничего не содеетси! Пойдём-ка и мы к заутрене!
– А яко же гонцы, княже?
– Подождут! – улыбнулся Мстислав. – Не велики птицы! Да може один-то, черниговский, и сам в церкви, ежли христианин!
Прихожане уже давно привыкли к тому, что их князь по утрам приходил в церковь босой и в простой, льняной рубахе без подпояски. Некоторые считали это признаком набожности. Но чаще всего люди подолгу не видели князя, понимали, что он в очередном походе.
Помолившись, Мстислав прошёл в детинец, где, умывшись и переодевшись в жилой части большого княжеского дома, как-то виновато заявил жене:
– Ты, Марьюшка, не взыщи, я уж поем чего ни то за общим гостевым столом! Гонцы прибыли, вести должно срочные!
Мария, красавица восточного типа, молодая ещё женщина, печально улыбнулась, слабо махнула рукой, отпуская мужа.
Мстислав прошёл в другую половину дома, где обычно проводились официальные приёмы, и думские заседания. Там его уже ждали. На пристенных лавках сидели четверо: думный боярин Мирослав, ближайший друг и сподвижник Давид, варяг Юха Синисалу, по прозвищу Кантеле, и, по-видимому, гонец. Массивный дубовый стол был заставлен лёгкими закусками; в центре высился серебряный лекиф с вином местного производства. При виде вошедшего князя все встали, коротко поклонились. Мстислав, пытливо глянув на гонца, коротко бросил:
– Сказывай!
Гонец, молодой парень, был одет по-дорожному: короткая кольчужка, натянута на стеганую рубаху, кожаная юбка с разрезами, из под которой выглядывали синие штаны, заправленные в мягкие жёлтые сапожки. Протянув князю небольшой берестяной свиток, также коротко ответил:
– Тако тута всё сказано, княже!
Мстислав развернул бересту, прочитал лаконичное послание: «Приходи и владей землёй Северской, Черниговом-градом! Христом-Богом заклинаем, князь Мстислав»! Подняв глаза на гонца, спросил:
– На словах что скажешь?
Парень, по какому-то своему разумению, охотно пояснил:
– Тако озимые добре взошли, яровые отсеяли уже, на Пахома лён сеять зачали, а егда я отправился сюды, Цветень уже заканчивался, тако гречиху люди в земельку бросали, три грозы были, да и полосатая ленивица вовсю куковала, лето доброе должно быти, старики сказывали…
Мстислав нетерпеливо тряхнул головой:
– Тя, яко кличут-то, гонец?
– Митрием, княже!
– Тако я, Митрий, хочу ведать, яко люди-то черниговски настроены, а ты мне тута про посевную поёшь!
Парень смутился, поспешно заговорил:
– Тако люди черниговски тебя ждут, княже! Отец твой, князь Володимир, стар стал, за всеми землями уследить не в силах!
– Ладно, Митрий! – Мстислав махнул рукой, отпуская. – Иди на кухню, там тебя покормят горячим, да и отдыхай! Ответ передам с тобой завтрева, утречком!
Косые, красноватые лучи взошедшего солнышка протянулись от трёх небольших окошек к противоположной стене и окрасили оранжевым цветом гладкое бревно с пристенной лавкой. Мстислав присел на неё, спросил:
– Что скажете, друзья мои?
Боярин Мирослав молчал, не зная, что сказать по такому случаю, а Давид же осторожно заметил:
– Ты погоди, Мстислав! Не до Чернигова нам теперь! Ещё один гонец в сенях сидит, ночью прибыл.
Князь встрепенулся, пронзил взглядом сподвижника, упрекнул:
– Чего ж молчал? Откуда гонец? Накормили хоть?
– От касогов, княже!
– Давай его сюда!
В гостевую вошёл грузный мужчина, в годах, одетый по-военному. Поклонился князю, заговорил на западно-тюркском наречии:
– Коназ, мой владыка, Редедя, зовёт тебя на ратоборство, в место, где Бараньи лбы!
– Где это? Сказывай толком, воин!
– Аул Балта знаешь?
– Знаю! Чомо имор! (Продолжай)
– В начале новой луны мой князь будет ждать тебя там!
– Добро, приду! Завтра же выступаю! Тебя покормили?
– Хвала Тенгри-хану, коназ! Мясо давали, хлеб давали, вино давали, греческое, но наше лучше! Премного благодарен тебе и людям твоим!
– Добро, иди! В Таматархе тебя больше не держу!
Когда касожский гонец удалился, Давид выразил опасение:
– А вдруг это ловушка, княже?
Мстислав отрицательно покачал головой, чётко высказался:
– Редедя честный человек, други мои! На подлость не способен!
– Это не всё, княже! – объявил Давид. – Ещё есть гонец!
Мстислав удивлённо поднял брови, заговорил по-гречески:
– Везёт мне сегодня на гонцов!
– Бери выше, Мстислав! Этот посол не простой, с дарами прибыл!
– Господи, да откуда?
– Из Грузии, от царя Баграта Ш, княже! Не беспокойся, первым делом накормили! Он же не один, с охраной прибыл!
– А гонец от касогов не видел его?
– Нет, он в других сенях был!
– Ну, так зови! Послушаем, чего там грузинам надо!
Давид вышел, а в гостевую комнату вошли командир хазарского отряда Ханукка и воевода аланского полка Ангуш. Мстислав жестом руки указал им на лавку. Почти следом за ними Давид привёл третьего гонца. Два воина внесли резной сундук из чёрного дерева с инкрустациями. Все сразу поняли, что не простой это посол. Грузинский посланник был одет в нарядную белую черкеску и белые сапожки с серебряной отделкой, но сопровождающая его охрана была облачена в стальные доспехи явно арабского производства. Посол снял белую папаху, взяв её в левую руку, широко перекрестившись, поклонился в сторону красного угла, где на полочке стояла икона Богоматери с младенцем, а потом, прижав правую руку к сердцу, с достоинством сделал поклон князю. Наконец, выпрямившись, заговорил. Давид, хорошо знавший грузинский язык, стал переводить:
– Он говорит, что царь Грузии Баграт Ш шлёт тебе пожелание здоровья и удачи, хочет дружить с тобой, приглашает в гости и просит принять дары! От себя добавлю, Мстислав, не отвергай даров! Гонец также говорит, что проехал по землям касогов и видел ратные сборы людей князя Редеди! Царь Грузии ищет себе союзника на севере, нам это выгодно! Что скажешь посланнику царя Баграта?
Мстислав задумался, но люди напряжённо ждали, и надо было принимать решение. Иметь союзника в лице сильной Грузии очень даже неплохо, но с другой стороны союзничество налагает и определённые обязательства. В чём они заключаются? Скорей всего Баграт хочет обезопасить свои земли с севера от разбойничьих набегов Редеди. Наконец, князь заговорил, но как-то, показалось, легкомысленно, с шутливой усмешкой:
– Где энто ты, Давид, успел так насобачиться говорить по-грузински?
Хозяйственник, было, смутился, но быстро ответил:
– Так ведь с торговцами часто приходится общаться, княже, по налогам и сборам, а грузинских гостей у нас тут немало! Я и армянский знаю неплохо!
– Ну, ладно, Давид! Спроси, яко имя-то у гонца?
– Вахтанг, говорит!
– Добро, переведи ему, что коли к нам с добром, то и мы ответим тем же! Принимаем дары!
Давид перевёл, воины открыли сундук и стали вынимать из него бухты разноцветного шёлка, оружие в дорогих ножнах. Посланник вынул большое серебряное блюдо, которое оплетала золотая виноградная лоза.
Мстислав мигнул боярину Мирославу, тот всё понял, вышел и почти тут же вернулся с объёмистым мешком.
– Давид переведи гонцу! – обратился князь к хозяйственнику. – В знак дружбы с Грузией мы желаем свезти царю Баграту русские дары – энто пушнина из полсотни соболей! Мирослав покажи!
Думский боярин вынул из мешка великолепную соболью шкурку и растянул её в руках. Мех заискрился, заиграл в лучах утреннего солнца. Грузин низко поклонился в знак благодарности.
– Скажи ему, Давид! – продолжил князь. – Аще он желает, то пусть гостит в Таматархе, сколь ему заблагорассудится, а мне некогда, понеже я с дружиной выступаю завтрева в поход противу князя Редеди и пиры пировать мне тута недосуг!
Лицо Вахтанга озарилось радостной улыбкой, и он заговорил на почти хорошем русском языке:
– Какой пиры! Какой гостить, князь! Я с тобой иду! А дары ваши богаты! Я свезу их моему повелителю!
Люди в гостиной онемели от неожиданности. Никто не ожидал, что посланник заговорит по-русски, но, осознав, наконец, произошедшее, зацокали от восхищения языками и заулыбались. Посланник же в душе ликовал: он никак не ожидал, что всё обернётся как нельзя лучше. Оказалось, что и не надо уговаривать тмутараканского князя отвлечь на себя силы касогов, в то время как войска царя Баграта увязли в противостоянии с халифатом, сельджуками и Византией. Это большая удача. Посланник Грузии готов был расцеловать этого русского богатыря от переизбытка чувств, если бы это было возможно и не надо соблюдать строгий посольский этикет.
Удивлённый Мстислав всё-таки спросил:
– А иде ж языку-то нашему обучился, Вахтанг?
Прижав опять правую ладонь к груди, посол сообщил:
– В Кахетии жил один русский торговец – вот он меня и обучал, князь! Я с детства, яко говорят, имел способность к языкам! Владею ещё тюркским, арабским и греческим! Понимаю и мало-мало говорю ещё по-иудейски!
– Молодец, Вахтанг! – воскликнул Мстислав, улыбнувшись. – Люблю книгочеев и хронистов!
Сдерживая эмоции, посол осторожно спросил по-гречески:
– Ты меня прости, князь, но я хотел бы знать, какой ратной силой владеешь?
Мстислав посуровел, но ответил по-тюркски:
– В моей дружине сейчас три тысячи воинов, могу и увеличить втрое, но на это нужно время, а его уже нет, Вахтанг!
– Маловато, князь! У Редеди вдвое больше ратников будет!
– Выведал уже, – экий молодец! Ништо, одолеем! – беспечно ответил Мстислав. – Каждый мой ратник ещё, будучи отроком, с молоди обучался искусству боя!
– Прости, князь, но помочь тебе сейчас мы не в силах! Часть наших войск в долине Куры противу персов, а другая часть ратоборствует с сельджуками, да ещё Византия не даёт вздохнуть…
– Да не бери в голову, Вахтанг! – махнул рукой Мстислав. – Говорю же, одолеем!
– Уверенность полководца – это уже наполовину выигранное сражение! – осторожно заговорил посланник. – Со своей стороны могу помочь только тем, что проведу твою рать незаметно в тыл войску Редеди. Места мне те знакомы.
Мстислав насторожился. Довериться человеку, которого видишь впервые, было не в его правилах:
– Ну, зачем тебя беспокоить, Вахтанг! – дипломатично заговорил он. – Ты посланник своего владыки, а мы обязаны беречь послов, они правят дела своего государства. Отдыхай, давай со своими людьми, а мы будем собираться в дорогу. Знай, Вахтанг, я не собака, что лает вслед и кусает за пятки, я всегда иду открыто, лоб в лоб, и побеждаю в честном бою. Давид проводи посланника в гостевой терем!
*****
Не заметить, что хозяин тмутараканских земель, князь Мстислав Владимирович, собирается в поход, и, что приехали в Таматарху какие-то гонцы и послы невозможно, а потому старшина городского совета, Ханаан бен Ханаан забеспокоился. Богатый торговец солью, снабжавший своим стратегическим товаром Константинополь, Херсонес и Фасис, хотел знать, зачем приехали послы и гонцы, и чего ему ждать, к чему готовиться горожанам. Все эти хлопоты начались ещё с утра: куда-то носились по улицам всадники, из детинца доносились торопливые перезвоны кузнечных молотков, видимо подковывали коней и что-то поправляли из амуниции, какие-то подводы застучали колёсами по мостовой, мощенной камнями и костями животных.
Ханаан срочно созвал членов совета в свой большой каменный дом, где первый этаж специально был отведён для собраний или пиров и мог вместить до сотни человек. Вместе со старшиной членов совета было девять человек, но в этот раз удалось собрать всего-то пятерых, остальные были в разъездах. Однако Ханаан послал нарочного за Давидом, который приходился ему племянником, потому что только он один мог разъяснить, что происходит в городе, и что это за суета.
Старшина городского совета избирался на два года и одновременно исполнял обязанности мирового судьи. Возле дома главы уже с утра торчали какие-то спорщики и жалобщики. Обеспокоенному Ханаану было не до них, на душе и так было пакостно, но и прогнать людей нельзя. Когда придёт Давид тоже неизвестно, а потому Ханаан бен Ханаан, он же судья, решил по-быстрому разобраться с жалобщиками. Надев на себя шёлковую чёрно-белую хламиду с бриллиантовой застёжкой, символизирующую собой борьбу добра со злом и красную судейскую шапочку, Ханаан, при своём длинном носе, стал больше походить на большого дятла, чем на судейского чиновника. Своему помощнику, который исполнял обязанности не то секретаря, не то слуги он раздражённо приказал:
– Башара, зови, кто там припёрся!
Судебное разбирательство должно было бы вестись на иудейском языке, но так как его толком мало кто знал из простых горожан, а то и совсем им не владел, приходилось вести суд на бытовых языках. Обычно пользовались тюркским или греческим. Вообще в Таматархе общались на четырёх языках: на иудейском, греческом, тюркском и русском языках. А ещё часто звучала здесь армянская, грузинская и даже арабская речь. За много лет люди привыкли друг к другу, знали и понемногу понимали все языки, что здесь применялись, и поневоле становились полиглотами. Однако русская диаспора была здесь, пожалуй, самой большой – это и купцы с семьями, и ветераны, и дружина, хотя и она состояла наполовину из хазар, алан и булгар.
В помещение вошли двое: один был рыбак, по имени Иосиф, а другого звали Сарай. Оба жалобщика, неопределённого возраста, были одеты плохо, взять с них явно было нечего, хотя жизненный опыт подсказывал судье, что некоторые специально одеваются в рваньё, чтобы скрыть свой достаток, и как можно меньше уплатить за разбор дела. Только судья, он же глава городского совета, несмотря на десятитысячное население Таматархи, знал многих лично.
– Говори ты, Иосиф! – обратился Ханаан к рыбаку. – Только коротко! Некогда мне тут с вами, сегодня!
– Поймал я двух приличных осетров третьего дня, – заговорил Иосиф, – посолил и подвесил для провяливанья у себя во дворе, а его вон собаки, – он
кивнул на Сарая, – моих осетров сожрали! Они у него вечно голодные, потому что кроме тыквенных корок и капустных кочерыжек ему и дать им нечего. Прошу наказать этого нерадивого соседа и пусть он возместит мне убыток!
– Ну, что ж, Иосиф! – глубокомысленно изрёк судья. – Ты прав! А ты что скажешь, Сарай? Обвинение не лишено оснований!
Хазарин с шумом высморкался в подол своей затасканной донельзя рубахи и решительно заявил:
– А кто видел, что именно мои собаки съели его осетров? А потом я сколько раз ему говорил, чтобы он заделал дыру в своём заборе!
Судья от такого довода отмахнуться не мог, и, занятый какими-то своими мыслями, брякнул:
– И ты прав, Сарай!
Один из членов совета, молча наблюдавший за всем этим судилищем, вдруг, заявил:
– По «Димосию-канону», Ханаан, этот Сарай должен за съеденных осетров отдать своих собак потерпевшей стороне, а суду уплатить один милиариссий!
Судья повернул растерянное лицо к говорившему и промямлил:
– И ты прав, Афанасий!
– А на кой чёрт мне его облезлые собаки! – возмутился Иосиф.
– Будут сторожить твоё подворье! – резюмировал судья. – И никто уже ничего у тебя не украдёт! А не хочешь так сошьёшь из шкур этих собак себе шапку на зиму, от холодных ветров лысину свою прикроешь.
– Да вы что-о! – встал на дыбы Сарай. – Ещё раз спрашиваю, кто видел, что это были мои собаки, а может это псы другого соседа, а? Пусть Иосиф заплатит мне за оговор и за всю эту напраслину!
Ханаан повернулся к Иосифу, заговорил увещевающе:
– Послушай, Иосиф, заплати ты Сараю, выпейте вина, да и помиритесь!
Рыбак совсем вышел из себя и уже заорал, забыв в ажиотаже, что этого в суде делать нельзя:
– Это почему же я платить-то должен?! Мы тебя выбрали Ханаан, чтобы ты судил по справедливости, а ты несёшь тут какую-то ахинею!
Теперь уже пришла очередь возмутиться судье:
– Вы где находитесь, олухи! Чего разорались! Налагаю на вас, на обоих, штрафную виру, по одному милиариссию с головы! Эй, Башара, вытолкай этих идиотов отсюда! Гони их в шею, да не забудь взять с них штраф! Тут не знаешь, как жив, останешься, а они со своими собаками, да какой-то там рыбой! Тьфу! Тут того и гляди, касоги нагрянут – мало не покажется…
– Чего это вы здесь расшумелись, дядя? – воскликнул Давид, входя в помещение.
Ханаан, тут же остыв, обрадовался приходу племянника, крикнул вдогонку секретарю, который продолжал выталкивать жалобщиков:
– Башара! Скажи там, что судебного разбирательства сегодня не будет, у нас тут совет срочно собрался!
Давид с ухмылкой посмотрел в растерянное лицо дяди, и сел в кресло председателя. Члены городского совета молча смотрели на это самоуправство. Должность у Давида, несмотря на молодость, позволяла это, хотя дядю он
уважал, но просто хлопотливое утро замотало, и ему уже было не до соблюдения этикета или семейных традиций.
– Чего вы тут всполошились, спрашиваю?
– Я тебя умоляю, племянник, – заговорил обеспокоенным голосом Ханаан, – в городе военная суета, а нам хоть бы ворона весть какую-нибудь прокаркала! Неужто князь ворога какого-либо учуял? Послы, гонцы какие-то понаехали! Нам-то чего ожидать, к чему готовиться? Уж не зиги ли двигаются на нас, грабежами промышляющие, или касоги? Ты уж просвети! Всё ж ты первый помощник и советник у князя Мстислава…
– Да успокойтесь вы! – заговорил Давид. – Я уж специально забежал сюда предупредить, чтоб панику не устраивали! Ну, собрался князь в поход, так не впервой же!
– Ага! – возразил Ханаан. – Помнится, вот так же князь уехал с дружиной, а зиги тут как тут!
– Ха! – усмехнулся Давид. – Так это когда было-то!? Князя тогда, по-молодости его, обманули: он в одну сторону, а разбойники с другой стороны припёрлись, с моря. Ну, пограбили Таматарху малость, пожгли кой-чего, так князь быстро вернулся, зигов тех наказал, добро ваше вернул.
– Пуганая ворона куста боится, парень! – упорствовал Ханаан. – Я сколько раз говорил, что надо бы город стеной каменной обнести, так князю наплевать, да и протевону города, Феофану Дуке, видать тоже!
– Причём тут князь, дядя? – повысил голос Давид и осуждающе посмотрел на членов городского совета, которые тут же отвели глаза в сторону. – В Таматархе полно богатого торгового люда, а камень надо ломать, возить сюда, да строить! Людей много надо, но вы же знаете, что князь Мстислав рабства не признаёт. Рабов в городе нет, так кто вам мешает скинуться, да нанять работных людей, заплатить по-божески. Так не-ет, жадные вы все, и уж чересчур скупые, за один медный фолла удавитесь. Между прочим, крепостная стена, – это забота городского совета!
– Пусть у протевона города голова об этом болит! Да ладно, Давид, стену мы возведём! Даже часть камня заготовили, навозили на галерах, вон из-за пролива, из каменоломен Боспора. А вот сейчас опасаемся тех же разбойников зигов! Как бы и в этот раз не повторилось нашествие разбойного люда! – проворчал, судья.
– Не повторится, дядя! Мстислав оставляет здесь малую дружину во главе с сотником Лютым, да Юху Кантеле с сотней хазар.
– А, – этот язычник Синисалу!? Ну, тогда мы спокойны, племянничек! А что за послы-то понаехали? И куда князь собрался?
Давид брови нахмурил, на старого родственника посмотрел строго, выговорил как ученику:
– Дядя! Ну, вы что дитё? Ну, где это видано, чтобы интересовались, куда ратные люди направляются? А что касаемо гостей, так могу сообщить: грузинский посол приехал, передал, что царь Баграт Ш с нашим князем дружбы ищет – вот такие дела…
Ханаан проницательно посмотрел в глаза племяннику, заговорил как-то издалека:
– Ты, Давид, парень образованный, наукам разным, истории, счёту и языкам тебя обучал раввин Обадия. Ты побывал в Греции, в Шемахе, в Египте, встречался и вёл диспуты с выдающимися учёными разных стран. Ты знаешь, что ещё в середине прошлого века прадед Мстислава, князь Игорь захватил Самкерц (Тамань), но это дорого обошлось ему. Наш иудейский полководец славный Пейсах город отвоевал, разгромил крымских ромеев и немногие греки с побережья спаслись только за мощными стенами Херсонеса. Пейсах тогда через Перекоп прошёл до Киева и принудил русов заплатить большую дань. Правда и то, что сын князя Игоря Святослав позже разгромил наш Каганат, но торговцев Таматархи он не стал обижать, они тогда откупились…
– К чему бы это, дядя!
– А к тому, Давид, – продолжил Ханаан, – что Тмутараканская земля богата хлебом, рыбой и солью, я уж не говорю о больших партиях кожи, что проходят через наш порт. Шёлковый путь хоть и оскудел из-за беспорядков в Китае, но ещё приносит нам немалую прибыль, и даже после того как князь Мстислав запретил торговлю рабами в Танаисе, богатства наши продолжают увеличиваться. Не мы ли, иудейские торговцы, да и иные тож, снабжаем войско князя всем, что нужно ратным людям. Ты же знаешь, что вооружение конного воина стоит очень дорого, хороший каменный дом можно построить на эти деньги. Помню, в прошлом году пришёл большой караван из-за Гурганского моря (Каспий), с грузом шёлка. Богатый караван, сорок верблюдов, а охрана, тьфу, полтора десятка каких-то босяков с ржавыми мечами на худых клячах! Как их по дороге не ограбили гузы или печенеги ума не приложу? Так уж, случайно проскочили эти торговцы из Хорезма! Мы, конечно, нажили хороший барыш на этом шёлке, перепродав его за море! Я это к тому, что, не мы ли, торговцы, пополняем казну князя Мстислава? Кроме того, что мы платим общую десятину в казну, нам приходится вносить ещё плату за торговые сделки, да пошлинные сборы, да налог на имущество, хоть он и небольшой, да мало ли чего ещё. Никто из вас не удосужился посчитать, во что нам обходится строительство галер для торгового флота, а надо бы. А ветряки для производства муки? А закупка железа? Богатому, в отличие от бедного, приходится вертеться даже во сне. Ты ведь у него исполняешь обязанности казначея и советника!?
– Ну и что? – недоумевал Давид.
– А то, племянничек, что сидеть бы нашему князю в Таматархе, да не задирать соседей! Может, и Пейсаху-то нашему не надо было ходить дальше Перекопа!
– Да Мстислав и не задирает никого! Ты что не видишь, дядя, что этим соседям завидущим не дают покоя наши богатства? Поневоле приходится укреплять дружину, да давать по зубам этим соседям, чтоб не зарились на чужое добро.
– Слушай, Давид! Ты что, думаешь, я не догадался, куда князь собрался? Наверняка за Кубан, на князя касогов Редедю, на зигов, нацелился наш Мстислав! А вдруг это ошибка! Мы же торгуем с касогами! Кроме Таматархи им некуда гнать своих баранов и коров. У меня вон скотобойня, да цех по выделке кож, сколь народу я кормлю!? И ведь я не один скотопромышленник в этом городе! Так что не буди лихо, пока оно спит – вот ведь что в народе говорят!
– Никто не спит, дядя, тем более этот Редедя, а принуждает нас к действию! А ты, коли догадался, так помалкивай! – сердито подвёл итог неприятному разговору Давид, в волнении перейдя с тюркского на греческий язык.
Ханаан посмотрел на молча сидевших членов городского совета, как бы ища у них поддержки, и вновь сделал попытку убедить в своей правоте упрямого племянника:
– Погоди, Давид! Неужели ум нашего князя никогда не посещают сомнения? Ведь ещё в древности греческий мыслитель, великий Платон, сказал: «Всё подвергай сомнению!». Вы же советники у князя, чего ж молчите?
Давид выпучил глаза на родственника, потеряв от неожиданности дар речи, наконец, опомнившись, и, подавив раздражение, заговорил, как ему показалось увещевающе:
– Мстислав наш друг, мы выросли вместе, дядя! Не скрою – он прямолинеен и прост, но может в этом и сила его, к тому же он убеждённый христианин, а вера это тот стержень, который держит человека на этом свете, не даёт ему упасть. Надо быть полным идиотом, чтобы заронить искру сомнения в душу вождя перед походом на неприятеля! Это ведь обречь войско заранее на поражение! Неужели, дядя, вам это непонятно?
– Мне всё понятно, племянник! – упорствовал Ханаан. – Но ведь тебе известно из хроник, сколько правителей в прошлом, не сомневаясь, подвели свои страны к пропасти развала.
– Дядя, давай закончим этот разговор! – Давид встал с кресла, намереваясь уйти. – Князь Мстислав решителен и смел – это залог его побед!
Судья бросил вдогонку племяннику горькие слова:
– Смелость и решительность ещё не есть признак ума! Лев тоже обладает этими качествами, племянничек…
Глава 3. ПОХОД
Если взглянуть в безмерную глубину просторов Востока, то Предкавказье предстанет пытливому взору всего лишь пространством, через которую прошла очень уж большая череда народов. Через эти, богатые травами, удивительные степи прошли, с дрожью неслышимого гула, целые тысячелетия, слагаясь в стройный очерк судьбы народов, населявших эти места. Византийские хроники умалчивают о том, кто пас скот и жил здесь до сарматов. Позже через эти земли прокатилась неукротимая волна неутомимой конницы гуннов, разгромив здесь аланские племена и дошедших на далёком юге до Сирии и Палестины.
Вскоре гунны вернулись, и, смешавшись с аборигенами Северного Кавказа в лице савир, хазар и булгар, расселились на землях Предкавказья, не затронув горские племена. Энергичный князь Болах создал из этих народов военно-племенной союз, по сути, для грабежа Закавказья. Лоскутное государство его, Византия назвала Берсилией, и произошло это в середине У1 века.
Крещёный в Православии князь Болах, возглавив эту Берсилию, навязал иранскому шаху Каваду изнурительную войну на долгие времена, да и погиб в этом противостоянии. Закономерно и то, что «лоскутное одеяло» это, какая-то странная Берсилия, досталось его молодой жене, прекрасной Боарикс, потому что у горских народов жена погибшего в бою правителя считалась матерью всех людей, проживающих на подвластной территории. Она оказалась не менее энергичной, чем её муж, но, Боарикс недолго правила этой страной, так как вскоре вышла замуж за русского князя, племени вятичей, да и уехала с ним на его родину, передав бразды правления в государстве малолетнему сыну князя Болаха Булану.
Естественно всё проходит со временем, и после отъезда Боарикс на Русь, развалилась и Берсилия под ударами персидского шаха Хосрова Ануширвана, сына шаха Кавада. Вскоре на её обломках возник Хазарский Каганат, который только и занимался тем, что грабил на юге Закавказье, а на севере русские княжества и волжскую Булгарию. Чтобы хоть как-то сдержать хазарскую конницу на юге, Шах Хосров вынужден был возвести каменную стену в районе Дербента от отрогов Большого Кавказа до берегов Каспия. Позже власть в Каганате тихой сапой захватили иудеи, выгнанные из Ирана. Здесь они развернули широкомасштабную торговлю, в том числе и рабами, через черноморские порты и наживали огромные барыши. Но и Каганат пал в середине Х-го века, вдоль и поперёк проутюженный русскими полками князя Святослава, который образовал в здешних местах Тмутараканское княжество. Иудейским же хазарам было абсолютно наплевать, кто возглавляет эту территорию, лишь бы правитель надёжно защищал их прибыльную торговлю, которая приносила в казну князя немалые деньги в виде пошлин, налогов и портовых сборов.
Тогда, в начале Х1 века, долины рек Кубани и Терека с многочисленными притоками, а также предгорья Большого Кавказа, сплошь были покрыты дубово-буковыми и еловыми лесами, в которых водились бесчисленные стада зубров, оленей и кабанов. На них охотились барсы, волки и горцы, населявшие эти дикие места. Только горцы жили не только охотой на многочисленное зверьё, но имели и свой, домашний скот, а, кроме того, засевали отвоёванные у леса поляны пшеницей и рожью. Из овечьей шерсти горские женщины изготовляли одежду и ковры, а мужчины эту шерсть, мясо и кожи обменивали в портовых, черноморских городах на более тонкое бельё из шёлка и льна. Таким же образом в горы попадали женские украшения и оружие, хотя горцы и сами умели ковать великолепные клинки, а из серебра изготовлять не менее великолепную посуду.
Все эти горские племена византийцы в те времена называли одним словом – касоги, хотя они себя называли адыгами, черкесами, карачаевцами, кабардинцами, вайнахами и так далее. Часть горских народов приняла к началу Х1 века ислам, а князь яссов, предков осетин, Алп-Илитвер, ещё в Х веке принял Православие для своего народа. Получается, что осетинский князь принял Православие даже раньше русского князя Владимира на три десятка лет. Большинство же горцев, да и хазар с булгарами, всё ещё оставались в описываемый период язычниками, молились великому Тенгри-хану, по сути дела солнцу. У славян же солнце олицетворяло собой сияющий щит на руке Даждьбога, который ежедневно объезжал верхний мир на колеснице, запряжённой четвёркой белых коней.
*****
Трёхтысячный конный отряд князя Мстислава, переправившись на левый берег Кубани, и, миновав солёные озёра с плавнями, оказался на лесистой равнине, заросшей дубами и елями. Леса в этой местности, по сравнению с предгорьями, не были такими уж плотными; они располагались вперемежку с большими полянами, на которых паслись внушительные стада домашнего скота.
Отряд по протоптанной пыльной дороге равнодушно проходил мимо этих стад, что удивляло, испуганных пастухов. В центре, растянувшегося по неровной дороге отряда, слегка погромыхало с десяток пароконных бричек с дружинной казной, запасом провианта и перевязочного материала. Пройдя по летней жаре более чем сорок поприщ, уставший отряд к вечеру остановился в большом касожском ауле, намереваясь поужинать и заночевать. Дома в ауле, расположенные вдоль речки, впадавшей где-то за два десятка поприщ в полноводную Кубань, составляли длинную улицу. Были они низкими, но из толстых дубовых брёвен, в которых летом было прохладно, а зимой, во время дождей, наоборот, тепло. Сами дома с дворовыми постройками, загонами для скота и садами окружал низкий дувал из саманного кирпича.
Старый Мурад, отпустил своё многочисленное семейство на праздник, а сам взялся за неотложные домашние дела: в загоне для овец налил воды в выдолбленную из цельного дуба колоду, для трёх коров заменил подстилку. Его жена, Фатима, занималась дойкой, и у неё работы по хозяйству было ещё больше. Выйдя во двор, старик услышал глухой шум, словно по пыльной улице шло большое стадо коров. Он выглянул за дувал и ужаснулся – по улице в полном молчании, по три в ряд, двигались вооружённые конники.
Мурад было дёрнулся бежать, но ноги словно приросли к земле. Возле дувала остановился всадник. Видно было по его амуниции, что он не простой воин. Всадник, спешился, слегка поклонился Мураду, прижав правую руку к сердцу, и заговорил на вполне понятном старику языке:
– Слушай, аксакал! Не продашь ли нам три десятка баранов? Люди целый день ничего не ели! На вот тебе серебряную деньгу, милиариссий называется – это хорошая плата, тем более, что овечьи шкуры мы тебе оставим!
Мурад вовсе не ожидал, что с ним будут так вежливо разговаривать и только кивнул головой в знак согласия. Обычно вооружённые люди и не разговаривают с хозяевами, а просто забирают со двора всё, что им нужно, да хорошо, если хозяина только огреют плетью, вместо приветствия.
Между тем, Давид, а это был он, сунул в сухонькую руку старика монету и властным голосом крикнул в сторону всадников:
– Эй, Арчи! Возьми людей, да освежуй три десятка баранов из тех, что укажет хозяин! Мы остановимся вон там, возле речки! Шкуры оставишь старику, нам некогда их обрабатывать!
В селе, каждый, кто имел меньше полусотни овец, считался бедным. У Мурада было более сотни баранов, и он уже ломал голову кому бы сбыть полсотни по осени хоть бы и за десяток мешков пшеницы или за полмешка соли, а тут надо же, такая удача.
– А вы, чьи будете, джигит? – несмело спросил старик распорядителя.
– Мы люди князя Мстислава, дедушка! – улыбнулся Давид. – Тебя как зовут-то?
– Мурадом, сынок! – ответил тот, пряча монету в карман чекменя.
– А скажи ка мне, Мурад-ага, куда подевался народ? Почему никого не видно? Сбежали что ли, нас завидев?
Старик охотно пояснил:
– Да нет, сынок! Не сбежали, вас никто и не заметил! Все во-он там! – Мурад показал рукой в другой конец села. – На свадьбе у Юсуфа! Ему тридцать лет и Редедя отправил его на покой за какое-то там неповиновение, заводить семью, а невесте, Мариам, пятнадцать!
Давид и впрямь услышал, наконец, глухую дробь бубнов и слабый переливчатый звук зурны. Повернув лицо к Мураду, Давид, щёлкнув языком, весело обронил:
– Ишь ты! Ну, пусть гуляют, дед, мы мешать не будем! Нам пожрать, да выспаться надо! Дорога дальняя…
– А коли дальняя, сынок, так взял бы ещё овечек-то! – предложил Мурад. – Соль-то у вас ведь есть, а бараньи туши и присолить можно!
– Пожалуй ты прав старик! На тебе ещё милиариссий и скажешь там Арчи, пусть постарается со своими молодцами, а шкуры себе оставишь…
Давид застал князя на уртоне возле речки, где дружинники разводили костры, подвешивали над ними котлы с водой и засыпали туда просо.
– Слышь, Мстислав! – Давид, заговорив по-русски, махнул плетью в сторону доносившейся музыки. – Весь аул-то там! Праздник у них!
– А в честь кого праздник-то? – усмехнулся князь. – Уж ни в честь ли Перуна, а по-ихнему Тенгри-хана? Похоже язычники они!
– Да нет! Свадьба какого-то там Юсуфа! Князь Редедя из войска своего его вычистил, за яку-то там провинность, аль по возрасту, велел семьёй обзаводиться! Я знаешь, что подумал? Не мешало бы молодым подарок содеять свадебной! Весь аул на нашей стороне будет, и никто нам в спину не вдарит!
– А что – это мысль, Давид! Съезди, подари им чего ни то из наших запасов!
Давид, озабоченно взглянув на князя, осторожно возразил, заговорил по-гречески:
– Нет, Мстислав, это ты должен совершить! Уваженье проявить! Это будет очень большая честь для них! Сам посуди, здесь дипломатия тонкая…
– А что у нас ценного в обозе?
– Невесте можно кусок белого шёлка отрезать, аршин двадцать! Ну, а уж жениху можно черкеску с саблей!
– Тако энто ж у нас посольски дары на всяк случай, Давид?
– А вот этот случай и наступил, княже! А потом мы не оскудеем, у нас ещё есть!
– Ну, добро, бери подарки, да поехали!
В конце аула, на ровной, вытоптанной поляне, где обычно собирался сход, десяток юношей и столько же девушек под зажигательную музыку бубнов и зурн весело исполняли кабардинку, а окружавшая танцоров толпа азартно хлопала ладошками. Люди, в праздничном ажиотаже, даже поначалу и не заметили, что оказались в кольце вооружённых всадников. Но тут музыка внезапно стихла, и народ обомлел, увидев чужаков, а мужчины невольно схватились за рукояти кинжалов на поясах, надеясь подороже продать свою жизнь.
Из рядов всадников вышли двое в дорогих доспехах. Из уважения к жителям, к свадьбе, они сняли свои позолоченные шеломы. Один из них заговорил на западно-тюркском наречии:
– Не бойтесь, люди! Мы с миром, и если вы не против, то переночуем в ауле! Празднику вашему мешать никто не будет, а вот от князя нашего, Мстислава Тмутараканского, – человек сделал поклон в сторону второго, – разрешите сделать подарки молодым!
После этих слов один из дружинников на вытянутых руках внёс в круг штуку белого шёлка, с лежащим на ней серебряным блюдом, а второй черкеску из белой шерсти, на которой лежала сабля в дорогих, серебряных ножнах. Люди заулыбались, начали радостно кланяться. Дружки жениха подарки приняли, и это означало полное доверие со стороны жителей. Жених, крепкий ещё мужчина, явно бывший воин, поднёс князю большой рог вина, подал с поклоном. Отказываться было нельзя, и Мстислав сделал несколько глотков, передав рог стоящему рядом Давиду. Один из жителей аула, по обычаю, поднёс на блюде лепёшку, намазанную мёдом и варёный бычий глаз, который подносили только уважаемому гостю очень высокого звания. Князь отломил кусочек лепёшки, пришлось съесть и глаз. Это означало очень многое: по обычаю получается, что князь Мстислав стал кунаком не только жениху, но и родственником всем жителям аула.
Музыка зазвучала снова, а Давид с князем, подавая пример другим, начали лихо отплясывать кабардинку. Они с детства учились исполнять сложные кавказские танцы, где верхняя половина туловища практически неподвижна, и обращена к девушке или напарнику, а ноги находятся в неимоверном движении перебора, где приходится чаще всего танцевать на носках. За ними ринулись в круг и другие. Свадьба вошла в свой обычный ритм. Вскоре, извинившись и сославшись на то, что им рано утром надо уходить, князь с дружинниками покинули свадьбу, оставив после себя самое благоприятное впечатление.
Красный круг солнца, словно раскалённый кусок железа в горне кузнеца, плавно коснулся гребёнки почерневшего леса на западе, окрасив на востоке верхушки деревьев в медно-охристый цвет.
– Ну, вот, Мстислав, теперь мы им практически родня! – высказался Давид по-гречески, подъезжая к уртону.
– Да, доброе дело содеяли мы! – ответил князь, спрыгивая с коня…
Утром, когда отряд уходил из аула, к князю обратился жених. Был он на хорошем жеребце, и одет уже по-военному. На голове красовался шелом арабского производства, и дорогая кольчуга обтягивала мощную грудь. Руки, до локтя, облегали стальные бутурлуки, а с широкого пояса свешивалась подаренная Мстиславом сабля, спину же прикрывал круглый щит. Всадник, прижав правую ладонь к сердцу и коротко поклонившись, заговорил:
– Дозволь, князь, послужить тебе! Возьмите меня с собой!
– Да ты что, Юсуф! – удивился Мстислав. – У тебя молодая жена! Почему отпустила? Неужто не навоевался ещё!?
– Не дело жены указывать мужу! – ответил тот. – Не обижай, возьми! Я тебе ещё не раз пригожусь! Меня обучали искусству боя лучшие джигиты гор и кроме ратоборства я больше ничего не умею!
– Как же ты решился оставить молодую жену? А ну, да парни к ней повадятся в твоё отсутствие! – усмехнулся князь. – Ладно, – это я так, шуткую!
Юсуф отреагировал на шутливое замечание князя просто и спокойно:
– У женщины может быть только один хозяин – все остальные воры! Горская женщина мужа унизить не посмеет! Её просто прикончат!
– Ну, ладно! – князь дружески хлопнул Юсуфа по плечу. – Коли мы с тобой теперь кунаки, становись в строй! Проверю тебя в бою!
На очередном уртоне Мстислав всё-таки спросил нового воина:
– Я, всё-ж должен знать, Юсуф, почему ты решился служить в моём войске, почему ушёл от Редеди?
Простодушный горец, не умеющий врать и скрывать свои мысли, ответил предельно честно:
– Редедя честный, но жестокий воин! Он отнял у меня любимую девушку, чем унизил мою честь! Оставаться в его дружине после этого я уже не смог! Теперь Редедя и его род мои обидчики! Я всё сказал, князь!
– Я понял, Юсуф, а как же эта женитьба и нынешняя жена, Мариам?
– Это было решение моего отца, князь!
Через сутки, уже к победью, отряд Мстислава вышел на широкое поле возле двух сглаженных в верхней части скал, которые были известны под именем Бараньих лбов. На этом поле касоги обычно проводили конноспортивные соревнования в летний праздник Нардуган. В пяти поприщах от этого поля располагалось большое село Балта, где была постоянная резиденция касожского князя Редеди. Отряд устроил себе уртон на краю поля, возле самого леса, а в Балту послали нарочного с известием, что князь Мстислав прибыл в условленное место.
К полудню противоположный край поля заполнила внушительная дружина касогов. Редедя, мужчина примерно того же возраста, что и Мстислав, был громадного роста, пожалуй, на голову выше русского князя.
– Как это его конь-то держит, Мстислав? – заговорил Давид, слегка повернувшись в седле. – Почему он всё ещё не раздавил своего конягу?
Противоборствующие шеренги дружин медленно сблизились до расстояния в двадцать саженей (45 м.). Касожский князь проехал вдоль ровного ряда тмутараканских всадников. Отметил про себя, что хазары и русичи хорошо вооружены, пожалуй, гораздо лучше, чем его воины. Перевес в количестве ратников был явно на его стороне, но воины Мстислава имели лучшее вооружение, и, как говорят, в прошлых сражениях не имели поражений. Тмутараканский князь сидел в седле как влитой с совершенно спокойным, уверенным лицом. Всё это заставило Редедю задуматься. Ратоборство сулило много жертв, и нет никакой уверенности, что победа достанется касогам. Проще всего вызвать на поединок лично князя тмутараканцев, тогда, без сомнения, при его могучести и неимоверной силе он, Редедя, победит. Последние годы он собирал всякие сведения о личности Мстислава и усвоил для себя, что князь ни за что не откажется от схватки с ним, тем более перед лицом своей дружины. Для таких, как Мстислав легче погибнуть в этом единоборстве, чем навсегда опозорить своё имя.
Наконец Редедя принял решение, отъехал к своему войску, спешился, снял с себя лишнюю одежду, оставшись в одних синих шароварах из дорогой камки и мягких жёлтых сапожках. Посмотрев вверх и увидев там двух орлов, которые медленно парили над бранным полем, явно чего-то, ожидая, касожский князь посчитал это добрым предзнаменованием. Слегка переваливаясь, он подошёл к шеренге тмутараканцев, и, насмешливо улыбаясь, громко и внятно обратился к Мстиславу:
– Слушай, князь! У меня войск больше, чем у тебя, но твои, я вижу, лучше вооружены! Битва будет жестокой! Зачем нам проливать столько крови, бог Тенгри-хан будет недоволен! Ты ведь знаешь, что обычай требует поединка перед сражением! Что, если мы с тобой сразимся без оружия? Кто победит, тому и достанутся земли, семья и подвластные люди! Справедливо?
Редедя поднял вверх руку и громовым голосом крикнул, обратившись к своим воинам:
– Все слышали! Не говорите потом, что оглохли! Великий Тенгри-хан тому свидетель!
Касоги, в знак согласия, дружным хором прокричали: «Ху-р-р-а-а!!!». Тмутараканцы же сурово молчали.
Мстислав, оглядев могучий, густо заросший шерстью, торс Редеди, эту гору мышц, понял, что одолеть такого противника едва ли возможно, но надо. Отказаться уже невозможно, касожский князь хитёр, всё рассчитал: и свою силу, и то, что он, Мстислав, не сможет увильнуть от поединка из гордости и рыцарского азарта. Князь молча спрыгнул с коня, также снял с себя вооружение и лишнюю одежду, обнажившись до пояса. Из оружия на поясных ремнях противников остались только ножи в чехлах, которыми можно было воспользоваться только, когда соперник окажется на лопатках. Спешившемуся и ожидавшему распоряжений Давиду Мстислав заметил:
– Здоровенный детина! А, Давид? Он похож на Голиафа!
На что сподвижник уверенно отреагировал:
– Теперь, Мстислав, ты и есть тот легендарный Давид, а значит победишь!
Схватка, почему-то, оказалась на удивление короткой. Соперники сошлись и Редедя, ухватив Мстислава своими длинными и загребущими, словно грабли, ручищами, сжал князя так, что у того потемнело в глазах, и хрустнули рёбра. Про себя он воскликнул: «Матерь Божья, помоги! Возьми под крыла своея!». Тут же он вспомнил, чему учил его старый Богун: сделал противнику подсечку своей левой ногой под его правую ногу и резко толкнулся на Редедю всем корпусом. Тот завалился на спину и от неожиданности расцепил руки, что и стоило ему жизни. Мстислав мгновенно выхватил нож и профессионально всадил его в грудь противнику. Всё было кончено, а люди даже не успели что-либо понять: то ли это случайность, то ли высшие силы вмешались. Зато Тмутараканский князь точно знал, кому он обязан. Перекрестившись, он с благодарностью посмотрел в чистое, синее небо, где высоко парил горный орёл, и показалось князю, что это сама Богородица благословляет его…
Наконец, он вскочил с колен и в волнении поднял над собою руки. Строй тмутараканцев взорвался победным кличем: «Хур-ра-а!». Касоги же сошли с коней, сняли свои косматые папахи и встали на одно колено в знак признания и покорности новому властелину. Давид, вскочив на коня, подлетел к строю касогов и крикнул:
– Воины! Клянитесь в верности победителю, князю Мстиславу! Теперь он ваш хозяин! Вы своими ушами слышали, что победитель в поединке получит всё! Так пожелал, и так повелел ваш бывший владыка, князь Редедя!
Касоги, приложив правую ладонь к сердцу, склонили головы перед Мстиславом, который тут же громко распорядился, обернувшись к строю тмутараканцев:
– Юсуф! Принимай команду под своё начало! Воины! Это ваш товарищ, и вы его знаете! Теперь он ваш командир и мой помощник, а, кроме того, он мой кунак!
Довольные касоги начали скандировать:
– Ю-суф! Ю-суф! Ю-суф!
Мстислав, одеваясь, усталым голосом бросил Давиду:
– Командуй двигаться всем в Балту! Редедю положите на свободную телегу, он погиб как герой на поле брани и заслужил все почести воина…
*****
Предводители касожских племён, орд и родов собрались в большом, из оранжевого шёлка, шатре возле дома Редеди. Приехали они, по кличу хозяина, из разных концов Предкавказья ещё накануне, а утром, ещё до победья, собрались здесь, в шатре, где и выслушали сообщение гонца Мстислава, о том, что тот прибыл к Бараньим лбам для ратоборства. Они были уверены, что Редедя, возглавлявший этот военно-племенной союз, победит тмутараканского князя, как побеждал он ранее своих противников. Редедя с войском отбыл к месту сражения, а они сидели в шатре и громко спорили, кто и как будет хозяйничать в землях князя Мстислава после его неминуемого поражения…
Однако в жизни часто происходит не так, как планировалось. Солнце уже клонилось к вечеру, когда в Балту вернулось целым и невредимым касожское войско, а вместе с ним пришла и рать Мстислава. Только вот Редедю, а вернее его бездыханное тело, привезли на телеге. Об этом им сообщил испуганный донельзя домовой служка из рабов.
Абсолютно не ожидавшие такого вот конца, вожди, растерялись. Сидели в шатре, онемев, не зная, что сказать, не зная, что ожидать и как себя вести в совершенно изменившихся условиях. Молчали, не смея даже взглянуть, друг на друга, каждый готовился к самому худшему: нагрянут вот сейчас сюда, в шатёр, эти хазары с русами, да и прикончат их сразу. И это был бы ещё хороший конец, а ну, да как им взбредёт в голову взять, да и сварить их в больших, общинных котлах, заживо.
Вот полог входа в шатёр отогнулся, и в него хлынули золотые потоки лучей вечернего солнца, – это конец, пронеслась трепетная мысль у всех собравшихся здесь. Ослеплённые ярким солнечным светом они закрыли глаза, приготовились к самому худшему и, вдруг, услышали знакомый насмешливый голос:
– Чего расселись тут? Чего ждёте?
Ошарашенные, они открыли удивлённые глаза и увидели давно известного им Юсуфа, а рядом с ним стоял богатырь в дорогом воинском облачении. Стоял, скрестив руки на груди, смотрел куда-то в сторону, поверх их голов, и, как казалось им, зловеще молчал. Даже дыхание замерло у этих хитрецов, предводителей орд и родов: он решает, какой казнью наказать их за разговоры, за споры о том, как поделить его земли между собой. А они накануне ещё советовались с жёнами, где им лучше жить: в своих аулах или в портовых городах у тёплого моря, в больших светлых домах, в шёлке и неге. Каждый теперь со страхом думал: тьфу на этих проклятых жён, пропади они пропадом – сохранить бы головы, а жёны найдутся. Надо было отмалчиваться, а не драть тут глотку, не делить шкуру неубитого барса. Теперь вот попробуй-ка вспомнить, чего в ажиотаже наговорил, кому от жадности доверился? Вот она жизнь – долго её бережёшь, да вмиг теряешь! И с кем вздумали хитрить? С тмутараканским ястребом! Спрячешься ли от смерти, перехитришь ли зверя?
И вот он повернул к ним своё твёрдое, суровое, неотвратимое лицо и люди замерли, а он спокойно произнёс:
– Теперь мне дань платить будете!
Они, застыв, смотрели, ещё не уразумев его слов, а он уже шагнул за полог шатра, даже больше не оглянувшись на них. Они переглядывались друг с другом восхищёнными, сверкающими глазами, восклицая:
– О милостивейший, о справедливейший из правителей! Да мы исполним любое его желание!
Уставившись на Юсуфа, словно бараны на новые ворота, одновременно подумали: а этот-то кто теперь? Ведь Редедя прогнал его в прошлом году из войска, а он вот нового хозяина нашёл, как видно более могущественного, да видать в большой чести у него. Знать бы раньше, так прикончить бы его, змея, а теперь вот гни спину перед ним.
– Ну, чего сидите тут, буркала свои на меня пучите!? Милостью князя Мстислава я теперь командующий всеми войсками касогов! Идите, обряжайте своего бывшего владыку в небесное войско великого Тенгри-хана.
Предводители и князьки родов кинулись к выходу из шатра, толкаясь и крича вразнобой:
– Плевать! На черта он нам нужен! У него своя родня есть, пусть она и позаботится!
Юсуф презрительно бросил им вслед:
– Кинулись, как стадо баранов на водопой! Собаки! Вот так всегда: пока в силе человек, так пресмыкаются, а как загнётся, так его не только оплюют, а и готовы разодрать по частям, словно голодные псы ослиную шкуру на помойке…
На поляне, перед большим домом Редеди горел костёр, вернее рдела огромная куча красных углей, над которой, надетый на длинный железный шампур, запекалась здоровенная бычья туша. Капли жира, падая с туши на угли, вспыхивали маленькими жёлтыми огоньками. Вечерний воздух был густо напоен запахами жареного мяса, подгоревшего жира, конского и человеческого пота. Хазарские и касожские воины деловито сновали туда-сюда, таская на плечах сёдла, какие-то мешки, видимо готовились к пированию в честь почти бескровной победы князя Мстислава.
Некоторые из предводителей родов, под шумок, сунулись, было к коновязи, нашли своих лошадок, да и попытались скрыться. Только их затея не удалась: на выезде из аула их встретили хазарские конные патрули с такими звероподобными лицами, с такими косами и зубами, что не приведи Боже увидеть такие во сне. Сбежавших князьков тут же завернули обратно. Большинство же предводителей не стали искушать судьбу, а по приглашению Юсуфа уселись вокруг костра. Слуга длинным тесаком отрезал с бычьей туши подрумянившиеся куски мяса и горячими совал в руки гостям. Те, обжигаясь, ели несолёные куски, опасливо озираясь, не обидеть бы ненароком нового хозяина, а скорей слуг его, чего доброго донесут, что кто-то из них проявил недовольство…
Глава 4. ДОЛЬМЕНЫ КАВКАЗА, ХРОНОЯМЫ
Прошла неделя. Войсковые части касогов, хазар и русов перезнакомились друг с другом, обменялись ратными приёмами, умениями, рассказали о разных своих обычаях, можно сказать сжились, а приказа куда-либо выступать всё не было.
Князь Мстислав, сидя в избе Редеди, провёл утром седьмого дня совещание со своими соратниками. Здесь собрались Давид, Юсуф, Ханукка и командир русского отряда княжеской дружины Захарий. Давид первым делом сообщил Мстиславу:
– Предводители кланов домой просятся, княже!
Мстислав долго раздумывать не стал. Махнув рукой, распорядился:
– Отпускай их, пусть разъезжаются, только приставь к каждому боле-мене грамотного десятника. Пусть будет при каждом вожде нашим тиуном и следит, как тот выполняет десятину. Ведь ты же их всех переписал, и сколько у каждого людей, и сколько скота имеется: овец, коней, коров, какой приплод, сколько пшеницы сбирают? Они ж тебе сообщили о своём доходе? Наврали, конечно! Ну, да ничего, о воровстве с их стороны обязательно какая-нибудь гнида, какой-нибудь их же завистник, нам и сообщит. Не зря же здешние касоги говорят: «Белая собака, чёрная собака – всё одно собака!». Вот пусть наши тиуны всё и проверят на месте! Пусть каждый тиун выберет себе охрану из своих ратников, но не более десятка. Через год мы их поменяем местами, чтоб не заворовались.
– А нам что делать? – Давид ожидающе уставился на князя.
– Давай так поступим! – Мстислав суровым взглядом окинул своих военачальников. – Ты, Захарий со своими ребятами вертаешься домой, заберёшь с собой семью Редеди, жену его с двумя пацанами, теперь я о них должон заботу поиметь. При мне оставишь две сотни ратников во главе с Олегом Забиякой. Ты, Ханукка, с хазарами пока здесь останешься, в Балте. До моего возвращения, будешь моим наместником. Ну, а ты, Юсуф, касожских воинов распусти по домам, а то они тут всех баранов съедят, на расплод не оставят, но пусть всегда будут наготове, могут понадобиться. За баранов жителям аула заплати из дружинной казны. При себе оставь три сотни и пойдёшь со мной.
– А я?! – встрепенулся Давид.
– Со мной пойдёшь! Куда ж я без тебя! – улыбнулся Мстислав.
– А куда идём-то?
– Проверим все западные округа, а заодно тамошние дороги и путь в Грузию! Царь Баграт Ш в гости звал, аль забыл?! А тебя, Юсуф, я бы к молодой жене отпустил, да пока не могу, ты уж не обессудь! Тебе ведь те места знакомы – вот по то и беру тебя с касожскими нукерами.
– Победителю Редеди я всегда рад услужить, князь! Жаль только, что не я его прикончил!
– А осилил бы такого бугая? – усмехнулся Мстислав.
– Я без страха вышел бы с ним на поединок, князь! И даже, если бы он меня удавил, честь моя осталась бы при мне! – хмуро заключил Юсуф.
– Ну, ладно, други мои! Завтра поутру выступаем! Идите, готовьтесь! Давид, пришли ко мне эту Дарико с детьми!
Через короткое время в комнату вошла женщина, с двумя подростками, которые робко поглядывали из-за материнской спины на человека, который в одночасье лишил их отца, сам, став по обычаю на его место. Женщине было за тридцать, но чёрная траурная одежда только подчёркивала стройность стана и красоту восточного лица. Мстислав, при её появлении встал, шагнул ей навстречу, прижал к своей широкой груди. Она не отстранилась, печально уткнувшись ему в плечо.
– Сердца на меня не держи, Дарико! – утешительно заговорил князь по-тюркски. – Твой муж погиб в честном поединке, такова судьба! Теперь я отец твоим детям, смирись! Если бы я погиб от руки Редеди, он бы стал отцом моих детей, таков обычай.
– Я знаю! – ответила женщина.
– Поедешь завтра ко мне, в Таматарху! Там тебе и парням будет хорошо, не беспокойся понапрасну. Там море, много разных людей, учёных, хронистов, ребята будут учиться наукам, языкам, воинскому делу. Ты ведь, небось, кроме Балты нигде и не была?
– Была, давно! Я же грузинка, дочь князя Отари Чиковани из Кахетии. Редедя пленил меня и других при набеге на Грузию в молодости.
– Ты христианка?
– Да, мой господин! – Дарико подняла огромные глаза на Мстислава, в которых мелькнула тень надежды. Князь слегка отшатнулся, ему показалось, что на него с печалью смотрит сама Богородица.
– А дети? – спросил он.
– Здесь некому было их крестить! – был ответ. – Половина жителей Балты исповедуют ислам, а остальные язычники, в том числе и мой бывший муж. Так что я жила в постоянном грехе!
– Ладно, в Таматархе окрестишь детей, да сама пройдёшь очищение! – заметил князь и взглянул на мальчишек.
– А что добрые ребята, мосластые! – одобрил Мстислав. – Хорошие из них получатся воины, Дарико, так что не грусти! Вместе с моими детьми взрастут, и не заметишь! А на Грузию, пока я жив, больше никто набегов не сделает. Грузинский владыка, царь Баграт Ш, предлагает мне дружбу, и я принимаю её. С севера Грузию больше никто не потревожит! Кстати твоё имя Дарико означает «Дар богов», а по-нашему, по-русски, звучит как Дарья, Даша. Так что Дашенька, – князь мягко и участливо прикоснулся к плечу женщины, – ничего не бойся, будешь жить с ребятишками в покое и неге…
На следующее утро, когда объединённая рать Мстислава, разделившись, расходилась по разным сторонам. Князь напутствовал Захария по-русски:
– Ну, гляди, Захарий, егда чрез Кубань правиться будешь, помни о зигах, дабы в хвост тебе не вдарили! Жёнок и детишков с телегами на плотах чрез реку перетянешь. Егда в Таматарху возвернёшься, тако начинайте сенокос на две тыщи коней, не то трава выгорит, колос перестоится. Оно може снега и мороза не будет, но сена на студень, да и капель запасти надо. Найди средь ромеев доброго зодчего, да найми трудников, пущай ломают и возят в Таматарху камень, хотя для крепостной стены сколько-то уже запасли, можно и оттуда взять. Я приеду, расчёт содею щедрый, да и ты денег не жалей.
– Зачем камень-то, княже? – удивился Захарий.
Князь мечтательно посмотрел в сторону востока, на встающее из сиреневой дымки солнышко, сказал просто:
– Церковь будем ладить, Захарий, из доброго камня, во имя Рождества Богородицы! Дабы храм сей Божий, был светел, красен и высок! Место для храма владыка Макарий укажет.
– Доброе дело ты замыслил, княже! – восхитился Захарий. – Храм Божий из камня! Усё сполню, Мстиславе, и людей, и коней к энтому делу приставлю, и мастеров сыщу!
*****
Отряд из пятисот всадников во главе с Мстиславом за месяц посетил около двух десятков селений, оставляя в них своих тиунов. По плохим дорогам, а лучше сказать тропам, протоптанным овечьими стадами, князь с отрядом вышел на побережье, где вдоль моря пролегала боле-менее хорошая дорога. Этот древний путь, со знанием дела, проложили ещё римские солдаты, а до них здесь ездили сарматы на своих скрипучих арбах. На этой дороге вполне могли разъехаться две гружёные телеги, а через горные речки, стекавшие с гор Большого Кавказа в море, были перекинуты арочные мосты из пластинчатого камня. По этой же дороге на юг, пять веков назад, бурным потоком, смывая всё на своём пути, пронеслась неукротимая конница гуннов. Теперь же по ней ходили караваны торговцев с внушительной охраной; ну, а уж богатые товары привлекали зигов, здешних горных разбойников.
Мстислав мог бы по этой приморской дороге вернуться в Таматарху, но надо было ещё посетить несколько аулов, расположенных в предгорьях, а потому отряд повернул на восток. Места здесь оказались довольно странными: безлесные возвышенности сменялись заросшими карагачем, ольхой и буками долины с горными речками и родниками. Разнотравье в долинах и на косогорах обеспечивало прокорм значительным стадам скота для местных жителей. Вроде бы добрые места, а людей было маловато. Иной раз за весь день пути так никого и не встречалось.
Отряд остановился в одном ауле на ночёвку и короткий отдых. Селение казалось каким-то захудалым: жильё местных касогов представляло собой какие-то полуземлянки и это несмотря на обилие леса из ясеня, дуба и буков. Жилища эти были хаотично разбросаны по пологому склону. Низ такого жилья, частично зарытого в почву, был сложен из дикого камня, а верх состоял из трёх-четырёх грубо обработанных венцов ясеневых или дубовых брёвен. Косые крыши из жердей накрыты дёрном. Видно местные касоги не желали утруждать себя строительством, справедливо считая, что очередные грабители всё равно предадут всё огню, а жить и в таких домишках можно.
На первый взгляд здесь проживала одна нищета, но так только казалось. За этими неказистыми домами виднелись довольно обширные загоны для скота, окружённые невысокими дувалами из глины или дерева, а это уже наводило на мысль, что здесь живут далеко не бедняки, если учесть, что овечье стадо из ста голов, к осени утраивалось. Выше села небольшие поляны, засеяны житом, а кое-где виднелись виноградники. Наступал вечер, блеяние овец и мычание коров, вернувшихся с пастбища, говорило о том, что жители в этом горном ауле вовсе не нищенствуют.
Отряд Мстислава, как обычно, устроил себе уртон на берегу речки, протекавшей ниже селения. Князь велел купить несколько баранов на ужин, что вызвало у жителей удивление; они-то знали, что военные люди на деньгу скупы, зато на плети щедры. Несмотря на то, что аул находился далеко от дорог ведущих в Грузию, видно и в эту глухомань иногда заглядывали любители баранины с плетями и саблями.
Дружинники развели несколько костров, заварили себе просяную кашу со свежей бараниной и, поужинав, кайфовали, попивая чай, заваренный кипреем, розовые метёлки которого торчали во множестве по берегу речки.
– Слушай, Давид! – обратился князь по-гречески к своему помощнику. – А что это за могильники из огромных каменных плит, в тысячу пудов весом, о которых мне рассказал сын главы этого аула Сосланбек? Для людей ведь эти камни неподъёмны? Как же можно было их соорудить? Это какую силу надо иметь?
– Да кто их знает, Мстислав! Я где-то читал, кажется в хрониках Прокопия Кесарийского сказано, что Кавказ очень древняя земля, и ещё задолго до сарматов здесь обитали могучие великаны, которые обладали великими знаниями. Скорей всего это не могильники, а какие-то накопители энергии, а для чего – скрыто в веках.
– Давай, сходим, осмотрим! – проявляя любопытство, предложил князь. – Вон они там, на холме, за лесом! Это так Сосланбек объяснил, только предупредил, что люди туда не ходят, якобы место проклятое!
– Ну, можно и подняться туда, завтра с утра! – быстро согласился Давид.
– Только пойдём пешком, – добавил Мстислав, – ноги разомнём, а то всё в седле, устал я от него.
Утро наступало тихо, незаметно и неотвратимо. Из ущелья, где брала своё начало местная речка, белесым драконом наползал туман. Изредка кое-где пофыркивали дружинные кони, пощипывая между деревьями, свежую лесную траву на косогоре. Дружинники ещё спали и только трое караульных сидели вокруг слабо дымящего костра. Прихлёбывая утренний, травяной чай из фаянсовых пиалок, они тихо о чём-то переговаривались. Давид с князем, не поднимая шума, налегке, в одних рубахах, тихо ушли. Караульные не обратили на это внимания, мало ли, может по малой нужде люди отошли в заросли карагача.
Двое путников около часа пробирались по девственному лесу. Давид предупредил князя:
– У нас хоть и добрые ножи, Мстислав, но будь осторожен! Видишь кабанья тропа, выскочит секач, и не успеешь увернуться, в момент ногу распорет до кости!
– Да я чую, Давид! Кстати не мешало бы такого хряка завалить на обед. Между прочим, хазары считают кабана своим предком, и охотиться на диких свиней у них запрещено, и не только своим людям, но и другим народам. Если такого охотника уличат за таким занятием, – убьют без всяких оправданий, и принесут в жертву богу свиней, Великому Кабану. Только у меня, в дружине, на этот раз хазар нет, только русы и касоги, а они свинину съедят за милую душу! Ха-ха-ха! – развеселился князь. – Должен тебе сказать, Давид: печенеги потому и не лезут на мой удел, что тоже считают кабана своим предком, а хазар своей роднёй…
Кабанья тропа протянулась к оврагу, откуда по камешкам, с журчанием, вытекал ручей, из которого, по-видимому, и пили лесные свиньи. Сам же овраг сплошь зарос орешником.
– Думаю надо подниматься по краю оврага! – заметил Давид.
Путники долго поднимались вдоль оврага, который закончился родничком с чистейшей водой, которая, как-то необычно звеня по камешкам, стекала в овраг. Возле родника росла огромная ель, и, по-видимому, вода накапливалась где-то в глубине, под её корнями. Часть этих узловатых корней была водой размыта. Казалось, что они, эти мокрые корни, с жадностью тянулись, к наклонившимся напиться путникам, и выглядели они какими-то уродливыми, ведьмиными пальцами, норовя ухватить их за волосья, что им иногда даже и удавалось.
Выше, в пяти саженях по склону, уже на возвышенности, раскинул свою гигантскую крону дуб такой толщины в комле, что трое воинов едва ли смогли бы обхватить его. И, кто его знает, может, крона этого дерева ещё в стародавние времена укрывала от дневной жары гоплитов Александра Македонского, а может, ещё раньше, и герои Эллады, которые прибыли в эти места за Золотым руном, прятались под сенью его листвы от яростных лучей полдневного солнца. Во всяком случае, дуб был явным долгожителем, но выглядел, по сравнению с другими деревьями, ещё очень бодрым стариком. Недалеко от него, саженях в пяти, расположилась стайка молодых липочек, и выглядели они какими-то легкомысленными и весёлыми, двоюродными внучатами возле этого могучего дуба.
Возвышенность, на которую поднялись Мстислав и Давид, была безлесной, если не считать трёх лиственниц и мелких кустиков верболозы на всём этом большом и довольно выпуклом холме. Ветви лиственниц шевелились от свободно гуляющего здесь ветра, а сами деревья выглядели одинокими, заброшенными и никому не нужными. Всё здесь выглядело как-то первозданно: чувствовалось, что сюда не то, что домашний, дикий-то скот, в виде зубров и косуль, никогда не заходил; видно было, что богатый травяной покров сохранился нетронутым.
Утреннее солнышко выглянуло из-за боковой части дубовой кроны и его лучи окрасили листву в цвет старой меди. С высоты холма купы деревьев снизу наплывали сине-зелёными волнами, и казалось, что эта возвышенность просто островок, затерявшийся в морской пустыне. Горизонт был затянут сизо-пепельной дымкой и только на юге из этой пелены, затянувшей горные хребты, виднелся далёкий Эльбрус. Казалось, что это проснулся и встал на ноги горный дух Кавказа, великий Каструк в белой бурке, на которую розовыми валёрами нежно легли солнечные персты.
– Какое прекрасное утро, Давид! – воскликнул князь по-гречески, раскинув руки и пытаясь обнять всё, что видел перед собою.
Возле одной из лиственниц торчал из земли одинокий менгир. Плоский, толщиной в локоть, параллелепипед, был более сажени в высоту и явно обработан в далёкой древности каким-то мастером, хотя углы и рёбра его были уже сглажены неумолимым временем. Земная твердь, как толстая кожа гигантского живого существа, незримо для человеческого глаза медленно двигалась во временном поле. По-видимому, она, эта кожа, иногда вздрагивала, создавая землетрясения, – вот потому эта тяжёлая каменная чешуйка и сидела в почве косо, а на его передней, когда-то отшлифованной плоскости, чья-то мудрая рука, в далёком далеке, специально начертала какие-то знаки, похожие на рунические. Может быть совет, а может предостережение потомкам – кто знает? Князь с каким-то благоговением пощупал их пальцами.
– Не трогал бы ты здесь ничего, Мстислав! – насторожённо заговорил Давид.
– А что должно случиться? – приглушённым голосом откликнулся князь.
– Да кто ж его знает! Тут всё сплошная загадка! Не зря же здешние горцы обходят эти места стороной! Пошли вон к тому сооружению!
Дольмен, к которому они подошли, поразил Мстислава внушительностью своих плит, как будто кто-то огромный сложил из тысячепудовых, ошлифованных, плоских камней домик. Передняя плита имела круглое отверстие, в которое свободно мог пролезть человек. Князь, не заметив предостерегающего жеста Давида, полез туда. Внутри никаких костяков он не обнаружил, наоборот, было сухо, даже чисто. Растянувшись во весь свой рост, глядя в каменный потолок, князь полежал, закинув руки под голову. Но вот какое-то странное, никогда раньше не испытываемое им ощущение охватило его. Вот показалось, да нет, куда там, вовсе не показалось: перед ним, вдруг, возникли из ничего, из пустоты, чётко, ясно, красивые, одухотворённые, человеческие лица. Какие проницательные и красивые глаза на этих лицах? Они пронзали, проникали куда-то внутрь, в душу, прощупывали все её закоулки. От этого всепроникающего взора Мстиславу поначалу стало как-то нехорошо, а через мгновение, легко на душе, зато какое-то напряжение, медленно растущее откуда-то из глубины, из селезёнки, постепенно захватывало всё его существо. Вот лица куда-то отступили и Мстислав увидел горящие многоэтажные дома, рушащиеся города, людей с безумными глазами и разинутыми ртами, в которых застыл последний крик, а над всем этим как карающий меч – вспышка ярчайшего света. «Господи, – подумал Мстислав, – уж не в преисподней ли я?». Послышался голос, произнёсший всего одно слово, а может это и не голос вовсе, так, короткая мысль, означающая что-то и внедрившаяся в сознание. А уже через мгновение Мстислав летел куда-то в бархатную черноту вселенной, к далёким звёздам, а некоторые, ближайшие, яростно испуская нестерпимый свет, проплывали мимо, и конца этому движению всё не было. Но вот перед его взором снова возникли глаза: огромные, прекрасные, зовущие куда-то, и были это… глаза Дарико. Но вот в сознание Мстислава вторгся какой-то безмерно далёкий голос, который звал и звал его по имени. Наконец князь осознал и услышал этот голос:
– Мстислав! Мстислав! Да ты что уснул, что ли там? Вылазь! – слышался голос Давида.
Князь вылез и, уставившись на друга какими-то осовевшими глазами, воскликнул:
– Там, внутри, огромный мир! Он прекрасен и страшен, и он разрушен не то людьми, не то богами! Он, этот удивительный мир, был, и его уже нет! А что такое Брахмастра? Ты у нас человек учёный, растолкуй! Я услышал это слово там! – князь повёл рукой в сторону черневшего отверстия дольмена.
Давид обеспокоено посмотрел на Мстислава, медленно заговорил:
– Я читал где-то в хрониках Аммиана Марцеллина, сирийского историка, а он жил ещё в 1У веке, а ещё у армянского философа Себеоса тоже… Они, эти учёные мужи, нашли в индийских хрониках значение этого слова. Когда-то, давно, существовало сверхоружие древних. В переводе с индийского на греческий язык, Брахмастра – это супероружие богов, Великий Огонь. Я же рассказывал тебе: древние греки ещё тысячу лет назад пришли к выводу, что мир материи состоит из очень малых тел, первозданных кирпичиков, называемых атомами. Разломать, разорвать эти атомы невозможно, а если кто найдёт способ разрушить эти атомы, то высвободится огромная, ни с чем несравнимая, божественная энергия. Видно древние знали, как это сделать – вот и погубили сами себя, а боги не стали их спасать…
– Ты знаешь, Давид, – князь как-то отрешённо посмотрел на друга, – я, когда вылез оттуда, то почувствовал себя каким-то мелким, ничтожным и никому не нужным!
– Ну, это ты уж загнул, Мстислав! – успокаивающе заговорил Давид. – Как это не нужным? Ты нам всем нужен! А ну, да если бы в единоборстве победил князь Редедя? По уговору и по обычаю, а мы все были свидетелями, Тмутараканская земля досталась бы ему. Князь Владимир с этим бы не согласился, а это – война! Зачем нам это – вот такая ты фигура!
– Хм, тоже верно! – согласился князь, и тут же предположил: – Но ты бы мог взять власть в свои руки! Мать у тебя иудейка, но по отцу ты из княжеского рода Ашина, а Хазарией, на протяжении веков, правил этот род до того как мой дед, князь Святослав, покорил её.
– Брось ты эти рассуждения, Мстислав! Во-первых, моё сердце не желает власти, я науки люблю, пытаюсь понять мироздание, ум мой там, в глубине веков. А, во-вторых, твой отец, князь Владимир, ни за что не согласился бы на это, и прислал бы войско! Да и русская дружина в Таматархе подняла бы меч! Опять междоусобия, опять кровь! Зачем? Нам и так хорошо! Торгуем со всем миром, наживаем богатства, люди сыты!
– Да, всё так, Давид! – князь с грустью взглянул на соратника. – Но я какой-то оторванный от Руси. Вот и говорю-то на греческом, или на тюркском. По-русски редко говорить приходится, иной раз, и слова-то русские забывать стал, заметил ведь?
– Ну что из того? – развеселился Давид. – У нас здесь все говорят на трёх языках, и друг друга понимают, и договариваются, и живут мирно! Ты вон посмотри, три веры у нас: Иудейская, Христианская и Ислам, а ведь никто другого в свою веру насильно не тянет?
– Ладно! – усмехнулся Мстислав. – В мирной земле конечно спокойней жить! Пошли дальше, вон там ещё одна каменная берлога виднеется! Надо уж и её заодно осмотреть!
До следующего дольмена было саженей двести. Внушительное сооружение по своей конструкции почти полностью повторяло первое, только фасадная плита с отверстием была обращена в ту сторону, откуда князь с Давидом пришли, и где над горизонтом поднималось чистое, будто умытое солнце.
– С меня достаточно того, первого, Давид! – заявил князь. – Ну, а ты, если хочешь, полезай!
Давид тоже проявил вполне закономерное любопытство и забрался в дольмен. Мстислав повернулся и посмотрел на солнце, которое, ещё только поднявшись, уже припекало вовсю; день обещал быть жарким. От дуба видна была только верхняя часть кроны, вторую, нижнюю половину дерева скрывал косогор.
Через некоторое время из отверстия дольмена вывалился взъерошенный Давид. Мстислав такого возбуждённого друга видел впервые. Тот, немного поостыв, заговорил хрипловатым голосом:
– Ты знаешь, Мстислав, саблей я владею не хуже любого твоего дружинника и в обиду себя не дам, хотя моя вера запрещает убийство, но то, что я там увидел!?
– Ну, что ты там мог увидеть? – князь сказал это добродушным голосом, положив тяжёлую руку на плечо Давида.
– А то! – помощник мрачно посмотрел на Мстислава. – Ты же знаешь, что в прошлом году я ездил в Албанию (Азербайджан)! Встречался там с хронистами шаха, осматривал древние стены города Ардебиля, и запомнилась там мне одна башня. Здесь, в этом дольмене, я увидел куски страшной битвы хазарского войска под предводительством Барджиля с персами под стенами Ардебиля, как раз возле этой, знакомой мне, башни. Битва эта произошла ровно три века назад, когда хазары в двухдневном, жесточайшем сражении, наголову разгромили сорокатысячное войско персидского полководца Джерраха Ибн-Абдаллаха ал-Хаками. Я знаю из хроник, что сам Джеррах погиб в этой битве. Я уже тебе как-то рассказывал, что хазары в то далёкое время много воевали с персами из-за провинции Мазендаран. Особенно донимал Хазарию полководец Саид Ибн-Амр ал-Хараши, а ещё старый вояка Хабиб Ибн-Маслама, великий персидский полководец. Ну, да ведь кому понравятся ежегодные грабительские набеги хазар в долину Куры и дальше, на Шемаху и Арран. Войска проходили через Дербент – вот там, в узком месте, между горами и морем шах Хосров Ануширван построил стену из камня, да только и она не смогла остановить неудержимую хазарскую конницу. Крепость Дербент, как кость в горле, мешала ещё сарматам свободно проникать в богатейшие земли Ширвана и Мазендарана.
– Понимаю, – Мстислав иронично улыбнулся, – тебя, там, в берлоге, ужаснуло это ратоборство! Но ты же сам участвовал в битвах? Чего тебе ужасаться-то?
– Да нет, Мстислав! – Давид сердито стряхнул руку князя с плеча. – Просто я никогда не видел такого ожесточения и столько крови! Причём всё предстало перед моими глазами очень чётко, в подробностях, в деталях. Когда ты не участник столь страшного события, а только наблюдатель, то это тяжко видеть со стороны. И я подумал: зачем вся эта человеческая дурость? Вот ведь люди – из-за своей жадности готовы весь мир утопить в крови, а много ли человеку надо для жизни?
Князь успокаивающе хлопнул Давида по спине и произнёс просто:
– Ладно, пошли к уртону! Утро в разгаре, а мы ещё даже чаю не попили!
Шагая к видневшемуся невдалеке дубу, Давид, вдруг, недоумённо заговорил:
– Солнце почему-то совсем не утреннее, а скорей вечернее? Неужели мы здесь целый день проторчали? Так я ещё даже проголодаться не успел!
Солнечный круг и впрямь был оранжевым, каким-то уже усталым, и опускался в сиреневую, вечернюю, дымку. Князь ошарашено уставился на помощника, заговорил по-русски:
– Куды ж прёмси-то, на заход Ярила? Нам же вон туда надо, откуда пришли! Айда обратно! А то, что цельный день тута проторчали, тако сам же мне поведал давеча, что место энто не чисто!
Путники повернулись и зашагали обратно, в спины их упёрлись ещё тёплые лучи заходящего светила. Из-за дольмена выглядывала верхушка дуба.
– Ну, вон и дуб, а там родник! – заметил князь.
Давид обернулся назад:
– Но там тоже вон дуб выглядывает!
– Да мало ли! – князь решительно шёл вперёд. – Пришли-то мы с восхода!
Друзья прошли мимо дольмена, миновали дуб, даже не заметив, что это совсем другое дерево, и возле знакомой ели увидели родничок. Ободрившись, стали спускаться вдоль оврага, но почему-то возле кабаньей тропы, вместо дальнейшего спуска начался подъём, который упёрся в ель с родником.
– Что за чертовщина! – проворчал князь. – Опять этот родник, а вон выше и дуб!
– А родников у основания возвышенности может быть и два, и даже три, да и дуб здесь не один! – высказал предположение Давид. – Так что, пожалуй, надо обратно!
Поднявшись к дубу, они увидели, что заходящее солнце у них за плечами. Бодро пройдя всю поляну в обратном направлении, они, миновав дуб, ель и родник, дошли до знакомой кабаньей тропы, а там опять начался подьём, и всё повторилось. Возле дуба остановились, а солнце опять стало утренним.
– Стой, Мстислав! – воскликнул Давид, страшная догадка мелькнула у него в голове. – Бог мой! По кругу ведь ходим! Я понял! В хронояму угодили!
– А что это такое, хронояма? – недоумевал князь.
Предупреждал меня об этом один учёный грек в Фессалониках, когда я там был с дядькиной солью три года назад. – Понимаешь, – это завихрение, это такая воронка времени! Вот как в текущей воде, видел, небось? Выбраться из временной воронки невозможно! Ещё никому не удавалось!
Лицо Давида покрылось участками какой-то белой кожи, словно кто-то сыпанул на него муки. Необъяснимая тревога змеёй заползла в душу князя.
– Но мы же должны, что-то есть, ночь придёт, так спать надо? – попытался как-то выяснить ситуацию князь.
– Никакой ночи не будет, Мстислав! И еда нам не понадобится! Будем вот так ходить из конца в конец по поляне вечно, без какой-либо усталости! Залезать в дольмены, рассказывать друг другу одно и то же тысячи и тысячи раз… . В мире много непонятного нам, людям, кругом сплошные загадки…
Князь широко перекрестился, воскликнув по-русски:
– Господи! За что же нам энто наказанье-то? Видать за грехи! Одному Богу вестимо, яко нас испытать! Ведь упреждал же Сосланбек, дабы сюды не шастали! Вот она жизня, и не ведаешь, откуда лихо свалится на главу беспокойну! Ты ладно, ты учёный, у тебя свой интерес, а я-то, дурень старой, голова с дырой, яко отрок младой! Тьфу, прости Господи! Ну, да ладно, а вот аще кто другой взойдёт на энтот холм? А, Давид?
– Даже если кто придёт, то мы его не увидим! – был удручённый ответ Давида.
– Энто пошто?
– Потому что он будет в другом завихрении, в своей временной воронке!
Мстислав решительно дёрнул парня за ремень, подпоясывающий его висконовую рубаху, заговорил по-тюркски:
– Пошли вниз! Что-нибудь придумаем возле кабаньей тропы! Думаю там есть начало этой западни!
– Бесполезно!
– Почему?
– Да потому что для людей нашего времени мы просто пропали без вести! На то она и воронка!
– Пошли, Давид!
Спустившись к роднику, Мстислав решил попить. Зачерпнув ладонями воды из ямки, он начал пить, и чуть было не плюнул. Вода была тёплой, невкусной, мёртвой, а ведь час назад она была совсем другой: холодной, живой – пил бы и пил, не отрываясь.
Возле кабаньей тропы друзья остановились, решительно не зная, что предпринять. Неуверенно разглядывая чёрные стволы деревьев, сквозь густую листву которых несмело пробивались редкие лучи вечернего солнца, они заметили, что нет никаких звуков, присущих любому лесу. Главное – не слышалось птичьего треньканья. Из мелкой лесной поросли, что близко подходила к тропе, вдруг, протянулась чья-то рука, и, крепко ухватив подолы рубах заблудившихся путников, сильно дёрнула к себе.
Давид с князем пошатнулись, и невольно сделав широкий шаг в заросли, увидели там Сосланбека. Глаза парня были испуганными, но всё-таки он решительно потянул обоих за собой. Вокруг его пояса была обмотана верёвка, которая протянулась от него куда-то в гущу деревьев.
– Пошли, пошли скорей отсюда! – воскликнул Сосланбек, наматывая на локоть верёвку, которая оказалась привязанной к дереву.
Через две сотни саженей он становился, и, взглянув уже какими-то радостными глазами на заблудившихся, произнёс:
– Ну, видать, велика сила ваших богов! Мы уж думали всё, – не увидим вас больше никогда! Целый день вас ищем! Хорошо, что Юсуф сказал мне, куда вы пошли. Я решил, что залягу возле кабаньей тропы, подумал, что вы, блуждая, всё равно сюда выйдете. Привязался к дереву верёвкой, чтоб не потеряться самому, ну, вот и помогло. Сюда ведь кто ходил – больше их и не видели, я же предупреждал…
Мстислав истово перекрестился, потом крепко обнял парня, слегка отстранившись, посмотрел в его какие-то наивные, чёрные глаза, и медленно заговорил:
– Смелый ты, Сосланбек, братом будешь! Пойдёшь ко мне в дружину? Сотником сразу поставлю! Небось, воинскому ремеслу обучен, а нет так мои джигиты тебя поднатаскают?
Повернувшись к Давиду и, дружески хлопнув его по спине, спросил:
– Ну, вот что это, Давид? Как понять? Прям-таки морок какой-то! А, может, это испытывал силу духа нашего Спаситель мира?
– Не знаю, что и сказать, Мстислав! – задумчиво ответил советник. – Только вот византийский хронист, Прокопий из Кесарии, в своей книге: «Война с готами» подобный случай описывал, а ведь он жил и писал свою книгу почти пять веков назад. А совсем недавно, в прошлом году, когда я ездил в Ширван и встречался в Шемахе, а после в Ардебиле с арабскими мудрецами, один из них, философ и математик, Ахмед Ибн-Мухаммед Ибн-Мисхавейх подробно объяснял мне суть воронки времени, которая напрямую связана с вселенским Разумом. Только я так ничего и не понял! Понимаешь, Мстислав, я ещё раз повторяю, в мире так много неизведанного, загадок столько, что голова пухнет…
Глава 5. ТАЙНАЯ ВОЗНЯ МИССИОНЕРОВ
Осень на Северный Кавказ приходит незаметно. Листья на деревьях побурели ещё летом, травы пожухли, а жара как стояла, так и стоит. Но вот северный бора пригонит неисчислимое стадо туч, из которых за весь день не выпадет ни одной капли влаги, а к вечеру юго-западный ветер с моря сметёт всю эту шушеру на северо-восток и над головами людей вновь раскинется синий шатёр неба. Ласковое солнышко с утра опять гонит на степи, леса и горы массу тепловых лучей, обогревая и радуя всё живое на этой древней земле.
А бывают дни, когда над акваторией моря столкнутся в противоборстве Борей с Зефиром, наберут испарений с морской поверхности, да и выльют весь этот конденсат над горами. Ну, а уж оттуда вода через горные речки мощными потоками растекается по всей северокавказской равнине, напоив степные травы и леса, переполнив попутно две главные реки этой обширной местности: Кубань и Терек.
Но всё ж осень, она и на Кавказе осень. Ярко-жёлтая листва клёнов и лип с вкраплением красно-сизой одежды рябин, в сочетании с пронзительно синим небом, создают праздничный вид окрестностям. Буйство этих природных красок слегка сдерживают зеленовато-медные кроны дубов и буков, да кое-где из лесной желтизны свечками торчат почти чёрные ели. Это сейчас вокруг Таматархи голая выгоревшая за лето степь, леса давно вырублены, а в то далёкое время дикая чащоба подступала, чуть ли не к самому морю. Лист с дерева ещё только начинает падать, и в лесах наступает торжественно-тихий праздник природы, только рёв зубров и оленей на утренних зорях звучит, подобно трубам ангелов, возвещающих наступление дня.
В большом двухэтажном доме протевона города Феофана Фоки, у открытого окна, в плетёном из виноградной лозы креслице на втором этаже, сидел заморский гость. Звали гостя Баттиста Дука, и был он посланником протосикрита императорской канцелярии Гавриила Дуки. Распахнув на волосатой груди белую висконовую трабею, заморский гость ворчливо заметил, обращаясь к хозяину, который расположился напротив в таком же кресле:
– Вроде бы уже осень, Феофан, а духота прямо-таки летняя! Думал, что вот уеду от столичной жары к вам на север, так и окунусь в прохладу! Ан нет, хорошо вот, что утренний бриз с моря!
Протевон, взял серебряный лекиф, что уютно стоял на маленьком столике, не спеша, налил в фаянсовые пиалки уже разбавленного вина местного производства. Немного отпив из своей посудины, он степенно заговорил:
– Ну, овец ещё не стригли, Баттиста! Виноград не давили и вина нового урожая ещё в подвалы не ставили! Зато успели построить пять торговых галер за лето, но, главное, заложили с весны новую церковь Рождества Богородицы из камня по приказу князя Мстислава и к празднику Симеона Столпника накрыли храм куполом. Правда ещё без позолоты, да и внутри наши изографы ещё штукатурят и расписывают божественные фрески. Хотя абсидную часть храма, иконостас, уже украсили иконами, что привезли из Константинополя, из Влахернского монастыря. Князь вот из Грузии вернулся, так уже первую службу провели.
– Стоп, стоп, Феофан! Как это вы за три месяца храм Божий из камня успели сотворить? Да добрую церковь за год не построить!
Протевон снисходительно усмехнувшись, пояснил гостю:
– Это там, в метрополии, Баттиста, бюрократия ваша пока развернётся, годы проходят, а у нас здесь не так! Князь приказал, так всё бегом делали, да и камень был уже заготовлен для возведения крепостной стены, и известь. По весне в Таматарху вернулась из похода почти вся дружина князя, и воевода Захарий тут же кинул, чуть ли ни всех дружинников на строительство, да и горожан привлёк, денег не жалел.
– Ишь, ты! – удивился гость, пробуя вино. – Уж больно проворен и суров ваш князь!
– Так, а чего удивляться, Баттиста! – доверительно заговорил протевон. – Сказывают, что князь Мстислав в единоборстве победил касожского князя Редедю и свидетелям, дружинникам, сказал, что его взяла под свою защиту Богородица, дева Мария, – вот в её честь спешно и возвели храм сей! Князь наш человек очень набожный, только вот поступил он, после победы над Редедёй, как-то по-язычески. То, что он бескровно присоединил земли касогов к Тмутараканскому княжеству, может и хорошо, в духе времени, но он же привёз сюда семью касожского князя и теперь у него две жены и общие дети, а это не по-христиански.
– Ха-ха-ха! – развеселился гость. – Ай, да князь! Молодец, люблю таких!
– Да ты что, Баттиста! – возмутился протевон. – Князь христианин, а поступил как мусульманин! Это ислам разрешает иметь двух и более жён!
– Дурень ты, Феофан! – посуровел гость. – Ваш князь поступил мудро, как и подобает правителю! И как раз по-христиански, коли приютил осиротевшую семью. Да откажись он от семьи побеждённого им Редеди, дружина касогов ни за что бы не стала присягать на верность новому хозяину. По горскому обычаю победитель в единоборстве просто обязан взять семью себе, позаботиться о детях, вырастить их, воспитать, ну, а с ещё одной женой он может и не спать, и греха не будет! Вот и по исламу так положено, и это, считаю, правильно!
– У христиан об осиротевшей семье обязан позаботиться монастырь, община! – осторожно возразил протевон.
– Тьфу, ты! – гость помрачнел. – Чего не поймёшь-то никак, Феофан? Ваш князь по-другому поступить не мог! Он здесь в окружении горских племён со своими обычаями, среди язычников и мусульман, обязан соблюдать определённые традиции, жёсткие местные правила, иначе ему не сдобровать. Здесь уважают силу и справедливость, что он и демонстрирует! За это его и любят! Всё, хватит об этом! Ты лучше скажи мне, не собирается ли ваш князь в поход на север?
– А это ещё зачем? – удивился протевон. – Чего он там забыл, на краю земли? Воевать с гипербореями? По слухам там небо сходится с землёй. Там вечный мрак и вода превращается в кристаллы. Хотя кто его знает? Может, он решил отобрать золото у грифонов, которое они собирают в диких горах? Вот там он и сгинет вместе со своими полками, и с конями, потому что там не растёт трава, так как нет солнца, и защита Спасителя не распространяется на те далёкие края…
Секретный агент императорской канцелярии удивлённо вытаращил глаза на протевона, в его голове пронеслась мысль: то ли этот Феофан полный дурак, то ли прикидывается им, тогда хитёр. Вслух же высказался:
– Чего несёшь-то, Феофан? Какие гипербореи? Какие грифоны? Кто только тебя, такого вот необразованного, избрал на пост протевона города? Так безграмотно рассуждать может только какой-нибудь пастух с предгорий, который не может сосчитать два десятка чужих овец, что он пасёт, но уж никак не просвещённый грек! Сидишь тут навроде чучела! Там на севере славяне! Киевский князь Владимир умер! Ты что не знал? Его сыновья затеяли грызню за киевский престол и это нам на руку. Надо настроить вашего князя Мстислава ввязаться в эту борьбу! Пусть он завязнет в войне со своими братьями, они ему покажут гипербореев! Ладно, если он унесёт оттуда свои ноги! Но ещё лучше, если бы он повернул свои полки на Запад, против этих еретиков, католиков, а хоть бы и на польского короля Болеслава Храброго! Неужто не понимаешь, что нам, Византии, важно ослабить не только Киевскую Русь, но и католический Запад руками русов? Но, пожалуй, важнее всего для нас, чтобы Православие прочно утвердилось на всём огромном севере, вплоть до земель викингов и угров. Там ведь сплошь язычники! Как только восторжествует Православие на Руси, будет она вассалом Византии, и эти варвары русы будут воевать за наши интересы!
Протевона несколько покоробил высокомерный тон столичного чиновника, особенно его оскорбительное сравнение с овечьим пастухом и чучелом. Чтобы как-то осадить зарвавшегося гостя, Феофан, медленно выпив своё вино из пиалки, грубовато отпарировал:
– Я в императорском университете не учился, может, чего и не знаю, да и не мог я учиться в Константинополе, потому что являюсь подданным другого государства, Киевской Руси. Но должен тебе сказать, Баттиста, что выбрали меня на пост протевона города здешние выборщики от ремесленных слобод, торговцы, в том числе русские, которые давно живут здесь с семьями. Да и хазарские иудеи доверили мне власть, за мою хозяйскую хватку, а князь своей волей меня утвердил на этой хлопотливой должности. А ты здесь никто! Ты же иностранец, а я не подданный Византии, и твой протосикрит Григорий Дука мне не указ! Кстати, он случаем тебе, не родня ли, с его ведь голоса распелся тут?
Баттиста понял, что малость перегнул и примиряюще произнёс:
– Ну, ладно, ладно! Может, ты и хороший хозяйственник, да в политике слабоват, а надо бы разбираться! Ну, да ничего, жизнь научит! И причём тут протосикрит Григорий? Я генеалогией не занимаюсь! Может деды из рода Дука, и роднились, мне это неизвестно! Но вот только у нас, у греков, где бы мы не жили, под чьими бы государями не ходили, а думать должны о своей прародине, Византии, и по мере сил своих помогать ей! Так-то вот, Феофан!
– Хорошо! Что я должен сделать? – угрюмо буркнул протевон.
– Ну, вот – это уже другой разговор! – менторским голосом продолжил Баттиста. – Повторяю, нужно тихо, исподволь, вложить в наивную голову князя мысль, что он тоже имеет полное право на киевский стол. Во всяком случае, свою долю наследства он должен заиметь! Ну, хотя бы Новгород или Чернигов!
– Да в его руке и так весь Северный Кавказ! – возразил протевон. – Зачем ему холодная северная земля? Он ни в чём не нуждается! Теперь вот у него крепкие союзнические отношения с Грузией, с царём Багратом Ш дружба!
Византийскому гостю уже порядком надоело ослиное упрямство тмутараканского чиновника. Баттиста сам плеснул в свою пиалку вина, не спеша, отпил, и, пытливо глянув на протевона, принялся разъяснять ему глубинную сущность человеческих характеров:
– Да пойми ты, Феофан! Собаке дай один раз кость, она придёт за второй, а потом за третьей, да приведёт с собой целую свору! Человек уж так устроен, что, сколько бы у него не было, ему всё мало! Особенно это касается людей, обладающих хоть какой-нибудь властью! Жадность человеческая, как и глупость беспредельны! На этом и строится наша политика! Мы не желаем, чтобы Русь с грабительскими намерениями кидалась на наши векселяции в Крыму и на Балканах, как тот голодный пёс на забор! Про то, как князь Владимир разорил Крым и Херсонес в своё время, ты уж всё-таки знаешь? Кстати и ваш князь не так давно тоже ходил на Крым и занимался грабежом Херсонесской вебы. Правда к чести князя Владимира, он там проникся христианским вероучением, и даже построил храм во славу Спасителя мира, а после крестил Русь!
Протевон с сомнением покачал головой. Приглядываясь к Мстиславу в будничных делах, бывая у него на пирах и совещаниях, он пришёл к мнению, что этому русскому князю, обладающему почти неограниченной властью и богатой казной, всё это, как бы, и не нужно. Он не стремился расширять территорию Тмутараканского княжества; близлежащие земли сами шли под власть Мстислава, потому что давно познали его силу. А что касается княжеской казны, так деньги, без каких-либо усилий с его стороны, и так текли в его карман от каждодневных торговых операций в Таматархе. Тем более, что торговля здесь давно уже затмила оборот товаров в Крыму, в том же Херсонесе. Ему всегда было чем рассчитываться со своими воинами, и они любили своего предводителя. Хотелось бы Феофану увидеть хоть одного человека, который бы не любил кормящую руку. Мстислав был просто равнодушен к увеличению денежных потоков для себя и присоединению к своему княжеству новых земель. Пожалуй, ГЛАВНЫМ В ЕГО ЖИЗНИ были походы и сражения за правду, за какую-то там справедливость…
– Ну, чего молчишь? – прервал размышления протевона Баттиста. – Давай свои соображения по нашему вопросу!
– Можно поговорить с Давидом Хашиной, другом и советником князя, – неуверенно промямлил Феофан. – Он ведь из рода хазарских каганов, и, когда Мстислав уходит в очередной поход, часто остаётся в Таматархе в качестве наместника. Но едва ли он будет убеждать князя лезть в драку с братьями; он ведь, судя по его характеру, наверняка считает такие дела нечестными.
– Ну, хорошо, хорошо, Феофан! – раздражённо заговорил Баттиста. – У вас тут в Таматархе полно херсонесских купцов, русских торговцев и дружинников с семьями, и они-то вполне могут повлиять на мнение князя относительно наследства, а уж здешним церковным иерархам желательно искоренить язычество в северных землях. Я вчера разговаривал с митрополитом Макарием по этой теме, и он вполне разделяет наше мнение. Я имею в виду продвижение и распространение Православия на Руси. Да что говорить, коли у вас, в землях Тмутараканских, еретиков и язычников полным-полно! Об этом я тоже напомнил митрополиту. Греки, русские и яссы – христиане, хазарская верхушка – иудеи, половина горских племён – мусульмане, а простые хазары – язычники. И ничего – уживаетесь, а князю так и вообще наплевать, как люди своего бога славят, во что верят! Однако князь Мстислав человек энергичный – вот и направить бы его энергию туда, на Русь!
Феофан давно уж понял, чего хочет посланник императорской канцелярии, и в принципе был согласен с ним, но как настроить князя в поход на Русь, коли он всех слушает, а поступает так, как ему хочется, – непредсказуемый он. Будешь лезть к нему с подобными советами, так ещё и навлечёшь его гнев на свою голову. Вслух же сообщил Баттисте:
– Я сегодня приглашён к князю по поводу строительства крепостной стены, так уж скажу ему насчёт наследства-то!
При этих словах Баттиста подумал про себя, что этот недалёкий протевон может только всё испортить своими неуклюжими советами. Тут надо тонко сыграть на чувствах князя, а этот разве сможет? Ну, да чёрт с ним, главное, что он заронит в голову князя мысль о наследстве и справедливости.
– Ты хоть знаешь, Феофан, – начал опять наставлять посланник, – кто сейчас правит в Киеве?
– Да откуда же мне знать? – был ответ.
– Да хотя бы от русских торговцев! – Баттиста снисходительно посмотрел на протевона.
– Так я с ними ещё не встречался! Как-то всё нужды не было!
– Ну, так знай, что на киевском престоле сейчас сидит старший сын князя Владимира Святополк, а он сын нашей принцессы Анны. И всё бы хорошо для Византии, если бы этот придурок не снюхался с католиками! К тому же женился на дочери польского короля Болеслава Храброго, а это уж для нас совсем плохо. Мы можем потерять Русь, как православное государство! Наше влияние на Русь под большим вопросом! Соображаешь, Феофан? Слушай дальше: брат вашего князя Ярослав из Новгорода попытался выкинуть Святополка из Киева, да король Болеслав помешал, и новгородская дружина Ярослава потерпела позорное поражение. Мало того, этот Святополк, опасаясь потерять киевский престол, убил своих сводных братьев Бориса и Глеба, чем и заслужил прозвище Окаянного. Так вот, ты при встрече с Мстиславом мягко намекни ему, борцу за справедливость, что надо бы отомстить за кровь братьев. Ничего, что он братьев своих никогда и не видел! Кровь-то в нём взыграет, загорится парень! А вообще, сведи ка ты меня с Мстиславом!
– А как я тебя представлю? – округлил глаза протевон.
– Ну, чего ты на меня буркала свои выпучил, Феофан? Наври чего-нибудь! Скажешь ему, что я севастофор императора, прибыл с дружеским визитом, он поверит!
– Так врать-то я не умею! – наивно брякнул протевон.
– Тьфу ты! На такой должности, да всё ещё не научиться врать! Ну, кто поверит?
*****
Мстислав проснулся от нежного воркования горлиц, и первой мыслью князя было, что вроде бы рановато птицы затеяли свои утренние песни. Через узкое окно спальни проглядывала предутренняя синева. Какое-то время князь полежал на своём твёрдом топчане, накрытом шкурами барса, положив руки за голову. Масляные светильники не горели: он не любил, когда утро приходило через пламя светильников, да ещё пахло горелым маслом. Ему нравилось, когда божественный рассвет синими валёрами приходил из ночной мглы постепенно и неотвратимо.
Лёжа на топчане в спальне, словно на дне какой-то ямы, князь смотрел в серо-синюю тьму и размышлял. На Руси творилось чёрт знает что, сплошное братоубийство, какой-то делёж незнамо чего, да ещё польский король Болеслав припёрся поддерживать неизвестно кого и чего, а скорей всего пограбить под шумок страну, которая враз лишилась хозяина. Как донесли Мстиславу доброхоты, якобы старший сводный брат Святополк принял католическую веру и теперь неизвестно что будет с византийской верой на Руси, которую с таким трудом вводил отец, князь Владимир. А ещё донесли, что этот Святополк убил братьев, Бориса и малолетнего Глеба, якобы пытавшихся захватить киевский стол.
