Казус мнимого величия
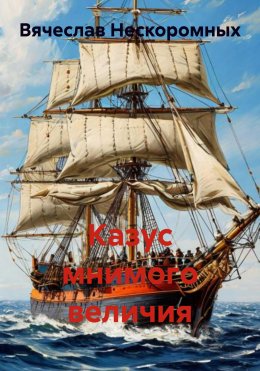
Первое кругосветное плавание российских моряков на шлюпах «Надежда» и «Нева» имело начало из Кронштадта летом 1803 года и завершилось ровно через три года. Два корабля, прикупленные в Англии, с командами русских матросов, набранных с военных кораблей, и офицеров, которые в основном были из прибалтийских немцев, совершили великое плавание, претерпев многие шторма и выдержав шквалы трех океанов. Это не смутило духа моряков, ведомых Иваном Крузенштерном (Адам Иоганн фон Крузенштерн), но, как всегда, среди величия духа достойных личностей, которые вершат историю, встречаются люди, для которых важно оказаться во главе этих процессов ради удовлетворения собственных амбиций. Иногда выходки людей-авантюристов не только мешают, но и способны уничтожить начинание, подставив подножку и толкнув в спину того, кто несёт, собрав силы все тяготы по скользкому пути созидания. Такова и история плавания российских моряков, которым довелось пережить интриги неких особ, чьё мнимое величие требовало подтверждения, но ничего более, как казус исторического события, не оставило в памяти. Тем не менее, история подкидывает свои фортеля, когда что-то вдруг переоценивается и даёт новые краски. Так и с камергером Николаем Резановым, отметившегося странными, зловредными действиями во время кругосветного плавания и посольства в Японию, в управлении Русской Америкой, которые едва не вызвали военного столкновения держав. Тем не менее, сегодня в Красноярске можно видеть величественный памятник камергеру, командору масонского ордена Н. П. Резанову, установленный в честь 200-летия плавания российских моряков вокруг света в 2007 году. Это ли не казус, если учесть, что такого плавания он не совершал, а скорее стал помехой и был даже готов прекратить великий подвиг российских моряков данным ему положением? Невозможно не упомянуть в данном контексте и великое произведение – рок-оперу «Юнона и Авось», ставшее вехой литературно-музыкального искусства конца прошлого века и поныне популярного, героем которого стал камергер Резанов. Память человеческая избирательна, склонна к эмоциональному нерациональному восприятию действительности, но факты упрямы, ибо только свершенное нами имеет цену.
КАЗУС МНИМОГО ВЕЛИЧИЯ
I
Поручик лейб-гвардии Измайловского полка Николай Резанов, полный сил и мужских амбиций, был горд службою в личной охране императрицы Екатерины Великой.
Будучи приписан к армейской службе в свои младые четырнадцать лет, Коля периодически появлялся в полку, занимаясь в основном домашним образованием под попечением маменьки. К семнадцати годкам, продемонстрировав статность и тактичность обхождения, Николай был переведён в гвардейцы в чине сержанта по протекции брата отца Ивана Гавриловича, сенатора и влиятельного петербургского чиновника.
Николай проявил с детства способности к гуманитарному образованию, а лучше всего ему давались иностранные языки, а еще танцы и манеры обхождения. Не отличаясь крепким характером и способностями к технике фехтования и стрельбе из пистолетов, Николай Резанов брал умением тактично общаться и быть посредником во всяческих острых спорах. Эти его способности дали ему возможность прославиться в качестве говорливого адвоката среди задиристых приятелей.
И вот теперь, уже в чине поручика, Николай Резанов оказался назначен командовать конвоем императрицы. Без участия брата отца и в этом случае, как поговаривали, не обошлось.
Дела в государстве шли успешно.
Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин уверенно и талантливо вёл воинские и государственные дела, отвоёвывая и осваивая новые территории и рубежи на западе государства российского. Русское оружие и талант фельдмаршала А. В. Суворова и адмирала Ф. Ф. Ушакова приносили России всё новые и новые победы. Число подданных императрицы Екатерины II росло, и настал момент, когда интерес Екатерины к новым территориям, а особенно к Крыму, достиг такого уровня, что было решено − пора окинуть завоёванное взглядом полновластной и рачительной хозяйки. Откладывали несколько раз поездку из-за неотложных дел и нежданных событий, но к новому 1787 году всё отладили, и в январе, свита императрицы отбыла из столицы в Царское Село, а уже оттуда и далее, взяв курс на Киев.
«Путь на пользу» − так определила кратко цель и задачи путешествия императрица, так как намеревалась по дороге исправить увиденные административно-хозяйственные неполадки своего «маленького хозяйства», как она шутливо называла Российскую империю.
Зима была в разгаре, путь отлажен, и процессия, насчитывающая десятки повозок и охрану, ходко двигалась от станции к станции, от города к городу, встречая везде восторженные толпы подданных и их хозяев, вольных купцов и работников, церковнослужителей, армейские гарнизоны в ярких, по случаю встречи императрицы, мундирах.
Поручик Николай Резанов, неполных двадцати четырех лет от роду гвардеец, отличался не только зрелыми уже годами, а был приметен внешними своими данными: высок, статен, гладок лицом, голубоглаз, светлые локоны слегка завивались у лба. Алые губы, собранные в бантик, выдавали в нем затаённые сладострастные желания и указывали на характер недостаточно твёрдый, но заносчивый.
Николай ладно сидел на коне в ярком гвардейском мундире, умело, с управляя конём и конвоем во время движения процессии. Екатерина всегда с удовольствием поглядывала на ладного гвардейца, выделяя его среди других из состава конвоя. В эти дни сердце любвеобильной женщины было занято тридцатилетним Александром Дмитриевым-Мамоновым, бывшим адъютантом всемогущего князя Григория Потёмкина, который и «подсадил» своего человека в окружение императрицы, дабы «место не пустовало» и неповадно было другим молодцам занимать столь выгодную для карьеры и благосостояния позицию.
А охотников было много!
И тех было вдоволь, кто таких охотников находил и пытался приблизить к матушке, чтобы светлейшего князя подвинуть с места и добиться, наконец, возможности соуправлять державою и получить от власти свои дивиденды. Теперь, стремительно выросший до генеральского чина камергер Ея Величества Александр Дмитриев-Мамонов, отбывал службу при Екатерине, занимая её время и днем, и ночью. Екатерине он был по нраву, но, неудержимая порой в любовных утехах императрица, находившаяся в преклонных уже летах, порой шалила − подбирала новых претендентов на ложе прямо из своей свиты, чаще всего из числа преданных престолу гвардейцев. Ребята были здесь на подбор − собранные из всех армейских частей рослые красавцы из дворянских семей − скорые да лихие.
Теперь наблюдая ежедневно императрицу, послуживший уже изрядно в гвардии Николай Резанов был необычайно воодушевлён её присутствием. В императорском одеянии, сверкающая мехами и бриллиантами Екатерина производила яркое впечатление своим величием, и не сразу были заметны её полнота и подвядшее лицо стареющей дамы. Многое заменяли яркие и внимательные глаза Екатерины: лучистые и умные, проникающие в душу и дарящие тёплый свет души.
Николай был впечатлён близким общением с императрицей, и долгими ночами на постое лежал и представлял, как там, невдалеке, на своём ложе отдыхает эта величавая женщина. В своих мечтах скромный дворянин Николай Резанов представлял себя рядом с ней, и ему казалось, что он бы справился с миссией и мог быть оценён Екатериной по достоинству. Его это волновало, и, увлёкшись, строил уже планы своей жизни в роли нового избранника и помощника императрицы. К этому его подталкивали внимание и ободряющая улыбка Екатерины. Нынешний избранник Екатерины вёл себя слишком скромно и был подобен тени великой женщины, а порой казалось, даже несколько был смущён своей ролью. Поговаривали о скорой его отставке, так как было отмечено несколько раз явное недовольство Екатерины. Это тоже способствовало нарастанию желаний и амбиций отдельных представителей свиты. Поездка была удобным моментом для сближения.
В один из дней, когда фаворит слёг от простуды и был оставлен для лечения в Нежине, Екатерина заскучала в дороге и уже ближе к вечеру, выглянув из окна огромного своего воза-кареты, поманила Николая пальчиком в перчатке алой атласной кожи. Николай скомандовал остановиться и приблизился к карете. Склонившись к открытому окну, Екатерина подала подъехавшему Николаю свой перстень и, глядя ему прямо в глаза своими смеющимися лучистыми глазами, сказала очень просто, слегка коверкая акцентом слова:
– Будь ныне, голубчик, у меня. Нужда есть с тобой повидаться.
Получив перстень и услышав слова призыва от великой женщины, Николай был оглушён. Весь остаток дня, а также время, когда устраивались на ночлег, прошли в трепете от ожидания великого свершения. Уже ближе к ночи за ним прислали и отвели в покои Екатерины. В сумерках, при свечах, он оглядел опочивальню, убранную нарядно, и в ней, в белоснежном ночном убранстве, Екатерину с распущенными волосами. Она, сидя на постели, склонила голову и с улыбкой смотрела на Николая, молча приглашая его подойти ближе. Когда он подошел к ней и опустился на колено, к нему была протянута её рука. Взяв руку Екатерины, Николай припал к ладони губами, чувствуя, как пылает его лицо. А рука Екатерины, прохладная, пахнущая невероятным ладаном, была необыкновенно мягкой и приятной. Перебирая пальцами поданной для поцелуя руки, императрица погладила лицо Николая и увлекла его к себе − теперь нужно было целовать её губы и лицо. Николай был почти в беспамятстве, и вся ночь прошла как стремительные грезы.
Утром же, едва рассвело, умаявшись, он спал, и его разбудила Екатерина, погладив по щеке мягкой своей рукой.
− Вставай, голубчик, на службу пора. Всё же охраняешь императрицу, а не кухарку стережёшь, − уже смеясь, сказала Екатерина.
И уже более серьёзно, но тихо и душевно:
− Ты молодец был ночью-то.
И потом, засмеявшись звонко, по-девически:
− Справился, братец.
И снова мягко, но серьёзно и покровительственно:
− Но дела, голубчик, призывают вставать уже. Ступай с Богом. Удачного дня тебе.
Теперь Николай на службе старался во всю прыть горящей после свидания души. Мысли скакали, и необычайные чувства одолевали молодого человека. Потрясение было столь велико, что прийти быстро в себя он не мог. Хотелось куролесить, и Николай едва сдерживал себя. В голову приходили строки:
− Ах! Эта пропасть и напасть! В ней можно быстро так пропасть! Ах, эта власть… ах, эта страсть…
Вдруг отчего-то мысли рифмовались, выстраиваясь в замысловатые образы, и порой приходили, казалось, глубокие и верные, но тут же забывались.
Николай скакал на своём жеребце рядом с каретой, подбадривая рысака, ещё более внимательно всматриваясь вдаль, старался контролировать всё, что могло попасть в поле его зрения.
Екатерина иногда выглядывала через стекло в карете-возке и всегда теперь видела своего ночного кавалера рядом. Наклоняя голову то вправо, то влево, улыбалась и думала:
– Вот хорошо, братец, что я тебя вижу так часто теперь. Хотя бы ради этого стоило тебя к себе пригласить.
И тихонечко посмеивалась в платочек, лукаво оглядывая молодца. И хотелось что-то для него сделать, чтобы и не переборщить с вниманием, и отметить по-царски.
Вечером распорядилась:
– Пошлите вина гвардейцам от меня, да передай поручику Резанову − пусть угостятся.
Вечером, получив вино от императрицы, гвардейцы сидели за столом, и разлив вино в бокалы, пили за здравие Екатерины стоя.
Потом добавили ещё вина, и, изрядно уже набравшись, подпоручик Еланской с ехидцей спросил бестактно Николая Резанова о его ночной миссии:
– А скажите, поручик, а мягка ли кровать у Екатерины? Хорошо ли почивает наша матушка-императрица?
Николай ответил на бестактность сослуживца резко: оборвал его и потребовал объяснений, назвав дураком беспросветным, а его поступок – подлостью.
Подпоручик побагровел, но смолчал и, насупившись, удалился, а наутро прислал Резанову записку со словами, что если ему угодно, то по возвращении из похода он готов ответить на дуэли за свои слова, о которых он, право, сожалеет.
Николай простил поручика, благоразумно решив, что теперь это всё некстати совершенно сейчас, а уж через полгода по возвращении в столицу будет и вовсе ни к чему.
Служба гвардейская продолжалась, вся процессия во главе с Екатериною была уже на подходе к Киеву. Николай Резанов периодически исчезал на всю ночь, и все, понимая причину такого его поведения, помалкивали и относились к нему всё более внимательно и уважительно.
Одной из ярких примет поездки императрицы по городам российским было придуманное самой Екатериной мероприятие, которое позволяло всем показать её милость, щедрость и богатство управляемого ею государства.
По приказу императрицы казначей выдавал перед въездом в каждый следующий город несколько сотен или даже тысяч золотых рублей и полтин, которые переодетые в гражданское платье гвардейцы щедро кидали в толпу.
Это было поначалу столь неожиданно, что народ столбенел, задирал, вертел головами, следил ошеломленный за полётом сверкающих на солнце монет.
Гвардейцы, старательно подбрасывая монеты вверх над головами встречающих, с любопытством наблюдали, как монеты, сверкая, падали на толпу, ударяя мечущихся людей по головам и спинам. Люди метались под золотым дождём, хватали монеты на лету, алчно сверкая глазами, вступали в свару за обладание того или иного рубля, упавшего рядом. Затем с дикостью кидались собирать упавшие, сверкающие золотом рубли, раскапывая снег голыми руками, выискивали дорогие кругляши, толкали в карманы, в шапки вместе со снегом и снова рылись в снегу, извлекая на свет монеты или замёрзший помёт.
Рубли и полтинники в большом числе терялись в снегу, но эффект был громким – все славили Екатерину, были ужасно довольны и воодушевлены.
С каждым новым городом число встречающих всё росло, так как слух о невиданной щедрости распространялся быстрее императорской колонны, а деньги таяли, вызывая сожаление и казначеев, и других служивых людей, приобщённых к процедуре.
Казначей раз за разом качал головой, выдавая монеты, и выговаривал неведомому собеседнику о пустоте глупой затеи, о таких неразумных тратах.
В один из дней, когда уже дело шло к прибытию в Киев, один из служивых попросил Николая на разговор и свёл его с распорядителем поездки Новосельцевым. Распорядитель живо предложил заменять изредка часть золотых монет медными пятаками и серебряными гривенниками, а золотые тихонечко разобрать и таким образом устранить эту, как ему казалось, глупость по разбрасыванию денег. Николай, будучи в этот момент в состоянии воодушевлённом и полагая, что это не столь уж сложная задача и опасная затея, похожая скорее на шутку, согласие своё после недолгих колебаний дал.
Для реализации мероприятия Николай Резанов приготовил очередных двух гвардейцев, которых обещал упросить не распространяться о подмене, давая понять, что замена денег как бы санкционирована сверху и соответствует плану. При въезде в очередной городишко, после всех приготовлений и подмены золотых рублей на пятаки и гривенники, провели мероприятие, и к вечеру Николаю принесли увесистый мешочек тяжёлых монет с дорогим ему профилем Екатерины.
Незатейливо задуманное предприятие успешно было реализовано ещё несколько раз, что позволило скопить поручику изрядный капитал и уже думать о том, что сможет, наконец, он помочь матушке своей, которая страдала от безденежья с младшими детьми без должной помощи отца, перебиваясь подачками родни.
Отец Николая Петр Гаврилович – служивый человек, волею судеб отосланный в Сибирь, в далекий Иркутск, отбывал срок в совестливом суде председателем. В Иркутске он задержался надолго, отлучённый от семьи, уличённый в растрате казённых денег. Следствие вели уже несколько лет, и конца этой выматывающей душу волоките не было видно.
Но подлог с монетами вскрылся и гром грянул скоро, и, казалось бы, спланированная ответственными людьми затея всплыла и дошла до ушей самой Екатерины. Возмущённая обманом матушка-императрица потребовала выявить всех причастных к подлогу, что и было сделано практически мгновенно. Оказалось, что, прикрываясь разбрасыванием медяков и серебряных полтинников, часть денег просто украли.
Все причастные к подмене монет и к краже тут же были отданы под суд и отправлены в тюрьму уездного городка, через который проезжала Екатерина со свитою в этот раз, а Николая не тронули, но позвали к императрице.
− Что ж ты, поручик, мало получаешь жалования от меня, коли позарился на золотые рубли? Это же глупость и подлость какая − воровать у меня! Нехорошо это. Не могу тебе верить теперь. Вон из гвардии! И чтобы в Петербурге не показывался, пока не заслужишь прощения, – гневно подвела черту под их отношениями Екатерина, сурового насупившись и поджав губы в сожалении от всего случившегося, смотрела теперь надменно, устремив взгляд над головой поручика.
Сказано было всё спокойно, гневно и прямо. Возвратить деньги не потребовала, а более Николая никто не беспокоил. Теперь, сразу после разговора с Екатериной, Николай собирал вещи, а злополучный мешочек с золотыми рублями жёг ему руки. Но помня о матери, сестре и брате, о долгой дороге, деньги не вернул, а отправился в расположение полка, чтобы окончательно получить увольнение.
Дорога пролетела в размышлениях о дальнейшей судьбе, а на душе было горько и пусто. Поначалу на каждом посту он ждал, что его задержат, но сия чаша его миновала. Так в раздумьях и тревогах добрался Николай Резанов до Петербурга, размышляя о том, как бы всё сложилось, не случись такой вот казус-конфуз.
В Санкт-Петербурге, прибыв в расположение полка, Николай получил скорый расчёт.
Писарь, с ехидцей поинтересовавшись:
− А куда теперь намерен направиться для службы? – выдал Николаю его документы и, несколько стушевавшись под тяжёлым взглядом упорно молчавшего поручика, передал наказ полкового командира зайти для последних наставлений.
Полковник Александр Михайлович Римский-Корсаков принял Резанова без задержки и, оглядев внимательно и критически молодого офицера, заговорил о возможных вариантах продолжения службы.
− Николай, есть потребность в молодых офицерах в действующей армии. В гвардии тебе теперь служить заказано, но я могу похлопотать, и тебя без понижения чина определят в пехотную часть.
− Это честь, Николай, для тебя, − продолжил, строго глядя на поручика, полковник, − искупишь проступок свой службой, отношение к тебе изменится. Там, глядишь, с повышением и в гвардию вернёшься. Со шведом мы пока замирились, да, думаю, ненадолго этот мир. Полны рвения наши северные соседи отвоевать потерянные рубежи, турки, сказывают, затевают очередную войну. Так что самое время начать службу на новом месте.
− Не сочтите за дерзость, но я хотел бы отказаться, Ваше Высокопревосходительство! Спасибо за Вашу заботу, но я решил идти теперь на службу гражданскую. Уж и предписание мне подготовили в Псков. А военная служба не для меня. В этой службе я не вижу для себя перспектив. А еще матушка на мне и младшие брат с сестрой, – ответил Николай, вдруг ощутив остро нежелание идти под огонь, ядра, пули и нести тяготы быта военного гарнизонного человека.
− Ну, знаешь Николай, после таких твоих проделок подобное предложение за честь нужно принимать. Я вот ради моего доброго отношения к твоему дядюшке только и решился похлопотать. Но как знаешь! На гражданскую службу решил? Что же, может и правильно! Ты, как мне показалось, более склонен к гражданской службе. Прощай! − закончил встречу полковой командир, несколько огорчённый не сложившимся разговором.
После отставки и последних хлопот перед отъездом Николай, собрав маму Александру Григорьевну, своих брата и сестру, направился в Псков, куда его определили по протекции брата отца служить в гражданский суд в чине коллежского асессора по восьмому разряду с годовым жалованьем всего-то в триста рублей. Близ Пскова было и имение генерала Окунева, деда Николая по матери, и это сулило какую-то финансовую поддержку.
Остаться в Петербурге Николаю было не дозволено.
По своему воинскому званию, которое при отставке соответствовало капитану, за принадлежность к гвардии и дворянскому сословию Резанов должен был получить назначение надворного советника по седьмому разряду с более высоким окладом. Но Николай понимал, что, провинился изрядно и придется терпеть какое-то время суровое обхождение, ибо взялась наказать его Матушка Екатерина за неблаговидный проступок.
Вот так, после взлёта и замаячивших впереди значительных перспектив своего положения, отправился Николай Резанов на исходный рубеж гражданской карьеры в провинциальный город, без каких-либо надежд на скорое возвращение в столицу.
Служба в Пскове потянулась чередой унылых дней и вечеров. После бурной гвардейской службы, молодецких гуляний и разборок, выходов в свет, романтики отношений с девушками из театрального балета и флирта с фрейлинами императрицы, весь быт провинциальной жизни умещался в скромный бюджет и сплошные ограничения.
Матушка Николая, дочь отставного генерала Окунева, оказавшись в сложной житейской ситуации, выбивалась из сил, стараясь без мужа поднять своих младших детей. Только помощь близких и спасала. Муж Александры Григорьевны, оказавшись в Иркутске председателем местного суда, оскандалился, уличённый в растрате денег, да так и сгинул без права покинуть должность и пределы города, не в состоянии ни вернуться назад, ни оказать должную помощь семье. Только изредка приходили письма от него и ещё − реже денежное довольствие. Доходили и слухи, сведения о которых Пётр Гаврилович сообщать не изволил, – сказывали, что опростоволосился дворянин Резанов в столице сибирского края, сойдясь с неграмотной простолюдинкой. Сказывали, что и дети у них народились в грехе. Но всё это были только слухи – как эхо минувшего, а побывать и узнать на месте, не было ни сил, ни возможности, ни желания. Так и жили супруги Резановы врозь, а дети росли без наставлений и какого-либо отцовского доброго напутствия.
II
В один из дней в канцелярию суда Пскова пришёл приказ. Асессора суда Николая Резанова вызывали в Санкт-Петербург с назначением в состав Санкт-Петербургской таможни. Резанов активно взялся за работу и, проявив способности, вскоре оказался в канцелярии вице-президента Адмиралтейств-коллегии графа Ивана Григорьевича Чернышева.
По прибытии в Петербург, быстро освоившись на месте службы, Николай, чуя прошлую вину, ревностно взялся за дела и вскоре, поддержанный графом Чернышевым, оказался на месте руководителя канцелярии, а затем скоро занял важный пост экзекутора коллегии.
Граф Чернышев был в курсе скандала с золотыми монетами при поездке в Крым, так как сам сопровождал в то время Екатерину, входил в её свиту и был в почёте у императрицы, а его заслуги отмечались ею регулярно.
При положительной аттестации и по рекомендации графа Чернышева, Николай Резанов скоро оказался на высокой должности правителя канцелярии Гавриила Романовича Державина, кабинет-секретаря Екатерины II.
Так, через несколько лет после известного конфуза, Николай Резанов вновь оказался рядом с Екатериной, сблизившись с императрицей на минимальную дистанцию. Гавриил Романович знал и ранее Николая Резанова, будучи в прекрасных отношениях с успешным братом отца Николая − Иваном Гавриловичем. Это знакомство, с одной стороны, можно было считать протекцией, а с другой, Державин знал о личных достоинствах Николая Резанова, особенно о его способностях в изучении иностранных языков. Николай, хотя и имел домашнее бессистемное образование, тем не менее вполне владел немецким, французским, английским и легко ориентировался в других языках, схватывая их на лету.
Судьба вновь сделала реверанс в сторону Резанова.
Теперь он регулярно встречался с императрицей, не подавая вида о более раннем их знакомстве, а помня горький урок, стремился держаться скромно. Николай увлечённо занимался делами, пропадая в канцелярии до ночи, разбирал бумаги, писал ответы и реляции, сортировал документы, выполнял личные поручения Гавриила Державина.
Сама Екатерина при первой их встрече после известных событий внимательно осмотрела Николая от лица в бесцветном парике до блестящих черных лакированных туфлей. Её одобрительная улыбка подтверждала, что он прощён, но прощение это − скорее аванс за дальнейшее безупречное служение.
− Как здоровье, голубчик? − отчего-то спросила его Екатерина, немного лукаво и в то же время с долей грусти.
Екатерина за те годы, пока они не виделись, изрядно располнела. Наряды скрывали умело, как это было ещё возможно, неуклюжесть и громоздкость фигуры, но вот лицо, прежде светлое и привлекательное, уже выдавало назревающее нездоровье.
− Я в полном здравии, Ваше Высочество! Готов служить Вам верою и правдой на благо России! − просто и стандартно, но с должным воодушевлением отрапортовал Резанов, чувствуя нарастающую неловкость и надеясь на скорое завершение разговора.
− Ну что же, − молодец! Браво выглядишь! Служи! Думаю, способностей твоих хватит. Да смотри, глупости обходи стороной. Они такие бывают зубатые…, − Екатерина сделала паузу и пристально глянула в глаза Николаю: − …и приставучие, − закончила Екатерина и, отвернувшись, как показалось, с некоторым разочарованием от Резанова, медленно и уже без всякой грации, вдруг отяжелев, пошла далее.
Гавриила Державин, сам в прошлом гвардейский офицер, позднее наместник Олонецкого и Тамбовского краев, а ныне зрелый, в почтенных, но еще активных годах царедворец пользовался доверием Екатерины и особенно выделялся ею за талант стихотворца и оды в её честь. Литераторство было главным и любимым делом Гавриила Романовича в жизни, который, впрочем, успешно сочетал службу и литературные труды. При этом второе его занятие вполне успешно помогало в карьерных делах.
Гавриил Романович быстро оценил деловые способности Николая, его сообразительность, знание языков и доверял ему вести сложные дела и доклады Екатерине, которые он сам делать не любил. Его природная язвительность и дурной нрав неуживчивого спорщика иногда приводили к раздражению Екатерины. Скоро Державин заметил интерес императрицы к секретарю и стал засылать Николая к ней по каждому поводу, что, как показала практика, способствовало более успешному прохождению дел.
В беседах между Николаем Резановым и Гавриилом Державиным частенько возникала тема Екатерины, которую сам Гавриил Романович знал многие годы. Ещё на службе в Преображенском полку вместе с братьями Орловыми он принимал активное участие в перевороте по свержению императора Петра III и утверждению на престоле российском Екатерины II.
На его глазах молодая императрица делала первые свои шаги монарха, обретала опыт и мудрость, став достаточно скоро из Екатерины Алексеевны Екатериной Великой. Рассуждая о Екатерине, не обходили по-мужски и её шалости с гвардейцами, и роли фаворитов в жизни императрицы и России.
По этому поводу Гавриила Романович рассуждал, как знаток истории и всяческой мифологии, выстроив свою любопытнейшую иллюстрацию всего, что было связано с любовными утехами Екатерины.
Со слов Державина Екатерина интуитивно исполняет роль Великой Богини, которая снесла Золотое Яйцо − Вселенную, роль этакой Мировой курицы.
− Эта роль очень подходит к нашей матушке Екатерине, которая готова давать жизнь всему сущему, оберегает и плодоносит. Эти представления тянутся еще от эпохи матриархата, − начал свой рассказ Гавриила Романович.
Державин сделал паузу, задумался, живо представляя события и людей той далекой эпохи, и продолжил:
− Мужчины племени боялись своего матриарха, поклонялись ей. Очаг, за которым она следила в пещере или хижине, являлся самым древним и естественным центром бытия, а материнство считалось главным таинством. Заметь, от слова «очаг» − очи, то есть глаза. А глаза, как известно, зеркало души. В очаге священный огонь-крес, дарящий тепло и уют, пищу и устойчивое чувство рода, крова, семьи − защиты от внешнего мира. Таинство огня, его хранения тоже были частью божественного тайного ритуала, который хранила правительница клана − Мать племени.
А вот по мере того, как стало понятно, что соитие и есть причина рождения детей, Мать племени выбирала себе возлюбленного из числа юношей, состоящих в свите, а когда истекал срок, рожала от него ребёнка, а отец ребёнка приносился в жертву. Так вот определялся срок жизни избранника − от его выбора Матерью племени до рождения дитятко.
В русской мифологии образ такой Матери племени, или Великой богини, отражён в образе, ты думаешь, кого? Бабы-Яги. Да, да, Николаша, Бабы-Яги. Вспомни, когда к ней к её избушке приходит юноша и говорит: «Повернись, избушка, ко мне передом…, а к лесу задом» …, − что показывает готовность вступить с избранным Богиней юношей в связь, после чего, как известно, следовала смерть избранника. А весь смысл и оригинальность сказания часто заключаются в том, удалось ли юноше избежать гибели и как-то прельстить или обмануть Богиню. А вот перемена Богини в Ягу произошла в те времена, когда закончился матриархат и образ Великой Богини потерял магию и привлекательность.
Такой вот образ Великой Богини очень подходит нашей матушке Екатерине. Теперь она уже вовсе не молода, беззуба и седа, так ещё больше из-за этого подходит этот образ для неё. Только ступы да метлы у неё вот нет, так она иначе обходится. Летает Воля её над государством российским в виде разумных указов и ответственных исполнителей их.
− А то, что молоденьких мужичков любит, и ты этого не миновал, − Гавриила Романович лукаво прищурился, примолк, оглядывая Николая, а убедившись, по мимолётному смущению Резанова, что его последние слова попали в нужную точку, продолжил: − так это только вписывается в концепцию Великой Богини. Но она поступает, знаешь, в данном случае помудрее. Не приносит, условно говоря, в жертву своих избранников, а образовывает, испытывает, а тех, кто эти испытания и науку прошёл успешно, к делам государственным пристраивает, даёт возможность послужить, себя на службе на благо Отечества реализовать. И бывает от этого толк. Вот, возьми тех же братьев Орловых или Потёмкина! Делами большими славны эти герои на благо Отечества!
− Что же касается тебя, ты сейчас, похоже, проходишь этап проверки и испытаний. Вот гляжу я на тебя и думаю − для больших дел наметила тебя матушка наша. Будь готов, только смотри, конкурентов на это сокровенное место много имеется. Вот думаю, что та история неприятная в поездке с монетами, что с тобой приключилась, возможно, кем-то умно придумана и умело реализована. А в итоге тебя удалось от Екатерины устранить. Вот так! − закончил свой монолог поэт и выдумщик Гавриил Романович.
Слова Державина стали пророческими. Уже скоро Николай уловил возрастающий интерес Екатерины к себе и ревнивые взгляды нынешнего фаворита Платона Зубова, который при встрече с ним отводил глаза и деланно строго и подчёркнуто формально общался с Николаем. Ощущалось растущее недовольство и раздражение Платона Зубова Резановым, и было понятно, что зреет решение, как это недовольство извести, устранив Резанова от императрицы. И вскоре такое решение Платоном Зубовым, видимо, было найдено.
Разговор завела с ним сама Екатерина, спросив Николая:
− А верно ли говорят, у тебя отец служит в Иркутске?
− Да, Ваше Величество! Уже много лет как в Сибири проживает, − служит в суде, ответил Екатерине Николай.
− Докладывали, что в растрате денег он обвиняется. Сумма-то смехотворная, но важен сам прецедент. Неприятная история. Я сказала Платону, чтобы сняли эту проблему. Если хочет, пусть вернётся к семье, − продолжила Екатерина.
Сделав вступление, Екатерина перешла к главному:
− Было обращение от купечества иркутского, промышляющего на берегах Америки. Просят государственной поддержки, сулят высокие доходы и новые земли, освоенные к короне нашей добавить. Но мы пока решения не приняли.
Нужно инспекцию им учинить, чтобы и законность соблюдали, и в казну платили исправно и честно. А ещё важно всё изучить на предмет сношений с иностранными государствами в этом краю света. Ты бы мог за это многотрудное дело взяться, голубчик? Вот Платон Александрович тебя настоятельно рекомендует отправить с миссией в Иркутск. Нечасто он дельные советы даёт, а этот, думаю, вполне хорош. По возвращении из Иркутска, при должной расторопности и усердии, думаю, твой путь в делах государственных будет нами освящён. И отцу добрую весть принесёшь, что закрыли дело на него о растрате.
− Почту за честь, Ваше Высочество! − смог только это и ответить Николай Резанов, понимая, что жизнь закладывает новый крутой вираж и устоять на этом зигзаге судьбы будет не просто.
Здесь, в Санкт-Петербурге, для него наметился тупик активной и успешной жизни, вызванный раздражением фаворита, а поездка в Сибирь была более всего похожа на ссылку.
Опасаясь внимания стареющей Екатерины и боясь навлечь на себя гнев могущественного фаворита, Николай желал тем не менее активной и продуктивной деятельности и был готов к ней. Теперь оставалась одна надежда, что новые перспективы в карьере могут случиться уже после его успешной поездки в Сибирь.
Вернувшись вечером домой, Николай рассказал домашним о решении отправить его в Сибирь, в Иркутск, где он увидит отца. Мама сокрушённо повздыхала и благословила сына, подумав, что эта проклятущая Сибирь забрала у неё мужа, а теперь забирает и сына.
А Николай собрал друзей и, сообщив о решительном изменении в своей жизни, устроил шумную пирушку, после которой дальнейший его жизненный путь хоть и не прояснился, но и не выглядел таким уж пугающим.
III
В Иркутск Николай Резанов отправился в 1794 году по зимнику, сразу после Нового года в составе миссии архимандрита Иоасафа, направленного в Русскую Америку на остров Кадьяк для налаживания работы церковных приходов и церковно-приходских школ в русской колонии, рассчитывая прибыть в город весной ещё до наступления распутицы.
Утомительная дорога в компании церковнослужителей и служивых людей заняла почти три месяца.
Двигаясь на восток, Резанов думал о событиях своей жизни, об оставленных в Пскове матери, брате и сестре, о Екатерине и отце, которого он, после столь долгого перерыва, сможет увидеть в Иркутске. Чувств к отцу не было, всё же период жизни без него был слишком велик, а обида за матушку теребила сердце.
В размышлениях долгой дороги невольно подумалось:
− Как всё-таки велика Россия.
Достигнув Волги и Казани − в прошлом столицы татарского ханства − подумалось об истоках дворянского рода Резановых, о своем прапрадеде, татарском беке Мурат Демир Реза, который более двух столетий назад, ощутив растущую силу московского княжества, перешёл на службу к московскому царю и переменил веру, перебравшись из Поволжья в Москву.
− Вот, такова наша Россия. Голова в Европе, тело в Азии, а сердце бьётся где-то между, порой не зная, в чём предназначение. Гремучая смесь европейской утончённости дворцовой элиты и сыромятной плоти, исподнего белья азиатского величия − территориального и духовного. Как странно чувствовать себя после прочтения Вольтера и Руссо посреди бескрайней снежной равнины, в которой жизнь человека и животного совершенно равнозначны, а уют и удобство сих мест на уровне продуваемого ветром сортира. Только топот копыт бесчисленных орд до сих пор колыхали эти просторы и сотрясали землю.
− «Вот такая вот, Николаша, сатира», − съязвил бы Державин по поводу упомянутого сортира, который сам, будучи потомком казанского мурзы Багрима и прапрадеда Державы, остро ощущал свою личную роль и влиятельность других инородцев, которые своей плотью, разумом и энергией плавили и плавились, и превращали этот народ в новый, невиданный ранее этнос.
− «Мы, европейский как будто народ», − продолжал заочный спор Гавриила Державин, − «но я, как и ты, Николай, по крови своих предков татар, кочевников-степняков, – поросль буйной Великой степи, огромного азиатского континента. И вот мы здесь, в этих правительственных палатах да дворцах, служим нашей Императрице. Что мы за народ? Правит нами воспитанная католичкой немка. На службе каждый второй то ли немец, то ли француз или голландец. Вера у нас православная, а глаза у многих ещё несколько раскосые, а в сердце вера в величие этой огромной территории по прозванию «Россия». Как так может быть, и к чему мы стремимся, и что создаём? Думаю над этим всю жизнь и считаю, что именно так и должно быть, ибо строим колосса по прозванию Российская Империя, продолжая дело Великого Петра. Но с какого-то момента я стал понимать и другое, то, что Империя Петра − это только вывеска. Страна же живет по своей, только ей ведомой программе, своему коду, разливаясь по миру обильным половодьем, становясь пристанищем народов на огромных промороженных просторах, разбросанных во все края из-за суровости климата, скудности рациона и трудностей быта, часто жестоких указов, дурости и алчности знати. Тем не менее, как магнитом, несмотря на определенное сопротивление, тянет Россия в себя народы.
В чем закон притяжения?
В терпимости народа, места, которого всегда хватало на этих просторах? В терпимости и добродушии, в воспитанном веками понимании, что выживать можно только общими усилиями».
Так Гавриила Державин, потомок татарского мурзы, фанатичного проповедника ислама, ощущал себя не просто русским, а человеком, глубоко понимающим мелодию и тонкие смыслы языка, впитав с детских лет историю своего народа, его культуру.
Таким вот образом мог размышлять Николай Резанов, впитывая просторы великого пути через заснеженные равнины, вспоминая своего наставника Державина, который умел заинтересовать молодого человека своими мыслями.
Так добрались, сминая снег и пересекая реки до Камня-Урала, и, обойдя горы с севера, достигли Тобольска, вступили на землю далёкой Сибири, отдохнули в Тобольске, поспешили через Томск и Красноярск к Иркутску.
В марте, уже по раскисающим под активным дневным весенним солнцем дорогам, Николай Резанов въехал с Московского тракта в город, едва успев пересечь Иркут, а затем и Ангару, по зыбкой, уже ледовой переправе Троицкого перевоза, оценив размах и мощь реки, несущей дыхание Байкала. Перевоз связывал городское предместье Глазково с центром города, и на берегу уже возились перевозчики, смоля свои баркасы, − готовились к скорому ледоходу и новой навигации.
На время зыбкого льда переправы и ледохода город распадался на пару недель, сообщение с центром города нарушалось, и в Глазково копились депеши с тяжёлыми сургучными печатями для губернатора, попавшие в переплёт путешественники и служивые люди. Но как-то из положения выходили, стараясь наморозить переправу за зиму так, чтобы служила до первого могучего вздоха набухающей по весне реки. С этой целью, особенно в тёплую зиму, хлопотали на переправе городские пожарные с бочками и помпами, качали ангарскую воду на ветшавшую ледовую дорогу.
Сразу за рекой обоз оказался в городе, преимущественно деревянном, с резными наличниками и высоченными деревянными воротами. Из-за распутицы город казался ещё более неухоженным, обветшалым и неудобным. Радовали стройностью и яркостью храмы города, возвышающиеся над низкорослой убогостью основной части домов и строений. Вдоль Ангары и в центре города было уже достаточно каменных зданий, но в основном город был деревянным. Город насчитывал более тридцати тысяч жителей и более десятка тысяч дворов и домов, связанных в центре города деревянными тротуарами вдоль улиц.
Вскоре подъехали к дому отца Николая − Петра Гавриловича, и вся дворовая команда выбежала встречать молодого барина. Среди встречающих Резанов отметил молодую ещё, но увядшую лицом женщину из простолюдья, с острым любопытством рассматривающую прибывших, и жмущихся к ней детей − мальчика и девочку, столь похожих, что было ясно, что это брат и сестра, видимо, погодки. И что особенно привлекло внимание Резанова к ним, так это сходство детишек с его младшими братом и сестрой. Николай не сразу догадался, что это дети здешней сибирской семьи его отца, а когда пришла догадка, с улыбкой стал рассматривать детей. Женщина смутилась и увела детей во двор, напоследок оглянувшись и ещё раз с интересом оглядев Резанова.
Отец сильно постарел, ссутулился, почти совсем обеззубел и выглядел ветхим и потерянным. В разговоре поделился о свалившейся на него напасти, что с ним приключилась здесь, − о расследовании пропажи денег, которые потом как бы нашлись, но оставили след на его репутации, а дело до сих пор не закрыли. Николай обрадовал отца, показав ему распоряжение из столицы о закрытии расследования пропажи денег.
В тот же день по прибытии в дом отца пришел посыльный от Георгия Ивановича Шелихова. Раскосый молодец в забавном треухе сообщил о желании купцов-компаньонов встретиться по решению деловых вопросов и передал официальное приглашение от самого Георгия Ивановича быть у него завтра к обеду.
А на следующий день с утра, приведя себя в порядок с дороги, Николай Резанов отправился в резиденцию генерал-губернатора, где после доклада сразу оказался в кабинете высокого чиновника.
Иван Пиль происходил из шведских дворян и был хорошо аттестован Екатериной перед поездкой. Преклонных уже лет губернатор правил с 1788 года Иркутским и Колыванским наместничествами твёрдой рукой и вполне разумно. При Пиле в городе появилась судостроительная верфь, два учебных заведения: развивался как город, так и производство. Губернатор вполне ладил с купцами, находил у них понимание в стремлении развивать торговые отношения с Китаем и Японией.
Кабинет губернатора не отличался роскошью, а сам генерал-поручик в полевом мундире за большим столом тёмного дерева выглядел буднично и деловито. Выйдя из-за стола навстречу петербургскому чиновнику, Иван Альфредович, разглаживая усы, приветливо улыбался и, приобняв посланца императрицы, доброжелательно похлопал его по плечу.
Николай Резанов в ответ раскланялся и вручил губернатору именные депеши, касающиеся деятельности иркутских купцов компании Голикова-Шелихова, предприятие которых, собственно, и следовало ему проинспектировать.
− Наслышаны мы о Вашем приезде. Курьеры уж месяц как доставили рескрипт из столицы о Вашей поездке. Очень рад, что не забывает Её Величество о наших проблемах. Требуется высочайшее участие в деле развития торговли и купеческих промыслов на Камчатке и в Америке. Мы все надеемся, что Вам удастся составить полное и объективное впечатление о состоянии дел купеческих и донести до Её Величества всю значимость этого дела. Мы рассчитываем на Вас, Николай Петрович, − получив от Резанова документы, поприветствовал посланника губернатор.
− И я наслышан о Вашей здесь активной и плодовитой деятельности, уважаемый Иван Альфредович. Сегодня уже встречаюсь с Шелиховым и купцами и думаю, всё исполним с пользой для дела развития купеческого промысла и на благо России, – поддержал дружелюбный и простой, без официальностей, вариант общения Резанов.
− Посмотрите город. После Санкт-Петербурга он покажется убогим и ветхим, но мы стараемся. Вот недавно новый Богоявленский собор открыли, улицы мостим понемногу, а на триумфальной арке при въезде в город герб города, императрицей нашей утверждённый, вывесили. Обратили внимание? − продолжил «раскланиваться» губернатор перед высоким гостем.
− Да, внимание обратил. Только вот до конца не понял, что за зверь держит в зубах соболя или куницу? Сказывали, бабр…, я такого зверя не знаю. Местный какой?
− Вы точно подмечаете, Николай Петрович, наши особенности! Бабр − это тигр по-якутски, который, сказывают, обитал и в здешних краях, − ответил, хитро улыбнувшись, губернатор.
− Позвольте, Иван Альфредович, я тигра себе иначе представлял, − разыграв удивление, ответил Резанов и продолжил, улыбаясь, − у тигра и хвост не такой широкий, и лапы без перепонок, и окрас, насколько я знаю, в полоску. Я, знаете, внимательно смотрел − на лапах когти и перепонки, как у водоплавающего зверя, а хвост, как у белки, широкий.
− Это можно назвать курьёзом, который, впрочем, уже стал иркутской историей и достопримечательностью.
А дело было так.
Отправили в столицу описание герба с указанием, что бабр держит в зубах соболя, а местные писари…, о, Господи! Сколько от этого сонного сословия приходится терпеть! − воскликнул губернатор, − слово «бабр» по незнанию обозначили как «бобр». А столичный художник так и нарисовал герб по описанию: то ли бобра изобразил, то ли неведомого миру зверя, ибо на тигра этот зверь точно не похож. На моё мнение так, что не похож он и на бобра. А уж после утверждения изображения герба что-то в нём менять не решились. Вот так и вышло − как бы бабр, но то ли тигр, то ли какой другой страшный зверь.
− Да, странная вышла история. Но она вполне наша − российская. Столько нелепиц порой происходит. Вот сказывали, как-то писари кляксу выводили в списках полка на награждение и вписали по ошибке нелепую фамилию человека, который в полку не служил вовсе. Фамилия эта – Киже, что изначально должно было означать: «Иже с ним», то есть и другие по списку также. Так знаете?! Не только наградили новоявленного Киже, так ещё и к следующему чину его представили. А как стали искать − найти не могут молодца! Нет такого человека! Давай рядить, куда награду девать и чин новый, − с улыбкой рассказал известную в армейских кругах историю Николай Резанов.
− Вот как! Забавно! Бумага всё стерпит, и сказано верно: «То, что написано на бумаге, топором не вырубить», − поддержал тему губернатор и продолжил:
− Остановились-то у отца? Хорошо, что закрыли дело о растрате денег. Сумма там небольшая, и как он так неаккуратно всё сделал, что всплыло и пошло гулять по судам и канцеляриям. Он уж и деньги вернул потраченные, а бумаги так и ходили без конца. Ну, теперь будет у него право вернуться к семье, − сменил тему разговора губернатор.
− Разрешите откланяться, Иван Альфредович, сегодня у меня ещё встреча с купцами. Нужно идти, − стал прощаться Николай Резанов, отметив, что взгляд Пиля, после слов об отце, в его сторону стал как будто более пристальным и колючим.
− Знает, видимо, об истории с монетами, приключившейся со мной, − мелькнула мысль в голове посланника.
От этого на душе стало неспокойно.
Губернатор, тем не менее, закивал головой, давая согласие на окончание встречи.
Николай встал и, откланявшись, вышел.
Обед у Шелихова выдался знатным. Собрались все компаньоны хозяина в делах торговых, коих было человек десять, а встречала гостей хозяйка Наталья Алексеевна, молодая ещё, свежая, с восточной яркостью во внешности. Ходили слухи, что бабка Натальи происхождением была из Страны Утренней Свежести − Кореи − и жила то ли у курильских айнов, то ли у гиляков пленницей. Айнов русские купцы прозывали «лохматыми» из-за характерных неухоженных, богатых растительностью голов и мнения, что всё тело у них также покрыто густой шерстью.
От лохматых-айнов Натальина бабушка была вывезена Никифором Трапезниковым и стала женой сибирского купца. Наталья от бабушки унаследовала немного раскосые тёмные глаза, восточный овал лица и смоляные густые косы.
Стол отличало изобилие сибирских продуктов: тут и разная байкальская рыба − сиг да нежный омуль с осетром во главе, и соления-копчения, и всяческая иная стряпня – пироги да расстегаи.
К гостям вышли и две дочери Шелиховых.
Сразу с маменькой к гостям вышла неполных пятнадцати лет Анна, что была постарше, а потом, припоздавши, запыхавшаяся – видимо, шибко бежала-торопилась, Евдокия, ещё более юная тринадцатилетняя кокетка с ярким, совсем ещё детским личиком, румяная и быстрая.
Аннушка была славной и любимой дочерью, воспитанной в строгости под неустанным внимательным контролем маменьки. Она знала правила ведения домашнего хозяйства, была грамотна в меру, свято верила в бога и в своих родителей. Красотой её природа не обидела: русская классическая красота в ней сочеталась с некоторым восточным намёком на тайну происхождения кровей шелиховских детишек.
Анна, несмотря на ранние свои года, уже невестилась. Голубоглазая и русоголовая русская сибирская красавица, юная ещё совсем, только входившая в дивную девическую пору, когда грудь при волнении теснится и вздымается, распирает растущее чувство грядущего материнства и от того влечет за собой страстное томление и желание неизведанного, непонятного, ради которого хочется страдать и умереть даже. Влечёт образ милого и ласкового участия в девичьей доле, которая пока весела-беспечна и одновременно полна грусти, скрытна и в то же время открыта всем взорам, и от того хочется поминутно то бежать, раскинув руки, и просто радоваться миру, то тихонечко сидеть у окна, томиться, ожидая неведомо-увлекаемого изменения в девической судьбе.
Поведение при гостях выдавало в Анне тщательную подготовительную работу, проведённую под руководством матери: заученные степенность, неторопливость суждений, кроткий взгляд, глаза, опущенные долу.
Но при этом взгляд синих глаз, брошенный на гостей как бы случайно, лёгкая улыбка на ярко очерченных полных губах, пригожее без румян лицо, длинная русая коса создавали образ вполне законченный, но в то же время такой юный, свежий, наивный, такой заманчивый, что гости, глядя на Анну, всегда улыбались, радуясь удаче видеть такую девушку в нарядах, во всей её замечательной привлекательности.
Анна поняла, что неспроста её маменька нынче вывела на люди, и тихонечко сидела за столом, робко и совсем мало кушала, изредка поглядывая на приезжего гостя из самой столицы. Думала ли она, что пройдёт всего несколько недель, и она уже в своих мечтах будет только с ним, с этим взрослым, исполненным достоинства строгим кавалером, который совсем не походил на здешних парней и мужчин.
Николай сразу почувствовал, что он сегодня объект повышенного внимания не только как посланник и инспектор императрицы, но и как потенциальный жених. Было несколько странно представить в роли невесты юную Анну, всё же она ещё только входила в пору своего девичества, но он знал, что нравы в среде купцов проще и рациональнее светских, а дочерей старались отдать с выгодою для семьи пораньше − как только появлялся достойный жених. И, слава, Богу, если жених находился по летам ещё не старый. А то могли отдать и за старика, торопясь оформить брак как выгодную сделку посноровистее, чтобы можно было извлечь из брачного союза новые для дела и семьи преимущества.
Девка-доченька в семье − товар, а коли уж и красива, да пригожа, и умненькая − товар высоких качеств.
Сын − верный помощник и наследник дел купеческих.
Так вот сложилось, так и распоряжались по жизни спокон веку.
IV
Маменька Анны, Наталья Алексеевна слыла деятельной хозяйкой, порой на равных с мужем вершившей купеческие дела в компании.
В своей ранней молодости, приученная еще дедом своим, купцом Никифором Трапезниковым, к дальним поездкам, рисковым делам, которые часто приходилось вести с полудикими людьми, она побывала на дальних таёжных промыслах на берегу океана, сопровождая мужа, сплавлялась по рекам и знала мощь и безграничные размеры океана. Вот в такой, первой тогда поездке и понесла Наталья первенца – Анну − и вернулась домой, в их новый, выстроенный после венчания дом, уже с писклявым кулёчком. По рождению детей прыть энергичной хозяйки поубавилась. Она перестала выезжать на дальние рубежи, верша дела в отсутствие мужа решительно и грамотно, не боясь споров и противостояния с компаньонами и клиентами. И теперь, мгновенно оценив столичного гостя, его потенциал для роста их купеческого дела, она в первый же вечер после знакомства с Резановым предложила мужу подумать о том, чтобы выдать юную доченьку замуж за тридцатилетнего чиновника из Санкт-Петербурга.
− Ну как же, Наташенька, мала ещё Анна, − попытался возразить Григорий Иванович, ревностно подумав о мужчине в жизни его, такой ещё юной и любимой Анечки.
− Вот так всегда! Рано, рано, а потом − раз, и уже поздно будет! И потом! Где мы тут найдём ей достойного жениха, чтобы и нашему делу был помощник?! А коли затянем, то она сама начнёт себе искать суженого. А как найдёт, то и вовсе не обрадуешься.
Григорий Иванович отмалчивался.
− Девка она хоть и послушная, но себе на уме − своевольная. В кого это она такая? − продолжала натиск Наталья Алексеевна, вспоминая себя в том девическом возрасте, когда уже невтерпёж, и готова была уже из юбки выпрыгнуть, чтобы сразу из девки стать бабою.
При этом претендентов на помощь в осуществлении такого качественного перехода из девки в бабу всегда хватает. Только вот если хватало умишка сдержаться и дождаться суженого, тогда и толк бывал в делах этих сугубо личных.
Глядя на свою, так, казалось, нежданно повзрослевшую дочь, – красавицу Анну, Наталья Алексеевна вспомнила себя и тот сладкий, а порой мучительный процесс женского взросления, что ждёт каждую, кто путается в собственной юбке, завлекая со временем в эту путаницу парней и мужиков.
Вот тут-то и встаёт вопрос, с кем повестись и кто для этой затеи сгодится, чтобы не было потом мучительно и даже горько.
Когда-то и Наталье Алексеевне пришлось, будучи юной на выданье девицею, решать такую задачу.
С одной стороны, милёнок − паренёк, чуть постарше самой пятнадцатилетней Натальи, что за ней хаживал, не давал проходу, всё норовил повстречать её в проулке да прижать поплотнее к забору, растревожить девичью плоть, а по субботам, в банный день, караулил на заднем дворе, чтобы через тусклое слюдяное оконце разглядеть запретные Натальины прелести.
С другой-то стороны, видно было, конечно, что пустозвон и голытьба этот настырный милёнок, который прижимался к пылающему лицу Натальи холодным своим веснушчатым носом, слюнявил её, неумело пытаясь поцеловать. Но сердечко Наташкино молчало, плоть была глуха к навязчивому обхаживанию и горячему взволнованному дыханию.
− Гол, как тёсаный кол, и подпоясан глупостью, − подвёл итог наставлениям дед Натальи Никифор, дав краткую характеристику Наташкиному ухажёру.
Дедушка Никифор Трапезников ей всё на Алексея Гуляева показывал. Тот, конечно, не красавец, в годах уже мужик и рябоват, да дело знал.
− С лица воды не пить, − не унимался дед Никифор, раз за разом привечая Алексея и подталкивая к нему внучку. Боялся старый, что вот-вот уйдёт из жизни, а Наташа останется одинёшенька.
А Гуляев, сноровистый мужик, всё мотался в Троицкосавск, небольшой, но богатый купеческий городок на границе с Китаем, известный обширным чайным Кяхтинским рынком, промежуточным пунктом Великого чайного пути из Китая в Европу. Через Троицкосавск Гуляев продвигал торговлю китайскими товарами, среди которых были чай, всякие специи, ткани, лекарства, и обменивал это добро на меха и кожи, добытые промысловиками в сибирской тайге и на дальних промыслах на Камчатке и в Америке.
Вот когда умишком-то Наташа раскидывала, отстранив от выбора песню сердца, оставалось за купца Алексея Гуляева идти и следовало. Купец старше её, конечно, но сильный, быстрый да удачливый, и было сразу видно − с перспективой купец.
Так и сладилось после долгих и мучительных сомнений.
Сосватали Наталью и оженили молодых под золотым куполом поздней осени.
Под венец Наташа шагнула девственницей, практически не целованной, если не вспоминать неуклюжие лобызания юного ухажёра.
Первая брачная ночь и увлекала, и пугала её.
Бодрясь поначалу, в круговерти сватовства, подготовки к венчанию и свадьбе не особо думала о грядущем изменении своего женского статуса. Но в день свадьбы, впервые неловко и неумело поцеловавшись с мужем при венчании, вдруг поняла, что вовсе не увлечена им, а как бы напротив − неприятен ей суженый.
Но первая ночь в замужестве настала и навалилась тьма, а с ней и жаркое сопение и дыхание, жёсткие грубые пальцы мужа, что взялись теребить настойчиво и неласково юное тело, сдавливать бугрившиеся девичьи груди и гладкий, выпуклый слегка живот и его низ. Наталья стонала от пронзившей её боли, было неприятно, стыдно и гадко. Ей казалось, что её за что-то хлещут плетьми прилюдно. Всплыло в памяти вдруг воспоминание о том, как однажды, девочкой ещё, она взялась неловко доить корову, но, едва приступив к подёргиванию вымени, получила хлёсткий удар жёстким упругим хвостом по животу, ногам и спине. Наказав неумелую доярку, корова ударила ногой по ведру, сведя на нет все усилия и давая понять, что в молоке этой несноровистой неумехе отказано. Горячее ещё молоко расплескалось, окатив Наталью и грязный пол белым пенным покрывалом.
Сейчас было так же, как в ту нелепую дойку, больно, неловко, мокро-липко и гадко. Тело содрогалось и каменело, не воспринимая грубых ласк нелюбимого мужа.
Мучительная ночь закончилась, а светлого чуда, о котором втайне мечталось, не случилось.
Рано поутру, поднявшись с постели, на которой, утопая в перине, раскинулся и похрапывал непринятый её плотью человек, убрав косу на голове в тугой калач, Наталья начала жизнь в замужестве, смиренно принимая душевные и физические тяготы ночи и труды дня.
Мирило с тем, как сложилась её бабья жизнь, то, что нелюбимый муж часто уезжал, и тогда, освободившись от него на время, молодая жена отдыхала и с тревогой ждала его возвращения.
С замужеством Натальи сошлись торговые дела Трапезникова, старого уже и уставшего от дел хлопотливых, и Гуляева − молодого ещё, крепкого да энергичного. Воспринял советы, подхватил идеи старого купца Алексей Гуляев, и дела пошли ещё шибче в гору.
Но судьба распорядилась как всегда по-своему.
Не вернулся Алексей Гуляев практически сразу после свадьбы из поездки в Кяхту по льду Байкала. Дорога пролегала по льду Ангары, а там ещё полсотни вёрст по озеру до Танхоя и вдоль берега до Посольска. А потом тайгою да редколесьем до самого Троицкосавска. Всего-то вёрст четыреста зимней дороги: за три-четыре дня управлялись обычно. Дорога по льду быстрая была, да опасная, особенно по весне, когда и многочисленные проталины нерпичьи появлялись, и трещины через Байкал вырастали.
Вскоре разузнали, и очевидцы как будто нашлись: то ли убили муженька и его помощников беглые каторжники-варнаки в сибирской тайге, перехватив с товаром и деньгами прямо на тракте у Кяхты, то ли сбились они с пути в метель на Байкале, да и попали в трещину или проталину нерпичью, припорошенную снежком.
Сгинул, как будто и не было человека.
После гибели мужа Наташа на людях демонстрировала горе и сама поверила, что потеря так велика.
Но сердце девичье живуче. Вот кажется, горюшко жгучее зимою лютою пришло, а по весне всё как будто начинает цвести, жизнь обещает новые плоды и сердечко девичье перерождается для новых чувств и испытаний сердечных.
В один из весенних дней разглядела Наталья приказчика купца Ивана Голикова − Григория Шелихова.
Глянулся ей мужичок, хотя раньше как-то и не замечала его. Видимо, время пришло и сердечко приветило суженого, да и дело, оставленное покойным мужем, требовало пригляда и управления. Самой-то многое удавалось уже тогда, в младые годы, но всё же не бабье это занятие −с хитрющими и всё норовящими вокруг пальца обвести купцами и промысловиками дело иметь. Да и, что греха таить, многие стараются поначалу под юбку забраться, как стала она вдовою, и только получив по роже увесистой Наташиной ладошкою, приступали к деловому разговору. Так и ходила первое время молодая вдова с горящей алым от пощёчин ладонью и такого же цвета ушами: не добром поминали тогда её многие. Но назад возвращать затрещину, и тем более мстить, не решались − боялись скорого на расправу деда Никифора Трапезникова.
