Посланник
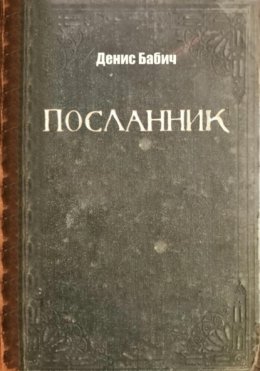
Пролог
Министр стоял перед серой металлической дверью, изъеденную пятнами ржавчины, пробивающимися сквозь облезлую краску. Он, человек, обличенный высшей властью, пришел сюда пешком, отпустив водителя и проделав путь от министерства до Парка Культуры на метро – таковы были условия. Метро поразило его обилием мигрантов и милиционеров. Он не спускался в Московское подземелье лет пятнадцать. Он даже не знал, существует ли оно или отменено каким-нибудь распоряжением. Он был слегка удивлён, что жизнь в Москве кипит, людишки радуются и размножаются.
Остоженка была совсем другой, нежели из окна его бронированного Мерседеса. Красивее. Он невольно возмутился общедоступностью её великолепия. «Как-то неправильно, – подумал он, глядя на улыбающихся прохожих, – надо поставить турникеты». Обилие платных парковок вдоль дороги не облегчило его моральных страданий. Вдыхая полной грудью густой аромат придорожной самсы и раскалённого асфальта, он миновал сквер института иностранных языков и свернул в один из самых дорогих переулков Москвы, где и ждала его неприметная серая дверь.
Сколько раз он мысленно разворачивался и покидал это страшное место. Но виртуальный демарш длился не более секунды. Уйти он не мог. Уход был хуже смерти. Министр протянул холодную руку к кнопке домофона. Он знал, что звонок в дверь – формальность: дверь просматривается с нескольких точек, и тот, кто находится за ней, давно наблюдает за посетителем через видеокамеры с функцией интеллектуального контроля. Такие камеры, считывающие намерения человека по состоянию зрачков и движению мимических мышц, были разработаны российскими учёными на секретном немецком предприятии под Можайском в далёких 2000-х и использовались лишь на нескольких объектах по всему миру.
Щелкнул электрический замок. Министр потянул тяжелую дверь на себя и оказался в палисаднике. Москва за последние тридцать лет полностью поменяла свой облик, а в этом палисаднике, скудно обсаженном нарциссами и колючими розовыми кустами, время как будто замерло, остановив свой ход где-то в середине девяностых годов прошлого века.
Министр отсчитал пятнадцать шагов. Справа в стене девятиэтажного жилого дома была еще одна дверь. Всегда открытая. Министр миновал небольшой тёмный коридор и прошел в уютную прихожую, освещённую мягким жёлтым светом. Старый дубовый паркет скрипел под ногами, хрустальная люстра тихо пела, разбуженная сквозняком. Одна деталь разрушала эту тёплую домашнюю атмосферу – стойка рецепции. Преграждая путь, она напоминала, что здесь – офисное помещение. Раскрытый журнал учёта и недопитая чашка кофе наводили на мысль, что прелестная секретарша в облегающей юбке, а может быть суровый мужчина в военной форме с золотыми погонами в спешке оставили свое рабочее место за секунду до прихода гостя.
Министр осмотрелся. В который раз он удивился многолетнему постоянству интерьера. Направо от рецепции, в просторной комнате с большим окном, занавешенным неизменной светло-коричневой шторой, на антикварном столике стоял подсвеченный фиолетовой лампой огромный аквариум. Между окном и книжным шкафом колосился фикус в зелёном горшке. Судя по шуршанию бумаги и щелканью клавиатуры, в комнате работали люди, но министр никогда их не видел. От своего предшественника он получил чёткое предписание – от стойки рецепции повернуть налево. Там, в небольшой нише, располагался кабинет, где за полукруглым офисным столом сидел человек. Его министр тоже никогда не видел. Тусклое освещение позволяло разглядеть лишь силуэт.
Из уст этого человека министр вот уже семь лет получал распоряжения, от которых холодела кровь и мысли отказывались анализировать услышанное. Но министр понимал, что большая политика требует больших жертв, и если не он, так кто-то другой, облеченный высшей властью, будет отсчитывать пятнадцать шагов по старому палисаднику, проходить мимо пустой стойки рецепции, удивляясь вечности фикуса, и сквозь бешеный стук сердца слушать и запоминать подробные инструкции, мысленно ужасаясь их последствиям. А потом беспрекословно исполнять.
Сегодня кабинет был пуст. Как только министр перешагнул порог и закрыл за собой дверь, большой монитор над полукруглым столом загорелся ярким белым светом. На экране сразу же появился текст. Министр прочёл незнакомые ему фамилии, адреса и координаты местности. На следующем слайде описывались действия, которые необходимо было произвести, на следующем – организации, которые надлежало при этом задействовать. Как только министр дочитал текст до конца, экран погас. Министр постоял еще несколько секунд, но больше ничего не произошло, и он понял, что встреча окончена.
На этот раз задание было, можно сказать, гуманным. И хоть смысл его не был полностью ясен, но количество жертв радовало – оно не превышало десять человек. Но ради этих десяти человек министр был вызван за «железную дверь», а значит, важность этих людей для дальнейшего хода истории трудно было переоценить.
Глава 1. Загадка тунгусского исполина
День угасал, растворяясь в лучах заходящего солнца, а вместе с ним таяла надежда на выход к берегу до наступления темноты. Последние несколько часов пути тайга стала непроходимой. Четыре дня пешего перехода, обещанные картой местности, давно истекли, а электронный навигатор, вошедший во вкус, уверенно продолжал вести группу на запад. Он, вероятно, выбрал, самый длинный маршрут. Но даже если идти зигзагом или ползти на четвереньках, то двадцать девять километров по среднехвойному лесу никак нельзя было растянуть на шесть дней.
Шли молча. Внезапно затянувшееся путешествие заставило по-другому взглянуть на события минувших дней. Каждый, устало ступая по мягкой, как персидский ковёр, таёжной траве, задавал себе одни и те же вопросы. Почему в разгар лета, когда по Подкаменной Тунгуске сплавляются десятки туристов, на пути группы не встретилась ни одна лодка? Почему стоят пустыми деревни и поселки, куда исчезли сотни их жителей? Еще два дня назад эти наблюдения были просто интересны. Сейчас же мысли невольно связывали массовое исчезновение людей со странным увеличением расстояния до конечной точки маршрута. Как будто кто-то сдвинул русло реки на пятнадцать километров к западу.
– До берега три тысячи двести пятьдесят метров, судя по «Ориону», – человек с большим квадратным рюкзаком остановился и сквозь сетку москитного костюма внимательно посмотрел в планшет.
– Замечательно! – покачал головой его спутник. – Мы шли полдня, а прошли всего сто метров?!
– Мне кажется, ваш «Орион» шалит, – раздался скрипучий голосок из середины колоны, – я всегда говорил: из китайских запчастей можно собрать только Яндекс-навигатор. Как можно было снаряжать экспедицию таким экспериментальным барахлом?!
– Голицын, тебе бы только отечественного производителя ругать! – возразил здоровый парень, замыкающий колону. – Четыре НИИ трудились над созданием высокоточного автономного навигатора, который использует для ориентировки на местности только магнитосферу Земли, а ты тут лопочешь про какие-то китайские запчасти. Сам ты – экспериментальное барахло.
– С чего такой неинтеллигентный вывод?!
– С того, что психолог в археологической экспедиции – это смелый, но честно говоря, неудачный эксперимент.
– В археологической?! А я думал, мы нефть ищем…
– Ты можешь искать нефть, а у нас впереди что-то, похожее на поляну.
В хаосе непроходимых дебрей клочок земли, стиснутый со всех сторон частоколом сосен и зарослями невысокого, но очень густого можжевельника, казался чудом.
– Это, конечно, не Ходынский аэродром, но две палатки встанут, – оценил обстановку Голицын.
– Ну, раз психолог так решил, значит встанут, – согласился руководитель группы, сбросил рюкзак и снял капюшон москитного костюма.
Его примеру последовали остальные.
– Олеся, набери, пожалуйста, веток для костра, – попросил руководитель.
– Хорошо, Иван Моисеевич, – ответила миловидная светловолосая девушка и нырнула в можжевельник.
– Латыш, а ты останься, помоги с палатками.
Здоровяк проводил Олесю тревожным взглядом.
– Да не съедят её!
Увидев, что Латыш остался, Голицын метнулся вслед за Олесей. Руководитель группы жестом подозвал оставшихся к себе.
– Я не хотел говорить при психологе, – тихо и быстро заговорил он. – Как вы уже поняли, измерение радиационного фона Подкаменной Тунгуски не является целью нашей экспедиции.
– Конечно, поняли, – нетерпеливо перебил Латыш, – с фоном здесь всё в порядке. А вот с навигацией…
– С навигацией – это отдельный вопрос, – продолжил руководитель. – Наша цель – участок правого берега, куда мы, собственно, и пытаемся выйти для производства последнего замера.
– И что же там такое, на правом берегу, что ты скрывал от нас почти две недели? – насторожился Латыш.
– Там произошел оползень… Судя по фотографиям со спутника, почти километр берега ушел под воду. В результате обнажились некие объекты, идеально ровные, почти у самой воды. Нам надо понять природу этих объектов. Есть мнение, что это элементы каменного строения.
– Это точно не строение, – разочарованно покачал головой Латыш, – практически вся Подкаменная Тунгуска протекает в слоях ордовика, а это четыреста пятьдесят миллионов лет до нашей эры. Так что это обычный скалистый берег. Или очередные Столбы. Мы такие наблюдали на участке Байкит-Полигус. Те – в виде людей, эти – в виде строения.
– Столбы – значит Столбы. Фотографируем, описываем, везем материал в Москву и получаем премию за работу в зоне повышенной радиации. Если не Столбы… В общем, собираем всё, что подходит для анализа, датируем, классифицируем и, главное, не сообщаем результаты психологу.
– Почему?! – удивился Латыш.
Руководитель группы многозначительно посмотрел на Латыша, а потом повернулся к обладателю квадратного рюкзака, высокому, худому бородачу с узко посаженными ястребиными глазами.
– Кузьмич, помнишь, когда ректор МГУ передавал нам радиограф, у него в кабинете ошивался мужик в погонах?
– Помню, – ответил Кузьмич, – неприятный тип. Смотрел на меня, как на Бена Ладена. Борода ему моя, видимо, не понравилась.
– Да.. С бородой у тебя перебор… Так вот, это он навязал нам в экспедицию психолога.
– Ну и что?
– Я тоже подумал «Ну и что. Психолог как психолог. Немного назойлив, ходит за мной по пятам. Бессмысленные вопросы задаёт. Может, все психологи такие». А когда мы с тобой в Усть-Илимске заказывали вертолёт, он вдруг за нами увязался, припоминаешь?
– Припоминаю. Только, хоть убей, не припоминаю, зачем.
– Сказал, что хочет в храм зайти перед дальней дорогой.
– Что-то я не заметил, чтобы он в храм заходил.
– Он и не заходил. Он в местное отделение милиции зашёл.
– Зачем?!
– Сказал, привет однокласснику передать.
– Что за бред?
– И меня это насторожило. Поэтому я в окошко с обратной стороны здания аккуратно заглянул…
– И?…
– И увидел, как начальник отделения ему честь отдал.
– Легавый! – злобно прошипел Кузьмич.
– Вот тебе и психолог! – согласился Латыш.
– Вот тут-то у меня всё и сложилось. Когда ректор на следующий день после нашего с тобой визита вызвал меня и сообщил о настоящей цели экспедиции, тогда тот, в погонах, и представил мне Голицына. Представил и приставил. Голицын после этого прилип ко мне, как старый советский лейкопластырь. Я, наивный, даже поселил его у себя в Алтуфьево, думал он бедный-несчастный командировочный из Ленинграда. Правда, он мне здорово помог с подготовкой документов. До отъезда была всего неделя, на оформление бумажек совершенно не хватало времени… А у него как-то ловко всё вышло, раз-раз и всё подписано. Это, мягко говоря, меня удивило. Потом, в пути, он чуть ли не за штаны мои держался, ни на шаг не отходил. Жаловался, что первый раз в экспедиции, боится потеряться. Я ещё обрадовался: вот, мол, какой сознательный турист, не придётся его по всей тайге разыскивать. Это только потом до меня дошло, после Усть-Илимска: он следил, чтобы об истиной цели экспедиции я не рассказал вам, а вы ещё кому-нибудь. Вы же в отличие от меня подписку о неразглашении не давали.
– А почему такая секретность? – спросил Кузьмич. – Допустим, объекты на берегу Тунгуски – это действительно древнее строение. Что в этом такого?
– А ты помнишь Петухова? Он лет пять назад ездил с нами на конференцию в Израиль.
– Что-то краем мозга. С ним, вроде, какой-то скандал был…
– Он нашел на Алдане фрагменты черепов и костей нижних конечностей гоминид. Причём, их сапиентность не вызывала сомнений. Кстати, именно на этих костях впервые испытали твой радиограф. Датировал сам Гуревич. Это он установил возраст – пятьдесят миллионов лет. А после визита к Войцеховскому он сказал, что метод магнитной радиографии еще не отработан и костям на самом деле сорок тысяч лет. Петухов тогда бегал по всему институту и визжал, что раз нашли на Алдане, то в слоях палеоцена, а это пятьдесят-шестьдесят миллионов. А когда он добился проведения повторного анализа, все образцы исчезли, причём, вместе с Петуховым. Уволили Пашу. Спрашивается, за что?
– Это Петухов, который в бане умер? – уточнил Латыш.
– Да, в тридцать шесть лет.
– Бывает… Алкоголь в бане – верная смерть, – вздохнул Латыш.
– Какой алкоголь! Он даже в Новый год крепче чая ничего не пил.
– Ну, хорошо, – вмешался Кузьмич, – найдём мы что-то необычное, скроем от психолога. А дальше? Как мы это будем публиковать?
– Во-первых, ты академик. Кто сможет тебе отказать в публикации! А во-вторых, сейчас меня больше беспокоит, зачем в нашу группу внедрён чекист. Ясно, что не мозги нам в тайге починять. Какова его миссия? Строение, если это строение, он уничтожить не сможет. Получить с нашей помощью данные о природе и возрасте объекта, а нас – в расход, чтоб не болтали?
– Ну, это ты загнул! – сказал Латыш.
– А я не знаю, что думать! Зачем-то он с нами пошёл? Поэтому я и предлагаю – перестраховаться. Кузьмич, неспециалист сможет понять, какой возраст образца показывает радиограф?
– Сможет. Будут цифры на мониторе.
– А изменить их можно?
– Пожалуй, да. Можно переключить радиограф в «демо-режим» и выставить, что угодно.
– Значит, так и будем действовать. Если найдем что-то, выходящее за рамки учебника палеонтологии, выставишь на радиографе три тысячи лет. Пусть докладывает на свою Лубянку.
Палатка, которая предназначалась для руководителя группы, Кузьмича и Голицына была установлена. Латыш занялся второй палаткой – для него и Олеси.
Затрещали сучья, и Олеся в сопровождении Голицына показалась на поляне с двумя охапками сухих веток.
– Профессор, ваше задание выполнено, ветки и Олеся на костёр доставлены! – доложил Голицын руководителю группы.
Профессор Покровский Иван Моисеевич, руководитель группы, палеонтолог, автор знаменитой монографии «Происхождение человека. Вопросы без ответов» указал Олесе место, где разжигать костёр.
Кузьмич, искоса поглядывая на Голицына недобрым взглядом брянского партизана, принялся чистить двустволку – по дороге пришлось шмальнуть в воздух, чтобы отогнать не в меру любопытного медведя. Голицын крутился около Олеси, помогая ей с костром, но больше мешал.
На темнеющем небосводе зажигались одинокие звёзды. Теплый летний лес погружался во мрак холодной августовской ночи. Пламя плясало в зрачках расположившихся вокруг небольшого костра пятерых заброшенных научными нуждами российской археологии в этот глухой край учёных, которые несколько минут хрустели сухарями в абсолютном молчании. Воды осталось мало, поэтому ни суп, ни макароны варить не стали. Только Олеся выпросила банку тушенки, ссылаясь на растущий организм и «критические» дни. Но даже это скромное застолье, больше напоминающее ужин в Шоколаднице, нежели полноценный приём пищи, подняло настроение всем членам экспедиции, порядочно измотанным шестидневным марш-броском по таёжным просторам Эвенкийского района.
– Как же я замоталась шкандыбать с этой экспериментальной лодкой, – нарушила всеобщую тишину Олеся. – Как хорошо было, когда по реке.
– Олеся, за испытание нового снаряжения в условиях пешего перехода тебе немало доплачивают, – напомнил Покровский. – Вон, целый академик Александров, археолог с мировым именем, тащит свой радиограф и не жужжит. А радиограф весит побольше лодки.
– Он мужчина. И академик. А я девушка и аспирантка.
– Зато какая девушка! – вставил Голицын с кавказским акцентом.
– Ой, задолбал, Голицын, – огрызнулась Олеся.
– Кстати, о снаряжении, – напомнил Покровский. – Как приедем в Красноярск, надо будет сразу отослать отчёт в институт. Двенадцать листов.
– И что мне на двенадцати листах написать о лодке, которая даже три порога не прошла, расползлась по шву? – возмутилась Олеся. – Описать, что чувствует моя спина, когда прёт её на себе?
– А почему бы и нет, – ответил Покровский. – Необходимо оценить, в том числе, и возможность её транспортировки.
– Зачем нужна лодка, которая сделана из резины для презервативов… – с грустью заметил Голицын.
– Чтобы она была легкая, и даже девушка могла переть её, как верблюд, когда она развалится на части при первом же касании воды, – предположила Олеся.
– Вот об этом и напиши. И о «Топорике походном электромагнитном» не забудь. Ты единственная, кто по нему еще не отчитался.
– Я его только сегодня в руки взяла!
– Камни не попробовала рубить? – подмигнул Голицын. – Он камни рубит.
– Сейчас попробую, – раздраженно ответила Олеся. Она схватила болтавшийся у нее на поясе небольшой топорик и с размаху рубанула по небольшому валуну, с которого Голицын в последний момент успел убрать кружку с дымящимся чаем. Раздался противный скрежет, и из-под топорика вылетел сноп искр.
– Так ты его включи, ворона! – засмеялся Голицын.
Олеся тихо выругалась, нажала на встроенную в торец рукоятки кнопку и ударила опять. Валун, как кусок масла, распался на две части.
– Капец! – восторженно произнесла Олеся и замахнулась топориком на Голицына. – Он из чего? Из брони?!
– Неважно, – ответил Голицын, – ты таких слов не знаешь.
– Особый магнитный состав, – педантично разъяснил академик Александров. – При подаче напряжения атомы кристаллической решетки на кончике лезвия выстраиваются в ряд и крепко удерживаются электромагнитными силами, топорик становится острее бритвы и при этом никогда не тупится. Электромагнитный импульс дополнительно разрушает структуру предмета в месте контакта с лезвием.
Олеся с интересом повертела топорик в руках и засунула обратно в специальное крепление на широком ремне.
– Меня сейчас волнует «Орион», – сказал Покровский. – Вроде он показывает ерунду, но… Мы ведь реально идём уже шесть дней, а по самым пессимистичным расчётам тут четыре дня пути, никак не больше. Тем более, что в графитовых ботинках мы топаем, как по асфальту, бьём все рекорды скорости.
– Сбиться с пути мы тоже не могли, – поддержал Александров, – небо звёздное.
– А я слышал, – таинственно заговорил Голицын, – что здесь аномальная зона. Время и пространство меняются местами.
– Аномальная зона везде, где ты, – не отрываясь от тушенки, сказала Олеся.
– Нет, серьёзно. После падения тунгусского метеорита здесь и началось. Часы останавливаются, стрелка компаса крутится, время замедляется. Я читал, что это был не метеорит, а произошёл разрыв в пространственно-временном континууме.
– Это черная дыра столкнулась с белой, – махнул рукой Латыш. – Кто за то, чтобы пойти спать?
– Да подожди ты спать! – толкнул его Голицын. – Я понимаю, вы все учёные с мировыми именами и фамилиями и для вас тема тунгусского метеорита примитивна, но я-то простой психолог. Я, как и любой обыватель, с детства интересуюсь этой загадкой. И тут я оказываюсь в нескольких десятках километрах от места падения! А вы спать. Расскажите хоть, что нового говорит наука по этому поводу. Свежачок, так сказать.
– Говорит, что это упал метеорит. Тунгусский… – зевнул Латыш.
– А вот я склоняюсь к тому, что это Тесла поставил опыт по передаче энергии на расстоянии, – оживился Голицын. – Очень правдоподобная версия. Во-первых, идеально выбрано место, где нет людей, во-вторых…
– А действительно пойдемте спать, – предложил Покровский. – Антинаучного бреда я наслушался у себя на кафедре. Еще здесь не хватало.
– Ты считаешь опыты Теслы антинаучным бредом?! – выпучил глаза Голицын.
Покровский поморщился и встал.
– Вот знаешь, что меня больше всего раздражает в дураках? – не унимался Голицын. – Глупость! Тесла – признанный величайший изобретатель. Его именем названа единица напряжения … или сопротивления.
– Магнитной индукции, – уточнил Александров.
– Тем более. Ни один современный учёный по уровню своих заслуг не дотягивает даже до коленки Теслы. И вот один из таких бездарей встаёт и заявляет, что опыты Теслы антинаучны! Как говорит Олеся – капец!
– Вы кончили, молодой человек? – равнодушно спросил Покровский. – Тогда спать.
Затушили костёр и разошлись по палаткам.
Психолог в свойственной ему пошловатой манере вслух начал смаковать прелести Олеси. Это в очередной раз послужило колыбельной для Александрова и Покровского, которые, размышляя о завтрашнем дне, быстро заснули.
А вот Латыш и Олеся не спали долго. Им никто не мешал обсудить последние новости.
– Теперь всё ясно, – вздохнула Олеся, – я что-то такое и предполагала. Откуда здесь радиация?! Но меня смущало, что Иван Моисеевич нам не рассказал об этом сразу.
– Теперь видишь: не мог он. Представляешь, две недели в себе это нести! Похоже, психолог прочно его пасет.
– Не зря он меня так бесит!
– Завтра, если выйдем к реке и найдём что-то необычное, придется тебе его отвлекать.
– Как?
– Он же влюблён в тебя. Заманишь его в лесок. Попросишь комариков отгонять.
– Не боишься? А вдруг он меня соблазнит и … я соблазнюсь?
– Не волнуйся. До этого дело не дойдёт. Нет на Подкаменной ничего интересного и быть не может. Это тебе не Московская область, где под каждым деревенским сортиром захоронения раннего плейстоцена.
– А как же Петухов? Нашел на Алдане кости. Им было пятьдесят миллионов лет!
– Олеся, человеческим костям не может быть пятьдесят миллионов лет. Аспирантке стыдно в такое верить.
– Но я читала отчет Гуревича. Он подтвердил это. А если сам академик Гуревич подтвердил, то какие могут быть сомнения!
– Но он же потом и опроверг.
– Так он после Войцеховского опроверг!
– Знаешь, Олеся, и большие учёные часто ошибаются.
– Ага, академик Гуревич ошибся, доцент Петухов ошибся, еще пять человек, которые фиксировали показания радиографа, ошиблись, один Войцеховский не ошибся.
– На то он и Войцеховский…
– А ты не допускаешь, что это Войцеховский ошибся и человеческим костям может быть пятьдесят миллионов лет? – подмигнув, спросила Олеся.
– Разница в том, что бывают ошибки, а бывает то, чего не может быть, потому что не может быть никогда, – немного раздраженно ответил Латыш.
– А если мы возьмём и перепроверим?
– Что перепроверим?
– Приедем в Москву и перепроверим образцы Петухова. Радиограф у нас есть.
– Образцы исчезли, нечего перепроверять – сонно ответил Латыш.
– Не-а, – радостно сказала Олеся, стаскивая капюшон спального мешка с лица Латыша. – Я их стырила!
– Чего ты их?!
– Скоммуниздила. Попялила. Ушакалила. Маленькую косточку…
– Ты что, с ума сошла? – вынырнул из мешка Латыш. – Ты знаешь, что за это сделали с Петуховым?!
– Ну, ты же меня не сдашь. А мы приедем и тихонечко проверим. Чтобы ты убедился.
– В чём?!
– Что ей пятьдесят миллионов лет.
– Вот в чём я уже сейчас убедился, что тебя надо гнать из аспирантуры.
Олеся замолчала.
– Давай спать, – сказал Латыш и снова закрылся капюшоном. Олеся залезла в мешок, затихла, а потом пнула Латыша коленом:
– А представляешь, если мы завтра на берегу Подкаменной Тунгуски найдём дом возрастом четыреста пятьдесят миллионов лет!
– Еще один Голицын! Всё, спать.
Олеся проснулась среди ночи. Вечерний чай пробудил в ней острое желание прогуляться до ближайшего дерева. В экспедиции существовало правило – ночью никуда не ходить поодиночке. Она стала будить Латыша, но тот не просыпался. Это очень удивило Олесю. Латыш спал чутко и всегда вскакивал от лёгкого пинка. После еще одной неудачной попытки разбудить своего друга, Олеся решилась выйти одна. Луна тускло освещала поляну. В серебристом полумраке лес казался сказочно-нереальным. Ожившие деревья покачивали костлявыми ветками, то ли приветствуя Олесю, то ли угрожая ей. Олеся отошла от палатки на несколько шагов и присела. Пушистый куст можжевельника щедро окутал девушку своим густым смолистым ароматом. Олеся растёрла его веточку между пальцами. Ей совсем не хотелось возвращаться. Запахи ночи кружили голову и вдохновляли на приключения. Олеся уже стала подумывать о дерзком марш-броске метров на сто вглубь лесной чащи, как вдруг почувствовала, что кто-то смотрит на нее из темноты. Она оглянулась. Прямо за её спиной стоял человек. Он был огромен, его руки свисали почти до колен, тело укрывал какой-то рваный балахон. Олеся закричала и, спотыкаясь о коренья, бросилась к палатке. Оказавшись внутри своего сомнительного укрытия, она стала яростно трясти Латыша, но тот продолжал спать, как убитый. Тогда Олеся схватила карабин, который Латыш всегда держал рядом с собой, и осторожно выглянула. Незнакомец громадной чёрной тенью стоял перед палаткой, заслоняя верхушки деревьев. Олеся передёрнула затвор и выстрелила практически в упор. Но незнакомец даже не шевельнулся. Тогда Олеся выстрелила ещё четыре раза, истратив все патроны. Человек стоял, как прежде, низко опустив голову. Вдруг он поднял лицо. В слабом свете Луны Олеся смогла разглядеть широкие скулы и огромные черные глаза. Несмотря на ужас, сковавший мысли, Олесе на секунду показалось, что эти глаза, наполненные осмысленной пустотой, вернули её куда-то очень далеко. Какое-то сладкое воспоминание мелькнуло у нее в голове, но тотчас испарилось, когда незнакомец поднял руку и коснулся ею своего лба. Затем он направил свой длинный палец в сторону, как бы показывая направление, после чего развернулся и растворился в темноте.
Олеся, дрожа от страха, забилась в дальний угол палатки. Кроме животного ужаса ей не давали покоя три мысли. Галлюцинация это или нет; почему никто не проснулся, когда она кричала и палила из ружья; почему незнакомца не разорвало на куски от пяти залпов крупной дробью. Заснула она только под утро, так и не найдя ответов.
Утром ее разбудил Латыш.
– Ну и дрыхнешь ты, подруга. Уже восемь. Иди завтракать.
Олеся выбралась из палатки и внимательно оглядела поляну. В большом котелке варилась гречневая каша. Недалеко от каши был расположен Голицын. В руках он держал свой личный фитнес-термос, с которым бесформенные дамы среднего возраста посещают занятия по боди-пампу и пилатесу. Остальные участники экспедиции неторопливо рассаживались вокруг костра, вооруженные обычными металлическими тарелками и кружками.
Олеся подошла к деревьям, в направлении которых она стреляла, если всё это ей, конечно, не приснилось. Но надежды на галлюцинацию или кошмарный сон исчезли: из ствола огромной лиственницы были вырваны куски древесины. Олеся жестом подозвала Латыша.
– Мне надо тебе кое-что сказать, – прошептала она, когда тот подошёл, – смотри…
Она указала на искорёженное дерево и с волнением рассказала о ночном происшествии. Латыш задумчиво провёл рукой по выщерблинам.
– Да-а, сколы свежие..
Он вернулся к костру.
– Как спалось, друзья? Слыхали, вроде стрелял в лесу кто-то?
– Нет, мы ничего не слышали, – насторожился Покровский. – А ты слышал?
– Я слышала, – тихо сказала Олеся. – Но может, показалось?
Покровский посмотрел на Латыша и тот понял, что вопрос надо прояснить, но без участия Голицына.
Тепло утреннего костра и душистая гречневая каша с чаем приятно согревали и вселяли надежду на то, что новые батарейки, которые Латыш установил в навигатор, пробудят в нём совесть и ту микросхему, которая должна была стараниями четырех российских НИИ задать путеводной стрелке чудо-прибора правильное направление, соединив её, наконец, с магнитосферой Земли.
– Сегодня мы должны выйти в нужную точку, в которую должны были выйти еще позавчера… – сказал Покровский, разглядывая карту. – Когда окажемся на берегу, будьте осторожны – возможны оползни.
– А если мы и сегодня не выйдем? – спросил Голицын, громко отхлебнув чай из фитнес-термоса. – Что-то мне подсказывает, что у вас проблемы с ориентацией на местности. На три дня просчитались.
– На два, – поправил Покровский в задумчивости. Он совершенно не понимал, откуда взялись эти лишние два дня – целая вечность для такого короткого маршрута.
Пока собирали палатки, Латыш успел передать Александрову всё, о чём ему рассказала Олеся.
– А карабин? – спросил Александров.
– Карабин разряжен, хотя еще вчера вечером там была полная обойма. Я проверял. И судя по запаху, стреляли из него несколько часов назад. Ошибки быть не может.
– Но я ничего не слышал. Ты допускаешь, что Олеся ночью отошла на километр в лес, пять раз пальнула по какому-то мужику из карабина, дробь сквозь густые ветки досвистела до палаток и чудом не превратила их в решето?
– Она не страдает лунатизмом. Это точно. А выщерблины совсем свежие и дробь легла кучно, то есть стреляли почти в упор.
– Нехорошо всё это… В тайге подобные происшествия, да еще с оружием могут кончиться плохо. Если ночью что и было, я подозреваю, что тут не обошлось без психолога. Кто ж его знает, чему их там в школе милиции учили.
Основательно подкрепившись и набравшись сил, учёные покинули гостеприимную поляну и продолжили путь по мокрому после ночного дождя лесу. Новейшие графитовые комбинезоны не промокали, но при этом пропускали воздух, словно были сделаны из тончайшего хлопка. Встроенный в каждый комбинезон кондиционер подогревал ткань изнутри – утренний лес был всё еще прохладен.
Некоторые думают, что настоящие хозяева тайги медведи. В крайнем случае – люди или китайцы. Но они заблуждаются, и неведение их оттого, что они не бывали в тайге летом. А летом тайга гудит от мошки, комаров и оводов. И нет от них спасения. Группу в ярко оранжевых комбинезонах, экипированную самым современным и частично экспериментальным оборудованием, от истинных хозяев тайги оберегал ПИП – Прибор Индивидуальный Противомоскитный. Он располагался у каждого из путешественников на поясе и работал от четырёх батареек. Ультразвуковое излучение, совершенно безвредное для человека, создавало непроницаемый барьер в радиусе пяти метров для любых видов насекомых. Это не превращало изнурительный многодневный марш-бросок в лёгкую прогулку, но значительно облегчало жизнь и позволяло сосредоточиться на главных задачах экспедиции.
Экспериментальный автономный навигатор «Орион» обещал путникам смену густой лесополосы на береговой кустарник то через двадцать минут пути, то через пять, то снова через двадцать. При этом он периодически советовал повернуть направо. Но прошло два часа, а тайга и не думала отступать. Она непроходимой живой стеной встала на пути измотанной группы. Корявые ветки старых озлобленных пихт и упругие ярко-зеленые лапы молодых и нахальных елей хватали за руки и били по лицу. Олеся, теряя самообладание, прорубала себе путь в таёжных дебрях электромагнитным топориком в опасной близости от спины Александрова, сомнительно защищённой рюкзаком с радиографом.
Еще через два часа раздраженные от неясных перспектив путники стали ощущать первые признаки легкой тревоги, обещающие вскоре перерасти в стабильную, уверенную и неконтролируемую панику. Покровский и Александров имели огромный опыт экспедиций и ориентировались на любой местности, как в собственной квартире. Тем более, что маршрут заранее был тщательно разработан, представлял собой прямую линию и сбиться с него было просто невозможно. Сейчас же происходило то, чего не могло произойти ни при каких обстоятельствах – группа явно потеряла направление.
К трём часам дня ситуация не изменилась: кругом был мрачный и негостеприимный лес. Торчащие из стволов, словно пики средневековых всадников, сухие ветки, пытались воткнуться в глаза; поваленные деревья преграждали путь, как пограничные шлагбаумы.
Ельник перемежался с березняком, где высокая и густая трава быстро забирала силы, которых и так ни у кого не осталось. Шесть часов пути изрядно измотали, но никто не думал ни о привале, ни о перекусе. Все молча шли по стрелке «Ориона», чувствуя себя лабораторными крысами при испытании нового супернавигатора.
– А мы вообще туда идём? – не выдержала Олеся.
– Кузьмич, что там на «Орионе»? – спросил Покровский. – Мы движемся? Сколько до реки?
– Если мы не движемся, я иду обратно, – простонала Олеся, – иначе эта лодка меня похоронит.
– Если Вы лишитесь сил, прекрасная Олеся, я согласен нести Вас и Вашу лодку на руках до самого Красноярска, – пропыхтел психолог.
– Не строй из себя мужчину, Голицын, – устало простонала Олеся.
– Да пусть несёт, – махнул рукой Покровский, – может нам еще пять дней идти с такой навигацией.
– А я согласен, – ответил Голицын. – Кто девушку несёт, то её и спит.
– Это ты Латышу скажи.
– А что Латыш. Латыш – парень современный. Он не изуродован инстинктом ложной собственности.
– Не изуродован, – пробурчала Олеся, – но изуродовать может…
– Товарищи, не хочу вас пугать и расстраивать, – вмешался Александров, – но судя по «Ориону», мы сейчас в Твери. На улице Зинаиды Коноплянниковой у дома двадцать шесть…
– Капеееец! – заорала Олеся, потеряв остатки терпения.
– Я же говорил! – поддержал её Голицын. – Китайские запчасти! По пачке Беломора быстрее бы дошли!
– Ладно, так и запишем в отчёте, «Орион» ваш – хлам, – сказал Покровский. – Достаю старый добрый компас.
– Уверен? – спросил Латыш. – По условиям контракта отказ от «Ориона» возможен только в экстренном случае. Можем деньги потерять.
– Уверен. Улица Зинаиды Коноплянниковой посреди Эвенкийской тайги – это край.
Старый добрый компас показал, что группа идёт в правильном направлении. Это усилило тревогу. Если направление верное, то к реке должны были выйти три дня назад.
– Я же говорил, что тут аномальная зона, – приуныл Голицын.
Прошло ещё около часа. Вдруг Покровский остановился и поднял палец.
– Вода… Пахнет водой…
Группа зашагала быстрее. Через пять минут сквозь редкие листья худеньких березок заблестела Подкаменная.
– Не прошло и года! – выдохнула Олеся.
Лес кончился внезапно, и усталые путешественники оказались на высоком берегу, который, резко обрываясь, уходил далеко вниз. Там, играя в лучах солнца, медленно текла бесконечная масса тёмной воды.
Забыв осторожность, учёные подошли к самому краю берега. Обрыв был высотой метров двадцать. Вдруг раздался громкий крик академика:
– Ни хрена себе!
Все повернули головы и замерли от увиденного. Правее, в трёхстах метрах от того места, где остановилась группа, из-под толщи шоколадно-коричневой земли прорезалась чёрная каменная гряда. Огромные глыбы идеальной прямоугольной формы тянулись вдоль берега и снова ныряли под землю через несколько сотен метров. Безупречная геометрия конструкций настолько не вписывалась в беспорядок окружающего ландшафта, что не было даже капли сомнения в её искусственном происхождении.
– Капе-ец! – первой очнулась Олеся.
– Вот тебе и Столбы, – согласился Александров. – Что Вы теперь скажете, уважаемый геолог?
– Ничего, – ответил невозмутимый Латыш. – Ну, стена. И что? Может, ей каких-нибудь три тысячи лет.
– А почему тогда она почти у самой воды?
– Думаю, лагерь разобьем здесь, – сказал Покровский, – над самой стеной возможен повторный оползень, а здесь безопасно и место ровное.
– Так эти булыжники и есть цель нашей экспедиции? – спросила Олеся, разыгрывая удивление перед психологом.
– Да, они трещат от радиации, – ответил Покровский.
Он и академик Александров переглянулись. Их удивила реакция Голицына. А точнее ее отсутствие. Лицо каждого члена экспедиции сейчас светилось от восторга, а психолог был абсолютно спокоен. Показалось, что впервые за все время пути он стал самим собой – серьёзным и бесстрастным.
– А что же молчит наш господин психолог? – не выдержала Олеся. – Он не удивлён?
– А он, наверное, тут сто раз бывал, – съязвил Александров.
Но психолог, ко всеобщему удивлению, продолжал молчать.
– Цель нашей экспедиции, – сообщил Покровский, – определение степени техногенности любых каменных пород, если они вдруг будут обнаружены. Иными словами, мы должны определить, созданы ли эти предметы человеком и если да, то установить их возраст.
Когда ставили палатки, Олеся попросила Голицына сфотографировать ее на фоне Тунгуски. Позировала она долго, и Латыш успел рассказать Покровскому о ночном происшествии.
– Это очень плохо, – ответил Покровский. – Надо быть предельно осторожными. Я бы на твоём месте разрядил карабин.
– Придётся. А я бы ещё от психолога избавился… Несчастный случай… – предложил Латыш и кивнул в сторону высокого берега.
– Давайте действовать по ситуации, – ответил Покровский, – мы же пока ничего не нашли.
Когда палатки были установлены, а Олеся отфотографирована, соорудили костер и в честь выхода на запланированную точку достали самые вкусные консервы – куриную тушёнку собственного производства от академика Александрова. После увеличения пенсионного возраста академик стал бояться, что пенсию отменят совсем, поэтому купил дом под Москвой, где летом выращивал курочек, а к осени делал из них консервы, запеканки, сушеные джерки и копчёные острые крылышки. Чтобы превратить обед в праздничный ужин, Александров достал из рюкзака бутылочку самодельного коньяка, произведенного там же, под Москвой, по древней Мытищинской технологии.
– По нашей доброй традиции, – торжественно произнес академик, откупоривая поллитровку.
– Чтобы глубже копалось, – поддержал его Покровский и подставил кружку.
– Вообще-то я не пью, – тоже подставил кружку Голицын, – но ради того, чтобы напоить Олесю…
– В мире нет столько водки, чтобы я на тебя позарилась, – поморщилась Олеся.
– И не забывай, – вставил Покровский, – пьяный Латыш страшнее носорога.
– А, он еще тут… – покосился Голицын, – я думал, он не выдержал конкуренции и сбежал.
Коньяк смыл воспоминания о шести часах движения в неизвестность, куриная тушёнка вернула вкус к жизни, пьяная красота Олеси скинула каждому лет по двадцать, напомнив о давно забытой студенческой юности.
– Латыш и Олеся – это вообще уникальный случай в биологии, – разомлел от полстакана Александров, и его потянуло на научную эротику.
– Почему? – удивился психолог.
– Потому что они учатся одной группе.
– И что в этом уникального?
– А то, что самки очень редко выбирают самца из своего окружения. Тяготеют больше к чужим самцам.
– А, ясно, это для исключения близкородственных связей?
– И для повышения разнообразия.
– Точно! – Голицын зажмурился от удовольствия, потягивая коньяк из фитнес-термоса, куда он его заблаговременно перелил из кружки. – Вот сейчас вспоминаю, школу, университет. Всё именно так и было! А мы на них еще обижались, почему, мол, не из своего класса мальчиков выбираете.
– Был такой интересный эксперимент, – продолжил Александров, – взяли самок и самцов мушек дрозофил двух видов, американских и европейских, и посадили их в одну пробирку. Потрясли. В результате ровно семьдесят пять процентов американских самок подсело к европейским самцам, а семьдесят пять процентов европейских самок – к американским.
– Один к трём… – кивнул Покровский.
– Да, знаменитое соотношение.
– Что за соотношение? – заинтересовался Голицын.
– Всё в природе распределяется в соотношении один к трём.
– Да ладно?! Прям всё?
– А вот ты сам прикинь.
Голицын на несколько секунд затих.
– Ну, вообще, похоже… Четыре типа характера, холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик. Четыре касты: интеллектуалы, воины, купцы, ремесленники. Четыре стихии: воздух, вода, огонь, земля. Четыре времени года, четыре карточные масти…
– Да всё проще, – перебила его Олеся, – распределение доминантных и рецессивных признаков один к трём. Со всеми вытекающими…
– Действительно просто, – покачал головой Голицын. – И почему нас на психфаке МГУ этому не учили…
– А ты вообще учился на психфаке? – пристально посмотрела на чекиста Олеся.
– Постой… Ты МГУшник что ли?! – перебил её удивлённый Покровский. – Я думал, ты наш, Ленинградский.
– МГУшник, – приосанился Голицын. – Не похож?
– Еще один уникальный случай, за который надо выпить, – потянулся за бутылкой Александров. – Моисеич никогда не берет в экспедиции представителей этого учебного заведения.
– Чем же ему так не угодили выпускники МГУ?
– Они тупые, – ответил Покровский.
– А какая связь между глупостью и МГУ? – удивился психолог.
– Я не сказал, что они глупые, я сказал тупые.
– Хорошо, объясни мне, дипломированному психологу, в чем разница.
– Разница в степени. У глупого человека хватает мозгов понять, что он глупый, потому он молчит и никуда не лезет. А тупой настолько глуп, что не понимает этого. Поэтому он считает своё мнение единственно правильным и везде его высказывает.
– Прекрасно, психология в неоплатном долгу перед тобой. А теперь объясни, при чем тут МГУ.
Покровский на секунду задумался.
– Вот скажи, по какому принципу набирают студентов в институты?
– Ну… по разным, – пожал плечами Голицын. – У кого папа профессор, у кого ноги красивые…
– А еще на вступительных экзаменах определяют степень обучаемости. Если абитуриент смог освоить экзаменационный материал, значит, его можно обучить. То есть при отборе не учитывается аналитические способности, ум, иными словами.
– Ну, ты загнул. Ум и аналитические способности, по-твоему, одно и то же?
– Абсолютно.
– Тут психология с тобой не согласна. Ум – это общее понятие, аналитика – более конкретное.
– Ты путаешь ум и разум. Разум – это совокупность всех мыслительных способностей, а ум – это способность на основании имеющейся информации делать правильные выводы. То есть аналитические способности – это не просто способность анализировать, а способность делать это правильно. Глупый тоже анализирует информацию, но его выводы неверны. То есть разум он имеет, а ум – нет.
– Ну, хорошо, не буду спорить с разумным профессором. Так что там с МГУ?
– В связи с тем, что ВУЗы не принимают во внимание аналитические способности абитуриентов, на студенческой скамье оказываются двадцать пять процентов умных и семьдесят пять процентов обыкновенных студентов. Соотношение один к трём, помнишь?
– Как такое можно забыть!
– Так вот. Когда выпускника какого-нибудь горного университета спросят, что он думает о Своде законов Ярослава Мудрого, он скажет, что ничего не думает, ибо он специалист по горным породам, и не специалист по истории. И это будет правильный ответ. А в МГУ, где соотношение умных и обыкновенных такое же – двадцать пять на семьдесят пять, с первых дней обучения и до последнего семинара внушают, что МГУ – это уникальное учебное заведение с аномально высоким уровнем преподавания всех предметов, в том числе не профилирующих. И даже если вы, например, химики или математики, то историю будете знать так же, как выпускники исторических ВУЗов, экономику, как выпускники экономических ВУЗов, строение митохондрии и кишечника лягушки, как выпускники биологических ВУЗов. А если чего и не будете знать, то необычайно высокий уровень общих знаний позволит вам додуматься до этого самостоятельно. И это действительно так. Позволит. Но при наличии аналитических способностей. А это лишь двадцать пять процентов выпускников МГУ. Остальные же на такое категорически не способны. Но они-то уверены, что способны! Их за время обучения убедили в этом! И они по всем вопросам уверенно и безапелляционно высказывают свое безграмотное мнение. Выпускники всех остальных ВУЗов не высказывают, а выпускники МГУ высказывают! Так и хочется им сказать: «Молчал бы, за умного сошел». Но где там! Не поймут. Во-первых, нечем, а во-вторых, многолетнее зомбирование сделало свое дело: убедить их в том, что они не правы, невозможно.
– Видимо, ты сильно пострадал от одного из таких выпускников, – съязвил обиженный психолог, – только что слюной сейчас от злости не брызгал.
– Я всю жизнь от них страдаю. За время работы приходится часто с ними общаться. Но, слава богу, состав экспедиции я утверждаю по своему усмотрению и таких вычеркиваю сразу. Вот только ты, исключение, просочился.
– Извините, что испачкал Вам жизнь, – радостно улыбнулся Голицын.
Александров потряс в воздухе бутылкой.
– Предлагаю выпить за высшее образование, каким бы низшим…
– Нет, давай-ка отложим это на вечер, – сказал Покровский, – а то нас после такого перехода срубит. А нам еще копать.
До места раскопок исследователи, немного разомлевшие от коньяка, спускались по веревке, которую Латыш привязал к дереву. Хотя берег, срезанный оползнем, был достаточно пологий, преодолеть склон высотой пятнадцать метров, да еще с инвентарём, было не так-то просто. Ещё наверху Покровский объяснил задачу: искать всё, связанное с деятельностью человека, особенно образцы для радиографа – любую органику.
Когда группа оказалась перед загадочными глыбами, то даже невозмутимый Голицын потерял дар речи. Тишина воцарилась над древней рекой. До верхушек столетних сосен доносился только шум воды и тихий мат Олеси. Первым очнулся академик.
– Видел я мегалиты в Мексике, но такое…
Камни, из которых была сложена стена, были огромны. Каждый блок достигал метра в высоту, около двух метров в длину и около метра в глубину. Но поражало не это. Издалека камни казались чёрными. На самом деле их глянцевая, отполированная до зеркального блеска поверхность переливалась всеми оттенками зеленого цвета. Их грани были настолько ровные, а их форма настолько правильная, что всё сооружение напоминало конструктор, сложенный из штампованных на заводе прямоугольников.
– Это что, малахит? – простонала восхищённая Олеся.
– Это не малахит, – промолвил Латыш, – это…
Он потер край блока пальцем, рассмотрел его грань через электронную лупу и понюхал.
– Это, друзья мои, серпентинит.
– Что-то знакомое, – наморщил лоб Покровский.
– Сторонники нетрадиционных теорий приписывают ему способность исцелять чуть ли не все болезни, – сообщил Латыш, – Из подтвержденных наукой свойств серпентинит обладает некоторым антисептическим действием, широко используется как отделочный и декоративный материал, на атомных электростанциях его применяют для защиты от ионизирующего излучения.
– Так это аптекарский камень! – воскликнул Александров.
– Он самый, – кивнул Латыш.
– Товарищи, это же уникальный минерал, – академик обхватил целебную глыбу обеими руками, – он лечит от всего на свете! От депрессии, от простуды, от давления, от сглаза, от кармических блоков. И вообще, поднимает настроение, снижает сахар…
– Геморрой забыл добавить, – поморщился Латыш. – А вот мне непонятно, как такие дуры припёрли с Урала. Разве что на вертолётах…
– То есть ты считаешь, что это современная постройка? – переспросил Покровский.
– Вне всякого сомнения, – ответил Латыш. – Блоки подобного размера можно так идеально обработать и тем более доставить только на современном оборудовании.
– А почему она тогда у самой воды?! – не унимался Александров.
– Давайте всё-таки действовать по протоколу, – перебил его Покровский. – Наша цель – органика. Оставим стену и её происхождение геологам, а сами примемся за обработку грунта.
Ученые распределились по участку протяженностью около пятидесяти метров и принялись расчищать от вековой глины таинственное строение. Работали особенными телескопическими вибролопатками. В сложенном состоянии такие лопатки легко помещались в рюкзаках, а в разложенном подстраивались под любой рост и вибрировали при надавливании, что позволяло с лёгкостью прорезать самый твёрдый грунт.
Каждый был увлечен, просеивая землю на своём участке. Никто, кроме Покровского, не заметил, что психолог в самый разгар работы отлучился минут на десять. Это не показалось бы Покровскому странным (Олеся тоже пару раз поднималась на берег по своей женской надобности), если бы Голицын не прихватил с собой рюкзачок. Покровский давно предполагал, что чекист должен был как-то оповещать своих хозяев о результатах работы группы. Возможно, в рюкзаке у него была портативная радиостанция. Но проследить за психологом он не рискнул и оставил это для более подходящего случая. Если его предположения верны, то после получения данных о возрасте находок, Голицын обязан был ещё раз выйти на связь.
Через несколько часов, когда солнечный диск коснулся края земли, напоминая, что пора поужинать, Александров неслышно подошел к Покровскому, аккуратно срезающему вибролапатой плоть доисторической глины. Лицо его было возбуждённым.
– Надо отвлечь психолога! – прошептал он.
Голицын, взгромоздившийся на каменную кладку, делал вид, что пишет. Но один его глаз то и дело поглядывал поверх красного блокнотика на окружающую обстановку, удерживая всю группу в поле зрения. Покровский взял небольшой камешек и кинул в Олесю, которая вместе с Латышом исследовала грунт метрах в двадцати от него. Олеся повернула голову. Покровский жестом подозвал её к себе.
– Олеся, срочно отвлеки Голицына, – тихо сказал Александров, когда раскрасневшаяся от усталости и теплого таёжного солнца Олеся, подошла.
– Как? – растерялась Олеся.
– Не знаю, – с выпученными глазами прошипел академик, – но срочно!
– Кто поможет даме спуститься к воде? – испуганно крикнула Олеся.
– А что случилось? – крикнул Латыш.
– Чего, чего, руки вымыть хочу!
– Я помогу! – тут же среагировал Голицын.
– Ну рискни, – мрачно сказала Олеся, и они с Голицыным стали спускаться по крутому берегу, поддерживая друг друга.
Александров, сияя от восторга, подозвал Латыша.
– Глядите! – торжественно произнёс он и показал небольшой камешек причудливой формы.
–Трилобит… – прошептал Покровский.
– Ну и что! – сказал Латыш. – Их здесь сотни. Это же слой ордовика. Вследствие вспучивания почв слой оказался на поверхности, поэтому членистоногие, жившие четыреста пятьдесят миллионов лет назад, тоже оказались на поверхности.
– Да, только он лежит не на поверхности. Там в стене небольшая ниша…
– И что?
– И то, что если бы он лежал рядом со стеной, это означало, что эту стену могли построить совсем недавно рядом с дохлым трилобитом. А если трилобит внутри стены, то он мог туда только… заползти.
– Бред! – недовольно отозвался Латыш о теории Александрова. – Дохлого трилобита мог положить в нишу рабочий, строивший стену пару месяцев назад.
– Теоретически мог, только зачем?
– Да зачем угодно! И это более здравое объяснение, чем то, что трилобит заполз в стену, построенную кем-то до появления динозавров.
– В нишу он мог попасть, когда обрушился берег, – предположил Покровский. – Так что его положение действительно пока ни о чем не говорит, – он протянул окаменелого трилобита Александрову. – А вот образец для проверки радиографа на глубину анализа мы нашли превосходный. Так что как поднимемся, сразу его и закладывай.
– А Голицын?
– Не думаю, что в этом камушке он узнает доисторического членистоногого.
Работали еще полчаса. Когда сумерки стали сгущаться и зелёные камни стены слились с берегом, учёные поднялись наверх.
Олеся принялась готовить ужин. Голицын вызвался ей помогать. Покровский, стараясь не привлекать внимания, подошел к академику. Александров открыл водонепроницаемый противоударный кофр, внутрь которого был встроен магнитный радиограф – уникальный российский прибор, позволяющий определять возраст органики всего за несколько часов. Метод магнитной радиографии отличался от радиоуглеродного метода неизмеримо большей, практически бесконечной глубиной датировки. Александров расположил на прозрачной платформе трилобит и накрыл его таким же прозрачным полукруглым куполом.
– Ой, а что это у вас тут?!
Покровский и Александров испуганно обернулись. Рядом стоял Голицын.
– Ты откуда нарисовался? – удивлённо спросил Покровский.
– Из Ленинграда. Что это за камешек?
– Это окаменелая какашка, – разъяснил Александров, – вот, хотим установить возраст. Не возражаешь?
– А чья какашка?
– Надеемся, что не твоя. Обитателя города, вероятно.
– И когда будет готов анализ?
– Вот настырный! – возмутился Александров. – Тебе-то что? Ты, вроде, нефть искал?
– Завтра будет готов, – сказал Покровский. – Кузьмич, настраивай радиограф и пошли ужинать.
После многодневного перехода всем очень хотелось искупаться, и пока варилась лапша, скромно присыпанная куриной тушенкой, купаться пошла Олеся. Ей же досталась почетная обязанность исследовать вход в воду и дно на предмет пригодности для купания. Олеся имела разряд по плаванию, поэтому это поручили ей, несмотря на ощутимое течение реки.
– Смотреть не обязательно, – без надежды на выполнение этой нехитрой просьбы крикнула Олеся снизу, скидывая одежду.
– Окей, – ответил ей кто-то из расположившихся на краю берега, словно на галерке Большого театра, четверых мужчин, включая шестидесятипятилетнего академика Российской академии наук, члена-корреспондента Фёдора Кузьмича Александрова.
Каждый из них, кроме психолога, был с Олесей в экспедициях не один раз, но пропустить ее очередной заплыв не позволял инстинкт. Только, пожалуй, Латыш наблюдал за своей подругой больше из соображений безопасности. Несколько минут учёные следили за пучком ее русых, собранных на голове волос, который то и дело уходил под воду.
Выйдя через пару минут на берег, Олеся без стеснения сняла мокрый лифчик и, стоя по колено в воде, стала мылить голову.
– Вода ничего, а дно так себе! – крикнула она. – Острые камни.
Она отвернулась, сняла трусы и стала намыливать плечи и руки. Учёные с наслаждением любовались ее фигурой, похожей на виолончель. Четыре пары глаз сопровождали каждое ее движение. Особенно, когда она наклонялась к воде, чтобы смыть мыло с волос. Но каждый из наблюдателей ждал не этого момента. Все ждали, когда она повернется. За месяц, а иногда и месяцы экспедиций, проведённых в полевых условиях вдали от всякой цивилизации, тело Олеси возвращало себе естественные черты, свойственные взрослым женщинам. Все мужчины и даже некоторые женщины, путешествующие с ней, всегда любовались её густым треугольником, нижняя граница которого переходила глубоко на бедра.
Закончив себя намыливать, Олеся на некоторое время ушла под воду и вскоре появилась из неё, как Афродита из пены. Она решительно направилась к берегу и пока вытиралась, наблюдатели вдоволь насладились видом ее естественной красоты.
По странному закону природы мужчинам в женщинах нравятся достоинства, а с ума сводят недостатки. Олеся была ярким тому примером. Она слегка косила на один глаз, и от этого ее взгляд, который чаще был направлен вниз, нежели на собеседника, становился загадочным. Движения ее были медленные, неловкие и если она что-либо роняла из рук, а делала она это часто, то сначала некоторое время смотрела на упавший предмет и лишь потом, с виноватой улыбкой поднимала его. Она немного картавила, точнее, произносила звук «р» горлом. От этого он становился мягким, а ее речь в сочетании с косым, направленным вниз и иногда исподлобья взглядом, пробуждала в ее собеседниках страстное желание заботиться о ней всю оставшуюся жизнь.
Но первое впечатление было обманчиво. По институту ходили слухи о необычных сексуальных пристрастиях Олеси. И как только очередной покоренный ею студент делился своими чувствами к ней с товарищами, тут же находился «знающий» друг, который со словами «А ты в курсе, что она…» докладывал ему на ухо о «мерзостях», которые творит Олеся в постели.
И это были не пустые слова. Олеся, как только дело шло к сближению, всегда информировала своего ухажера о том, что его ждет. Как правило, на этом отношения заканчивались. И даже не потому, что кандидату не нравились ее фантазии. А скорее потому, что все в институте сразу бы поняли, чем именно они занимаются.
Лишь два человека за все время учебы были зафиксированы в качестве любовников Олеси. С одним из них отношения длились два года и это были счастливые отношения людей, нашедших друг друга. В конце учебы им пришлось расстаться: он уехал на родину в Южно-Сахалинск, и она не решилась последовать за ним, хотя очень болезненно переживала этот разрыв.
Теперь ее другом вот уже более года был Латыш. У всех это вызывало недоумение. Латыш был полная противоположность ее бывшему возлюбленному: флегматичный, безэмоциональный и, казалось, совершенно не интересующийся ничем, что бы касалось лирических отношений между мужчиной и женщиной. Никто, даже приложив все умственные силы, не мог представить Латыша за теми занятиями, которые предлагала Олеся своим знакомым. Хотя, никто бы совершенно не удивился, если бы узнал, что они вот уже год просто дружат, а в одной палатке спят в разных ее углах.
Закончив вытираться, Олеся надела чистое бельё и была вытащена на берег Латышом при участии Покровского.
– У вас лапша не сгорела? – спросила она с укором, показав взглядом на костёр.
– Сгорела, причем у каждого, – ответил Голицын, демонстративно посмотрев на свои штаны.
– Вот ей и будешь ужинать – произнесла Олеся и направилась к палаткам. В это время искупались остальные.
Ужин на берегу Подкаменной Тунгуски, украшенный мытищинским коньяком, треском костра и запахом реки казался божественным, несмотря на переваренную лапшу.
– Какие будут мнения, о том, что мы сегодня обнаружили? – издалека начал психолог.
– Стену из серпентинита, – изрёк Латыш, не отрываясь от банки с тушенкой.
– И откуда она тут взялась? – не унимался чекист.
– Её построили…
– Кто?
– Узбеки или армяне, я не знаю.
– Древние узбеки?
– Тебе же сказали, стена современная! – озлобилась Олеся.
– А почему она тогда у самой воды?!
– Ещё один! – поперхнулся Латыш и с укором посмотрел на упрямого психолога. – Вот врыли её так!
– Зачем?
– Ты дашь поесть?!
– А действительно, – подключился Александров, – зачем надо было на берегу реки городить такую махину, да еще врывать ее на 20 метров в землю.
– Может это бункер, – ответил Латыш. – Местный губернатор решил укрыться на случай ядерной войны. Стена уходит далеко под берег. Строили её действительно узбеки. Вот берег и обрушился.
– На случай ядерной войны? – оживился Александров. – Насколько я помню, аптекарский камень не защищает от теплового воздействия, а наоборот, аккумулирует тепло. Его даже в саунах для этого используют.
– А, ну вот мы и выяснили! – обрадовался Латыш. – Это сауна местного губернатора.
– Товарищи, а если серьезно? Это явно не бункер: серпентинит – самый неподходящий для этого материал. И естественно, никакая не сауна. А если предположить, что это не современная постройка?
– Я даже предполагать такое не буду, – отмахнулся Латыш.
– Но ведь шлифовали же камни в древнем Египте, – продолжал настаивать на своей версии Александров, – и технология их обработки, так же, как и способ транспортировки, нам до сих пор не вполне понятны. Так почему древние строители не могли аналогичным образом обрабатывать блоки из серпентинита?
– Могли, – сдался Латыш, – но чтобы такое предполагать, согласись, нужны хоть какие-то предпосылки. А у нас их нет.
– Как нет?! – вскричал Голицын, – а какашка?!
Все с изумлением посмотрели на психолога.
– Ну какашка, которую вы положили в радиограф, – уточнил тот.
– Дебил… – тихо выругала Олеся, которой данное слово явно испортило аппетит.
– Это даст лишь косвенную датировку, – ответил Александров, который уже давно пытался изобрести способ, как проверить показания прибора в тайне от Голицына.
– А разве по глубине залегания нельзя примерно определить возраст стены? – не отставал психолог.
– "Залегания"… Слова-то какие знаешь! – передразнила Голицына Олеся.
– Можно, – ответил Латыш. – Этой стене не более десяти тысяч лет.
– И как ты это определил? – заинтересовался Голицын.
– Очень просто. Человеческой цивилизации не более десяти тысяч лет. Вот и весь ответ.
– А я слышал, что здесь породы, которым пятьсот миллионов лет, – не сдавался чекист.
– Ну, значит и стене пятьсот миллионов лет, и строили её молдаване, которые появились на Земле раньше сине-зеленых водорослей.
– Прекращай свои прибалтийские шутки! – обижено крикнул Голицын сквозь хохот Олеси, – я же серьёзно спрашиваю.
– И я серьёзно. Люди вылезли из пещер и начали что-то строить не более десяти тысяч лет назад.
– Откуда такая цифра?
– О господи, Голицын! – всплеснула руками Олеся. – Ты хотя бы перед поездкой учебник истории почитал. Хотя бы за третий класс.
– Ладно, Олеся, не кричи, – вступился Александров. – Он не биолог и не обязан разбираться в теории эволюции. Любой психолог может выглядеть глуповато, если окажется среди биологов.
– А кто его просил здесь оказываться! Вот счастье-то нам какое наблюдать его тут всю дорогу!
– Ну, может он не по своей воле поехал, может он в Сочи хотел, на конференцию семейных сексопатологов, но Родина его послала… в тайгу. Дорогой наш мозгоправ, человеческая цивилизация стала активно развиваться лишь десять тысяч лет назад, потому что десять тысяч лет назад закончилось Валдайское оледенение.
– Это что за оледенение? – насторожился Голицын.
– Это когда ледник покрывал всю Европу почти до Чёрного моря.
– В смысле? – переспросил удивлённый милиционер.
– В коромысле! – крикнула Олеся и закатила глаза к небу. Покровский погладил её рукой по спине, как гладят разозлённую собаку.
– Это что, вроде ледникового периода? – заинтересовался психолог. – То есть это не сказки?
– Это святая и горькая правда, – ответил Покровский. – Я больше скажу, ты только не пугайся, мы сейчас живём в Кайнозойскую ледниковую эру. Она началась недавно и продлится примерно триста миллионов лет.
– Есть ледниковые периоды, а есть ледниковые эры, – продолжил в привычном для себя формате лекции Александров. – На Земле было три ледниковые эры, и каждая длилась по двести-триста миллионов лет. Например, восемьсот миллионов лет назад, в Позднепротерозойскую эру, Земля полностью была покрыта льдом. И так продолжалось триста миллионов лет.
– Это, простите… научные данные? – не сразу поверил Голицын.
– Научнее не бывает, – огрызнулась Олеся.
– Тридцать миллионов лет назад началась наша, Кайнозойская ледниковая эра. До нее двести миллионов лет было межледниковье, когда климат на всей Земле был равномерно одинаковый, жаркий, как сейчас в Африке.
– Я слышал по телевизору, что в Сибири раньше росли бананы, – сказал Голицын, – и не верил…
– Росли, только не совсем в Сибири. Точнее, не в Сибири в современном понимании. Ибо континенты были расположены совсем иначе, и Сибирь находилась сначала на материке Пангея, а после ее раскола – на Лавразии.
– И это правда?! Про мифические материки?
– Ну какие же они мифические… Именно изменения конфигурации материков вызывали изменения направления океанских течений, что было и является одной из главных причин изменений климата.
– Что-то я в учебнике истории за третий класс такого не читал… – недоверчиво прищурился Голицын.
– Читал, только забыл.
– Я уже боюсь спрашивать про знаменитое глобальное потепление, которым всех пугают. Сейчас вы меня добьёте своей академической информацией.
– Ледниковая эра состоит из периодов, – продолжил лекцию Александров. – Период – это ледниковая эпоха и эпоха межлежниковья. Согласно законам физики, они чередуются всю эру в строго определенном сочетании: Ледниковая эпоха длится двести тысяч лет, межледниковье – двадцать. Валдайское оледенение, о котором я говорил, длилось двести тысяч лет. Десять тысяч лет назад оно кончилось, и началась эпоха межледниковья, в которой мы сейчас живём. Продлится она еще десять тысяч лет. А потом, всё: на двести тысяч лет ледник покроет всю Европу и европейскую часть России. Так что про глобальное потепление – делай выводы.
– То есть у человечества осталось не так уж и много времени? – после некоторых раздумий спросил Голицын.
– Ну как немного… Пять тысяч лет назад возникли шумерская и древнеегипетская цивилизации. Теперь представь, сколько всего за это время произошло. А предстоит еще два раза по пять тысяч лет.
– Так за десять тысяч лет мы эвон куда скакнём! – обрадовался Голицын. – Неужели человечество не найдёт способ, как избежать оледенения?
– Если оно придумает, как управлять движением континентов и изменять ось вращения Земли, то шанс есть, – с иронией произнёс Покровский. – Но пока человечество занято лишь управлением и движением финансовых потоков…
– Ось вращения и так постоянно меняется, – добавил Александров, – вот увидите, в 2050 году в Москве мы будем периодически наблюдать северное сияние!
– Главное, чтобы к 2050 году Москва еще называлась Москвой, – мрачно произнёс Латыш.
– Ага, и чтобы было кому наблюдать, – поддержала Олеся.
– А могли эту стену пятьсот миллионов лет назад построить обезьяны? – неожиданно предположил Голицын.
– МГУ штампует идиотов… – констатировала Олеся. – Ты в школе вообще учился?
– А что здесь такого! Нет? Я просто не силён в ваших исторических доктринах…
– Пятьсот миллионов лет назад жизнь была еще только в воде, – терпеливо продолжил Александров, – и только в виде примитивных форм типа губок. Триста миллионов лет назад появились первые динозавры. Вымерли они шестьдесят миллионов лет назад. В это же время, шестьдесят миллионов лет назад, наши предки в виде крыс прыгали по деревьям.
– В виде крыс? – удивился Голицын. – То есть наши предки не обезьяны?!
– Обезьяны, обезьяны. А вот предки обезьян – крысы.
– Господи, зачем я спросил… – приуныл психолог и опустил голову.
– Живи теперь с этим! – обрадовалась Олеся.
– Так вот, пятьдесят миллионов лет назад эти крысы, которые назывались пургаториусы…
– Слово какое тараканье, – возмутился Голицын, – что же, во всей ботанике слова другого не нашлось?
– Значит, на тот момент не нашлось, – продолжил Александров. – Пятьдесят миллионов лет назад они начали эволюционировать и двадцать пять миллионов лет назад превратились в обезьян. Те, в свою очередь, пять миллионов лет назад сбросили шерсть, четыре миллиона лет назад встали на две ноги, а два миллиона лет назад изготовили первое орудие труда, превратившись из обезьяны в человека.
– Так кто же тогда построил эту стену? – с настойчивостью матёрого опера продолжил интересоваться Голицын.
– Получается, губки.
Голицын задумался.
– Хорошо мы его загрузили, – обрадовалась Олеся, – теперь он до утра будет переваривать. Мы хоть поедим спокойно.
Александров плеснул мытищинского в бокалы товарищей и поднял кружку над головой.
– За пургаториусов!
Все, кроме Голицына, с радостью поддержали тост. Голицын поморщился и выпил, не чокаясь.
– Всё это вредно для суставов головного мозга, – он покрутил пальцем у виска и, уставившись на пламя костра, затих.
Остальные молча и жадно расправились со свининой. Чай пить не стали – очень уж хотелось спать.
На этот раз Олеся проснулась без всякой причины. Она была уверена, что кто-то снова стоит перед палаткой. Она что есть силы стала трясти Латыша, но тот не просыпался. Олеся поняла, что вчерашняя история повторяется. Ужас овладел несчастной девушкой. Она вцепилась в Латыша, готовая пролежать так до утра, но какая-то сила тянула её к выходу. Олеся потихоньку расстегнула молнию на входе в палатку. В образовавшуюся щель она увидела черный силуэт. Проклятый призрак снова настойчиво показывал Олесе на лес слева от лагеря. На этот раз он был меньше ростом и выглядел менее устрашающе. У Олеси возникло странное ощущение. Тот, кто стоял сейчас перед ней, показался ей определённо знакомым. Пока она пыталась понять, кого же ей напоминал ночной гость, призрак развернулся и, приглашая Олесю за собой, направился к лесу. Олеся, дрожа всем телом, выползла из палатки и увидела, что черный силуэт, добравшись до леса, остановился у огромной сосны. Во мраке, слабо рассеянным холодным светом Луны, он казался совершенно реальным, и от того более жутким было его явление, которое стирало грань между миром живых и обителью мёртвых. Призрак смотрел на Олесю, и его взгляд проникал в сознание девушки, парализуя разум. Еще немного, и Олеся пошла бы на зов ночного гостя, но тот в последний момент развернулся и растворился в темноте.
Академик Александров проснулся около шести утра, чтобы проверить показания радиографа и при необходимости изменить их. Когда он открыл крышку прибора, то даже присвистнул. На мониторе светились зеленоватые цифры "480 000 000". Он был приятно удивлён не столько возрасту трилобита, в этом не было ничего удивительного, сколько работоспособности прибора. Самый древний образец, который подвергся испытанию на радиографе, пролежал в земле около пятидесяти миллионов лет. Теперь же был зафиксирован новый, совершенно удивительный рекорд – четыреста восемьдесят миллионов! Это вселяло уверенность в точной датировке и других находок.
Александров набрал комбинацию клавиш, и сенсационные цифры сменились на обыкновенные. Довольный академик закрыл кофр и направился к палатке.
Ранним утром туман укрывал Подкаменную. Фёдор Кузьмич вообразил, как десятки, а может сотни тысяч лет назад кто-то, похожий на него, выходил с утра на берег по каким-нибудь пустякам, а может для важного дела, повлиявшего даже на весь дальнейший ход истории… Кто же он? Первый неандертальский романтик, сочинивший первые в истории Земли стихи из примитивных звуков про удивительную красоту утренней реки? Или такой же, как он, Александров, учёный среднего палеолита, размышляющий над еще более древними и удивительными загадками?
Мысли не давали академику заснуть, и он пролежал, раздумывая о ничтожности современных знаний о зарождении человеческой цивилизации, часов до восьми, пока не проснулись его товарищи.
– Ну что, готов анализ доисторического кала? – сразу взял быка за рога Голицын.
– Готов, куда ему деться, – ответил Александров, зевая, и стал выбираться из спального мешка. По интонации академика Покровский понял, что дело сделано.
– Тогда, может, посмотрим? – не унимался психолог.
– Иди, смотри…
– Только после Вас.
Неторопливо покинув палатку, Александров принялся реанимировать костёр. Психолог топтался рядом, делая вид, что чем-то занят. На шум и запах дыма из второй палатки вышел вечно голодный Латыш.
– Что на завтрак? – спросил он, потирая руки.
– Какой еще завтрак! – приплясывая от нетерпения, произнёс чекист. – Мы на пороге великого открытия!
– Ладно, пошли смотреть, а то Голицын конем станет, вон как топчется, – сказал Покровский
– Давайте хоть пошамаем сперва, – возмутился Латыш, – что за спешка такая! Кто такой Голицын? Я не знаю никакого Голицына. – Он достал из рюкзака сухой паек и присел у костра.
– Как скажете, – ответил Александров и тоже принялся готовиться к завтраку.
Из палатки вылезла лохматая Олеся.
– Ну что, готовы анализы? – спросила она, потянувшись.
– И этой не терпится! – возмутился Латыш.
– Да учёные вы или пожрать сюда пришли! – поддержал Олесю психолог. – Мы полмесяца сюда тащились, нашли такое, о чём Дарвин и Прокопенко с РЕН ТВ могут только мечтать, а они, как хомяки, только спят и чаи гоняют. Я больше вас учёный, раз только мне это интересно.
– Это говорит о том, что ты не учёный, а восторженный неопытный турист, – флегматично ответил Латыш. – Торопишься, нервничаешь, как девушка в первом турпоходе.
– Ладно, Кузьмич, – повернулся Покровский к Александрову, – пойдём снимать показания, а то ведь он поесть не даст.
– Не дам, даже не надейтесь, – радостно помотал головой Голицын.
Учёные нехотя поднялись и направились к прибору. Александров открыл крышку кофра и развернул монитор на гибком приводе вверх.
– Ну вот, три тысяч лет! – сообщил Покровский.
– Кто бы мог подумать, – покачал головой Александров.
– Я же говорил: обыкновенная современная стена, – сказал Латыш.
Все украдкой посмотрели на психолога. Его лицо было спокойным. Или, если сказать точнее, успокоившимся.
– Ты доволен? – не выдержал Александров, обращаясь к Голицыну. – Можно принимать пищу?
– Да мне то что? – равнодушно ответил Голицын. – Это вам надо. А мне хоть три тыщи, хоть триста мильёнов.
– Вот и славно, – кивнул Покровский.
После завтрака группа, вооружившись вибролопатками, продолжила очищать от исторического слоя глины каменные глыбы, уходящие в глубину берега и веков. Латыш старательно врубался в грунт у северо-западного края стены, Покровский и Александров неторопливо расчищали юго-восточный край, Олеся тщательно просеивала сквозь пальцы землю в центральной секции. Голицын сновал между Олесей и юго-восточным краем.
Когда Покровский, посмотрев на часы, торжественно вонзил лопату в берег, возвещая о наступлении обеденного перерыва, в центральной секции забелела присыпанная пылью времён долгожданная кость.
– Бедро! – закричала Олеся на всю Тунгуску. Все окружили Олесю и ее находку.
– Действительно, бедренная кость… – констатировал Александров. – Человеческая, вне сомнения. Только какая-то…
– Очень длинная, – со знанием дела заключила Олеся.
– Очень… – иронично заметил Покровский. – Ничего себе очень! Аккурат в два раза длиннее.
– Не зря мы всё-таки тебя с собой потащили! – поздравил Олесю Голицын.
– Латыш, помогай Олесе, – распорядился Покровский. – Как очистите бедро полностью, делайте соскоб и закладывайте в радиограф. А мы продолжим расчищать сектор. Хотя, по большому счету, цель свою мы достигли: биоматериала для анализа достаточно.
– А обед?! – чуть ли не крикнул психолог.
– Без обеда!
– Да ладно тебе, без обеда, – вмешался Латыш, – кость не убежит.
– Хрен с вами. Обед, – ответил Покровский. – Голицын, охраняй, – он указал психологу пальцем на кость.
– Щаз! – ответил Голицын и проворнее обезьяны вскарабкался по веревке на берег. Покровский ждал этого. Он быстро, но аккуратно, поскоблил кость и передал шпатель Александрову. Александров спрятал шпатель в контейнер для биоматериалов, и все поднялись наверх.
Олеся увлекла Голицына в палатку за консервами. Александров загрузил образец в радиограф.
С обедом не торопились. Академик нарочно долго разводил костёр, а Латыш целую вечность спускался к реке, чтобы набрать воды. Всё это время Покровский отчаянно соображал, как выиграть еще немного времени и получить результаты анализа до того, как группа во главе с Голицыным, отобедав, снова спустится вниз. Ничего, кроме Олеси, не лезло в его голову. Но отвлечь похотливого чекиста на два, а то и три часа, пока не будет завершен анализ, Олеся даже со всеми её очертаниями вряд ли смогла бы. Выручил Александров.
– Предлагаю отметить это дело! – провозгласил он, когда ароматная, сочная свиная тушенка, присыпанная дымящимся рисом, была разложена по тарелкам, и достал вторую поллитровку.
– У тебя их две?! – изумился психолог.
– Предлагаю поднять бокалы за нашу главную находку и, по большому счёту, за окончание нашей миссии, – произнёс академик.
– А давайте выпьем за того парня, который пожертвовал ногой! – предложила Олеся.
Все удивленно посмотрели друг на друга.
– Ну, за человека, чьё бедро мы откопали, – уточнила аспирантка.
– Я как-то не понял сразу… – покачал головой Покровский. – Давайте, конечно.
– Дай бог ему здоровья, – кивнул Латыш и чокнулся с Олесей.
Все бодро выпили и впились зубами в раскаленную свинину.
Первым прожевал Голицын.
– Так вы говорите, его рост более трёх метров? – равнодушно спросил он, сделав вид, что высматривает в котелке еще один кусочек, пожирнее.
– Это если учитывать видимую часть бедра, – ответил Покровский. Он очень обрадовался, что сейчас загрузит любопытного чекиста занимательной палеонтологией на час-полтора. – Но судя по тому, что еще скрыто в земле, метров пять, не меньше.
Александров, поняв замысел профессора, покачал в воздухе пальцем.
– Это минимум пять. А если учесть, что кость от времени усохла, то все семь.
– Вы что, сбрендили! – вмешалась простодушная Олеся. – Какие семь! От силы три с половиной метра. Хотя, как это возможно, я до сих пор не понимаю.
– Может это коренной сибиряк, – предположил Голицын, – они все здоровые, как лоси.
– Три тысячи лет назад здесь обитало много народов… От скифов до китайцев, – сообщил Покровский. – Так что данное бедро может принадлежать и китайскому Синь-Тяню, и библейскому Исполину, и скифскому Святогору.
– Почему Святогор скифский? – переспросил Латыш. – Скифы монголоиды.
– Скифы не совсем монголоиды, – возразил Покровский, – скифами греки называли все народы, обитающие к северу от Греции. Славян в том числе. Так что вполне возможно, что бедро – славянское.
– Так, давайте будем точными, – перебил его Александров. – Три тысячи лет назад никаких славян не было. Точнее, ни один народ так не назывался.
– Славян не было. Вероятно, – ответил Покровский. – Но протославяне, а именно скифы, были. И они вполне могли соорудить нечто подобное, – он кивнул в сторону берега.
– А вот я читал у одного академика, – решил вмешаться Голицын, – что славяне появились на земле совсем недавно, примерно полторы тысячи лет назад.
– А где же они до этого были, на Луне? – переспросил Покровский.
– А до этого они жили в норах, – ответил Голицын.
– Знакомый бред… – поморщился Покровский.
– Ничего не бред! – обиделся Голицын. – Академик писал. Я даже фамилию нарочно запомнил. Коган.
– Стыдно, молодой человек, полагаться в научных вопросах на мнение только лишь одного автора, даже если он Коган, – заметил Покровский. – Есть и другие академики. Рыбаков, например, полагает, что славянам более трёх тысяч лет. Что же касается протославян, то они ровесники всем остальным народам Земли.
– Ну, это ты хватил, – возмутился Латыш. – Возможно славянам и не полторы тысячи лет, но их предки уж никак не могут быть ровесниками тех же шумеров.
– А вот и не факт! – не согласился Покровский. – Кроме того, протославяне вполне возможно могут быть даже не ровесниками, а предками шумеров.
– Товарищ профессор, держите себя в руках, – перешел на тенор Александров, – я очень уважаю протославян, но давайте не переходить границы. Будь среди нас шумеролог, он бы уже пять минут с Вами дрался.
– Ничего подобного! – засмеялся Покровский. – Как раз шумеролог воспринял бы мои слова всерьёз!
– Я, вероятно, пропустил парочку Нобелевский премий по истории, пока преподавал ее в Университетах, – покачал головой Александров.
– Вы знаете, как шумерологи приветствуют друг друга на своих ежегодных конференциях? – продолжил Покровский. – «Скажи мне как шумеролог шумерологу: кто такие шумеры?»
– Мы в курсе, что происхождение шумеров на сегодняшний день остаётся нерешенной проблемой, – кивнул Александров.
– Абсолютно нерешенной! – добавил Покровский. – Нет даже доминирующей гипотезы на этот счет. Но есть один интересный факт… Как вы, конечно же, знаете, шумеры в Междуречье не автохтоны, они пришельцы.
– Есть такая теория, – согласился Александров.
– Спустились они в южную Месопотамию с северо-востока, из страны, которую они называли Аратта. Что это за страна и где она находилась, не известно. Но известно самоназвание шумеров – черноголовые. А это значит, что в Аратте, откуда они вышли (или их изгнали) они жили среди нечерноголовых, ибо нет смысла выделять себя каким-то признаком, когда все кругом имеют такой же признак. Таким образом, население Аратты было светлоголовым.
– Ну, вывод так себе, хлипкий, – поморщился Латыш.
– Ничего не хлипкий! – оживился Голицын. – Психология полностью подтверждает данную закономерность построения самоназваний!
– А так как на северо-восток от Месопотамии расположена явно не Европа, а например, Ростов-на-Дону, то делайте выводы, – закончил мысль Покровский.
– Всё это безумно интересно, – оживился Александров, – но противоположность черному не всегда белое. Соседями Шумеров были Тибетцы и у них население делилось на черноголовых и краснолицых. Никаких светлоголовых у них не было.
– Да, краснолицыми они называли обезьян, – согласился Покровский, – причем либо обезьян в полном смысле этого слова, либо, что более вероятно, диких жителей гор, которые на тот момент могли являться еще не вымершими предками человека – неандертальцами или денисовцами – и представлять собой действительно полуобезьян. Но это Тибет. А теперь включите логику. Аратту шумеры считали страной высоких технологий. И если они, шумеры, что-то делали на высшем уровне, лучше, чем обычно, то говорили: «Сделано, как в Аратте». Так кто же были те носители более высоких технологий из Аратты? Краснолицые? Обезьяны?! Исключено. А значит, противоположность черноголовым в случае шумеров – никак не краснолицые! И получается, что шумеры, передавшие всему человечеству уникальные технологии, включая письменность, этим технологиям научились у кого?
– У славян! – крикнули хором Олеся и Голицын.
– То, что славяне – молодой народ, ввели в научный оборот Байер, Мюллер и Шлёцер в середине 18 века, – продолжил Покровский, – а до этого все русские и европейские историки считали, что славяне после Вавилонского столпотворения вышли одновременно со всеми другими народами из Сеннаарской равнины, которая как раз в Месопотамии, а затем ушли на север, где обитают и по сей день.
– Ну, батенька, – развел руками Александров, – если Вы будете ссылаться на средневековых авторов, которые черпали информацию из Библии, то так Вы и до плоской Земли доберётесь.
– А Вы предлагаете ссылаться на полуграмотных немцев, которые тремя своими книжонками перечеркнули труды всех историков, творивших на протяжении шести ста лет до их появления на свет?
– Шести ста лет… Вы еще наскальные рисунки приравняйте к научным статьям.
– Между прочим, Ваши любимые немцы изучали историю исключительно по трудам средневековых и древних историков и соглашались с их выводами о древности всех народов Земли. Вот только славян они решили омолодить на три тысячи лет, засунуть в норы, а затем превратить в людей стараниями Шведских проходимцев. Чем же славяне им так не угодили?
– Мне кажется, Вы подменяете факты эмоциями…
– А я Вам скажу… Потому что славяне разгромили Римскую империю, нагнули Византию…
– А почему они называют друг друга на ВЫ? – тихо спросила Олеся у Латыша.
– Это такая стадия научной дискуссии, – шепнул в ответ Латыш, – после неё следует стадия мордобоя.
– Ой, как интересно! – подсела поближе Олеся.
– Факты, факты, дорогой профессор, где факты? – размахивал руками Александров.
– А как Вам тот факт, что только славяне именуются от «слава»!
– А, вот тут Вы и попались! Большинство историков склоняется к тому, что славяне не идентифицировали себя со славой и называли себя не «славяне», а «словене», то есть люди, которые говорят понятные слова. В отличие, например, от немцев, говорящих непонятные слова.
– Да ладно, что за чушь! – возмутился Голицын.
– К сожалению, это доминирующая гипотеза, – ответил Покровский, – Эти дебилы-историки с Айкью дождевого червя не задаются вопросом, а почему тогда все остальные народы не называли себя «словене» на своём языке? Они же все говорили понятными для себя словами. Почему итальянцы не «пароли», а англичане не «спики»?
– Значит, славяне называли себя славянами всё-таки от «слава»? – переспросила Олеся.
– А вот и нет. Не могли они себя так называть. Я убеждён, что это не самоназвание. В противном случае, опять же, почему все народы не называли себя «славяне». Ведь все народы считали себя славными, никто не считал себя трусливым. Я убежден, что славян так называли их соседи. Недаром византийский император Юстиниан именовал себя Славянским и очень гордился этим. А Византийская империя, между прочим, в те времена воевала против славян. Так что вполне возможно, что славян так именовали не только соседи, но и враги.
– Это Вы у кого вычитали? Про врагов… – возмутился Александров.
– Послушайте, я профессор кафедры палеонтологии, автор семнадцати монографий, трех учебных пособий и одного двухтомника «Гоминиды Кавказа и Средней Азии», я сам в состоянии делать выводы!
– Я тоже не студент и я заявляю – превосходство древних славян над другими народами – это ересь!
– Да сами Вы ересь! – вспыхнул Голицын.
– Вы-то куда лезете! – крикнул академик.
– Так, мальчики, спокойно, – улыбнулся Латыш и выставил вперед свою гигантскую ладонь.
– Еще один перешел на «Вы», – засмеялась Олеся, посмотрев на Голицына.
Спорщики посмотрели на Голицына и тоже засмеялись.
– У вас там, кажется, славянская кость неизученного возраста, – напомнил Латыш, кивнув в сторону реки, – может, перейдете от теории к практике?
Покровский посмотрел на часы и на Александрова. Тот кивнул. Покровский понял, что анализ биоматериала завершен и надо любым способом удалить с берега психолога.
– Кузьмич, бери Латыша и идите за дровами, – сказал он, – А мы с тобой, – Покровский обратился к Олесе, – спустимся и сделаем соскоб. Ты, – он кивнул Голицыну, – вымой посуду.
– С каких пор посуду моет не Олеся? – возмутился Голицын.
– С тех пор, как мы прибыли на место, и она занялась своими прямыми обязанностями младшего научного сотрудника.
– Тогда я займутся своими прямыми обязанностями!
– Какие же обязанности в археологической группе у психолога?
– Я буду руководить!
– Но группой руковожу я.
– Тогда я буду руководить Олесей, – эти слова Голицын произносил уже на бегу, догоняя Олесю, спускавшуюся к воде
Когда он скрылся за краем берега, довольный собой Покровский подошел к радиографу, у которого замерли в недоумении Александров и Латыш.
– Ну что? – спросил он.
– Четыреста пятьдесят семь миллионов лет, – еле слышно выговорил Александров.
– Сколько?! – воскликнул Покровский.
– Именно столько…
– Хорошенькие дела… Но как такое может быть?
– Не знаю…
– А я знаю, – ответил Латыш, – шандец твоему радиографу. Ты его в воду не ронял?
– Он водонепроницаемый, – в задумчивости произнёс Покровский.
– Никуда я его не ронял, – растеряно ответил Александров. – Вот видишь зелёный индикатор? Если он горит, значит с прибором всё в порядке.
– Ну значит кабзда твоему зелёному индикатору, – сказал Латыш.
– Так, сейчас вернётся Олеся, – торопливо произнес Покровский, – мы в присутствии чекиста заложим второй соскоб на анализ. Кузьмич, можно будет сделать так, чтобы тут что-то мигало, пищало, но не работало?
– Конечно, – ответил Александров и набрал комбинацию на клавиатуре. – «Демо-режим» еще и не такое способен. Вот. Через час косточке будет три тысячи лет.
– Прекрасный академический возраст! – обрадовался Покровский. – Заложим и через час покажем психологу. А с радиографом мы потом разберемся, кабзда ему или шандец.
Олеся и примкнувший к ней Голицын показались на берегу. Голицын нес контейнер, зажав его пальцами и оттопырив мизинец.
– Ага, куда тут совать? – со знанием дела спросил он, нависнув над радиографом.
Александров открыл крышку. Внутренности прибора заморгали, как новогодняя ёлка.
Олеся отобрала контейнер у Голицына и аккуратно выложила его содержимое на стеклянную площадку. Раздался писк, заиграла музыка, и прибор сказал что-то по-китайски.
– Готово, – произнес Александров и закрыл купол. – Ну что, теперь – копать!
Когда группа вновь оказалась у стены, Латыш незаметно для всех сообщил Олесе о возрасте найденной ею кости.
– А я тебе говорила, говорила! – шепотом прокричала она на ухо Латышу. – Так кого надо гнать из аспирантуры?!
Тем временем Покровский распределил обязанности.
– Латыш, продолжай идти вглубь. Может тебе удастся дойти до начала кладки. Мы с Кузьмичом обработаем первый сектор изнутри. Олеся, у тебя рука счастливая, ты занимайся хозяином бедренной кости, попробуй еще что-нибудь найти.
Олеся и Голицын кивнули.
– Эй, руководитель! – Покровский метнул в Голицына лопатой. – И ты копай. Только не рядом с Олесей. У нее сейчас работа ювелирная. Вон, к Латышу иди.
Ближайший час не обогатил археологию новыми открытиями. Упрямый и старательный Латыш врылся в землю ниже уровня Тунгусски, Покровский с Александровым нашли еще парочку трилобитов, Олеся, исчезнувшая за высоким краем центральной секции, не подавала признаков жизни, Голицын, опершись на лопату, кидал камушки в воду. Все, кроме Голицына, понимали, что главное открытие – человеческое бедро, поставившее под сомнение теорию эволюции вместе со всеми остальными теориями о происхождении жизни на Земле – было уже сделано. Осталось скрыть это открытие от чекиста и его хозяев, чем Покровский планировал заняться уже через минуту.
– Ну что, не пора? – обратился он к Александрову, показав взглядом в направлении радиографа.
– Пора, пойду, посмотрю. – ответил Александров и стал подниматься по веревке на берег.
– И я посмотрю, – сказал Голицын и направился за академиком.
– А ты куда, копай, Солнце еще высоко! – окликнул его Покровский.
Но Голицын даже не обернулся.
– Наглый стал, – подмигнул Покровский Латышу.
– Пойду воды принесу, – подмигнул в ответ Латыш и тоже полез наверх.
– Иван Моисеевич! – услышал вдруг Покровский отчаянный шепот. Он обернулся. Олеся манила его рукой.
– Я не хотела при Голицыне. Посмотрите, что я нашла!
Покровский подошел к тому самому месту, где была найдена кость.
– Посмотрите сюда, – Олеся показала пальцем за стену.
С обратной стороны стены лежал человеческий череп.
– Ого! – произнес Покровский. – Это уже интересно!
Он взял череп и осмотрел его. Череп был необычного размера, раза в два больше человеческого, и имел сильно вытянутый затылок.
– Точно такой вытянутый череп Петухов нашел на Алдане, – сказала Олеся.
– Таких вытянутых черепов много, – ответил Покровский.
– Я читала, что древним младенцам стягивали головы дощечками, чтобы затылки вытягивались. Мода была такая на вытянутые затылки.
– Олеся, когда читаешь выводы академиков, всегда включай мозги, – посоветовал Покровский. – Про дощечки, которыми стягивали головы младенцев, чтобы вытянуть черепа – это полный бред, переходящий в бред.
– Почему?!
– Ну, попробуй, стяни себе голову дощечками! Или даже тугим полотенцем, а я на тебя полюбуюсь. Через час у тебя глаза на лоб полезут, а еще через пару часов ты потеряешь сознание от боли. По несколько часов в день… несколько месяцев подряд… сплющивать досками голову! Иногда удивляешься беспредельной профессорской тупости. Да ребёнок через пять минут сорвёт к чертям такую повязку. Так что, ему руки тоже связывали? Почему они тогда не деформировались или вообще не отсохли?
– Да, действительно… Получается, черепа сами по себе такие?
– А что здесь удивительного? Просто еще не откопали того нулевого гуманоида, от которого такие черепа произошли. Откопают – будет новая глава в учебниках.
– Но ведь тогда получится, что предок такого существа – не обезьяна?
– Почему? У мартышковых, например, есть представители с вытянутыми черепами.
– Но ведь ветки человекообразных обезьян и мартышек разошлись двадцать пять миллионов лет назад. И человеки пошли от человекообразной ветки, а не от мартышковой.
– Ну а почему кто-то из мартышковой ветки не мог повторить эволюционный путь того же Проконсула? Попал в те же условия и повторил. Ведь сколько их было, параллельных веток обезьян, которые могли стать человеком. Европейские ореопитеки, например, уже семь миллионов лет назад передвигались на двух ногах. А это на два миллиона лет раньше, чем на две ноги встали африканские предки человека – ардипитеки. Но ореопитекам не повезло с погодой в Европе, и они вымерли. Кстати сказать, павианы параллельно с австралопитеками три миллиона лет назад обитали в саванне и боролись за пищевые ресурсы. Австралопитеки проиграли павианам эту борьбу и вынуждены были перейти на питание мясом, отчего их мозг, якобы, и начал развиваться. Но ведь по этому пути могла пойти какая-нибудь незадачливая группа павианов, которая также не смогла отстоять свой растительный кусок и перешла на мясной рацион. И вот тебе, пожалуйста, параллельная линия развития представителей мартышкообразных, которая через три миллиона лет превратилась в людей с характерными вытянутыми черепами. Только промежуточные формы, доказывающие этот процесс, мы еще не откопали. Мы промежуточную форму между обезьяной и человеком нашли лет тридцать назад. Так может через пять лет отроют какого-нибудь павианопитека. Вот только с этими дощечками к тому времени нужно решительно покончить.
– Иван Моисеевич, но этому черепу четыреста пятьдесят семь миллионов лет, тогда мартышек еще не было. Вообще никого не было.
– Вот это хоть режь меня, я никак объяснить не могу. Получается, что либо обезьяны появились раньше трилобитов, либо человек произошел не от обезьяны.
– Может и не от обезьяны, – загадочно произнесла Олеся и заговорщицки посмотрела на Покровского, – а что Вы скажете на это? – она взяла череп в руки и повернула так, чтобы Покровский увидел его изнутри.
С обратной стороны черепа прямо из лобной кости торчал полупрозрачный камень красного цвета, размером чуть больше вишнёвой косточки.
Покровский несколько секунд молча смотрел на находку, не понимая, как это объяснить.
– Обратите внимание, – сказала Олеся, – ни трещины, ни шва, камень как будто врос в череп.
И действительно, костная ткань так органично облегала камень, как будто тот являлся естественным внутренним органом.
– Не понимаю, как это возможно, – задумчиво сказал Покровский, вращая череп в руках. – Что за чудеса древней медицины! В любом случае, эту голову надо срочно спрятать от посторонних глаз.
Он убрал череп в кофр и полез наверх, надеясь незамеченным проскочить мимо Голицына. У палаток стоял Александров и возился с радиографом. Голицына рядом не было. Покровский оглядел берег и увидел, что психолог со своим рюкзачком семенит к краю леса.
«Ага, – обрадовался Покровский, – сейчас я и послушаю, о чём ты там постукиваешь…»
Он, прижав кофр с черепом к груди, поспешил за Голицыным, держась на некотором отдалении. Голицын углубился в заросли метров на пятьсот и оказался на небольшой полянке. Лес кругом был редкий, и подобраться к чекисту близко было невозможно. Поэтому Покровский притаился за разросшимся кедром, откуда можно было расслышать разговор. Рассмотреть аппаратуру психолога возможности не было: выглянув, Покровский оказался бы перед Голицыным, как на ладони.
Вдруг послышался треск сучьев, и Покровский с изумлением услышал абсолютно незнакомый голос:
– Сообщи: возраст костного биоматериала четыреста пятьдесят семь миллионов лет.
Голос говорил резко и по-хозяйски
– Есть! – послышался тихий ответ Голицына.
"Это кому же сам Голицын говорит «Есть»?!" – первый вопрос Покровского быстро сменился более интересным: "Откуда здесь взялся незнакомый человек?!"
И на первый, и на второй вопрос интуиция и здравый смысл давали только один ответ: "Это невозможно". Поверить в то, что в таежной глуши живет какой-то Робинзон Крузо, Покровский не мог. Так же как и в то, что за группой сначала шесть дней плыл, а потом семь дней незримо, не разжигая костра, шел Рембо-одиночка.
– И еще… – продолжил неизвестный голос, – алданские образцы Петухова у Олеси Родиной.
Покровского словно ударило током! Единственное слово, произнесенное с едва уловимой знакомой интонацией, было "Олеся". В нем Покровский узнал искаженный до неузнаваемости командирскими нотками голос Латыша. В ту же секунду всё встало на свои места. Еще по дружескому общению со своим бывшим одногруппником, а ныне работником следственного комитета Покровский знал, что внедрение в банду своего человека – это большая удача, но высший пилотаж – это внедрение сразу нескольких агентов. В результате после разоблачения одного агента остальные на какое-то время остаются вне подозрения. Покровский понял, что игру против психолога и тех, кто его сюда направил, он проиграл. Данные об истинных результатах экспедиции через минуту будут на Лубянке и это уже никак не остановить. Покровскому оставалось только перейти к плану "Б". Но его не было…
Притаившись за деревом, Покровский проводил взглядом удаляющуюся в сторону лагеря широкую спину Латыша и услышал голос психолога, который точь-в-точь передавал своим хозяевам полученную информацию.
– Есть действовать по основному варианту, – после небольшой паузы завершил сеанс связи Голицын.
"По основному варианту…" Покровскому со страху представились сразу три \основных варианта: ликвидировать группу сейчас, ликвидировать ее по дороге в Бор и ликвидировать ее сразу по прибытии в Бор или Енисейск. Если речь идет о «сейчас», то медлить нельзя, нападать надо первыми и внезапно, иначе им с Кузьмичом не справиться с двумя подготовленными ФСБэшниками.
Ружья лежали в палатке, но туда уже направился Латыш. Прикончить Голицына в лесу Покровскому не представлялось возможным: у него не было оружия, а Голицын вполне мог иметь при себе нож или что посерьезнее. Если был запланирован вариант мгновенной расправы, тогда Александров и Олеся уже мертвы – Латыш минуту назад добрался до лагеря. В этом случае задача Покровского – спрятать бесценную находку и попытаться выжить самому. Стоп! Олеся… Латыш передал, что кости с Алдана находятся у Олеси. А это значит, что она нужна живой. Покровский с облегчением выдохнул: тяжелая перспектива сиюминутной смертельной перестрелки его угнетала, он понимал, что не готов к ней. Да, пожалуй, ликвидировать группу сейчас не в их интересах: продолжать путь по тайге, не имея огромного опыта – смертельно опасно, а у Латыша такого опыта нет, Покровский умел определять это по признакам, известным только бывалым путешественникам. У Голицына опыта походов не было тем более. Без сомнения, уверенный в своей безупречной конспирации Латыш примет решение добраться с группой до Енисейска. А там уже его коллеги примут меры. А это значит, что у Покровского есть время для спасения своей жизни и жизни своих товарищей.
Размышляя так, Покровский проследовал за Голицыным до лагеря и остановился на краю леса. На берегу всё было спокойно, Александров, живой, возился у радиографа, Латыш собирал инструмент для расчистки образцов и явно собирался спускаться к месту раскопок, чтобы продолжить работу. Лучшего момента для того, чтобы пройти чуть вглубь леса и спрятать череп, не было.
Вдруг где-то в небе послышался странный шум, который доносился со стороны воды. Покровский обернулся и увидел, что все обитатели лагеря замерли и смотрят вверх. Он посмотрел в этом же направлении и заметил две черные точки, которые быстро увеличивались. Шум усиливался, и через несколько секунд точки превратились в два летящих прямо на лагерь вертолета.
«Ай да основной вариант! – пронеслось в голове у Покровского. – Недооценил я чекистов. Действительно, Чего тянуть! Латыша, Олесю и Голицына со всеми находками эвакуируют, остальных в расход.»
Не успел он продолжить мысленную цепь предполагаемых событий, как от вертолетов отделились четыре ярких шара. Дальше все было как в замедленном кино: огненные шары полетели прямиком на замерших от удивления людей. Покровский увидел, как Латыш метнулся к краю берега, но одна из светящихся стрел ударила прямо в то место, где он очутился. Земля взвилась к небу вперемешку с камнями, пламенем и клубами дыма. Ещё три гигантских земляных столба возникли там, где глядя в небо, сидел у своего аппарата Александров и стояли палатки. Покровского тряхнуло и сшибло с ног. Лежа меж поваленных стволов, он наблюдал, как снаряды один за одним отделялись от зависших над водой вертолетов, как взлетали в небо огромные и бесформенные куски глины вперемешку с каменными глыбами, бывшими секунду назад стеной древнего города, как гигантские сосны, словно спички, кувыркались и падали в Тунгуску, поднимая фонтаны брызг. Но наблюдал он это недолго: одна из ракет медленно полетела прямо на него, светясь, как маленькое солнце. Перед самым концом Покровский понял замысел организаторов экспедиции. Этот замысел был единственно правильным в данной ситуации и предельно очевидным с самого начала: уничтожить всё, что выходит за рамки придуманной кем-то официальной исторической доктрины…
Это была его последняя мысль.
