Дети, столкнувшиеся со смертью и насилием. Комплексная психологическая помощь
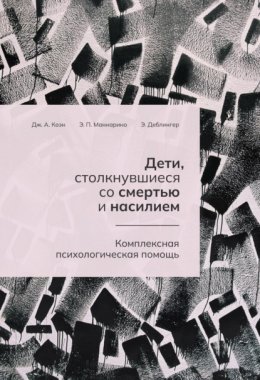
Перевод с английского Ирины Садовниковой
Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents
SECOND EDITION
Judith A. Cohen
Anthony P. Mannarino
Esther Deblinger
New York London
2017
В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.
© The Guilford Press, 2017
© Издание на русском языке, оформление
ООО «Издательство “Генезис”», 2025
Об авторах
Джудит А. Коэн, доктор медицины, профессиональный психиатр, специализируется на работе с детьми и подростками. Медицинский директор Центра борьбы с травмирующим стрессом у детей и подростков при Общем госпитале Аллегейни в Питтсбурге, Пенсильвания, преподаватель психиатрии в Медицинском колледже университета Дрексел. С 1983 года занимается исследованиями в области обследования и лечения детей, перенесших психическую травму. Вместе с Энтони П. Маннарино и Эстер Деблингер разработала и протестировала подход, сфокусированный на травме, в когнитивно-поведенческой терапии при работе с детьми и не участвовавшими в их травматизации родителями. Была одним из председателей Американского профессионального общества по защите детей от жестокого обращения (American Professional Society on the Abuse of Children, APSAC) и Международного общества по изучению травматического стресса (International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS). Лауреат премии им. Сары Хейли за выдающиеся достижения в области медицины от ISTSS, премии за выдающиеся профессиональные достижения от APSAC и премии Ригера за научный вклад от Американской академии детской и подростковой психиатрии (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, AACAP). Соавтор выпущенных ISTSS терапевтических рекомендаций по работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), основной автор практических стандартов ААСАР терапии ПТСР у детей и подростков. Консультирует по вопросам терапии травматического стресса у детей в некоммерческой организации Sesame Workshop и по программе помощи выжившим после трагедии (Tragedy Assistance Program for Survivors).
Энтони П. Маннарино, PhD, руководитель Центра борьбы с травмирующим стрессом у детей и подростков, заместитель главы психиатрического отделения Общего госпиталя Аллегейни, преподаватель психиатрии в Медицинском колледже университета Дрексел. С 1980-х гг. один из ведущих специалистов в области травматического стресса у детей, провел обширные исследования по клиническому течению симптомов травматического стресса у детей и по разработке эффективных подходов к лечению детей с травматическим опытом и их родственников. Обладатель нескольких наград, в том числе премии «Статья года» от журнала Child Maltreatment, издаваемого APSAC (Американским профессиональным обществом по защите детей от жестокого обращения), а также премии «Наследие» Психологической ассоциации г. Питтсбурга. Возглавлял APSAC и отдел по вопросам жестокого обращения с детьми Общества по вопросам политики и практики взаимодействия с семьей и детьми Американской психологической ассоциации, ведет активную клиническую практику.
Эстер Деблингер, PhD, преподаватель психиатрии в школе остеопатической медицины в Роуэнском университете в Стратфорде, Нью-Джерси, соучредитель и содиректор института CARES (образование и работа в области исследований жестокого обращения с детьми). Проводила обширные исследования по изучению влияния жестокого обращения с детьми на психическое здоровье, лечения посттравматического стрессового расстройства и других проблем, связанных с жестоким обращением. Автор многочисленных научных статей, соавтор книг в области профессиональной и детской образовательной литературы. Часто выступает с докладами на конференциях местного, национального и международного уровня, входила в правление Американского профессионального общества по защите детей от жестокого обращения. Обладательница нескольких наград, в том числе премии APSAC за выдающиеся достижения в научной карьере и премии Розенберри от детской больницы Колорадо. Помимо административной, исследовательской и преподавательской деятельности, ведет активную клиническую практику и осуществляет супервизию.
Предисловие
Эта книга появилась в результате пересмотра и дополнения предыдущего издания [48], в котором мы описывали использование когнитивно-поведенческой терапии, сфокусированной на травме (ТФ-КПТ[1]), при работе с детьми с травматическим стрессом, в том числе с детской травмой утраты. В ней нашли отражение наши собственные результаты и более ранние базовые выводы, сделанные Эдной Фоа и другими специалистами. Также обновленное издание содержит итоги недавних исследований в области ТФ-КПТ не связанной с нами группы ученых и плоды наших постоянных совместных усилий по распространению и внедрению ТФ-КПТ в сообществе практикующих психологов в США и за рубежом.
За последние 20 лет нам удалось получить от Национального института психиатрии финансирование нескольких исследований эффективности терапии и одного по внедрению и распространению подхода в наших центрах: в Центре борьбы с травмирующим стрессом у детей и подростков при Общем госпитале Аллегейни и в Институте образования и работы в области изучения жестокого обращения с детьми (Child Abuse Research Education and Service, CARES). Исследования с участием более 400 детей и их родителей проводились параллельно в этих двух центрах. Мы подтвердили эффективность когнитивно-поведенческой терапии, сфокусированной на травме, в работе с детьми со множественными психологическими травмами [36] и обнаружили, что ТФ-КПТ позволяет добиться особенно заметных результатов при работе с детьми, на момент начала терапии имеющими более высокий уровень симптомов депрессии [36].
Дополнительное рандомизированное исследование показало, что применение ТФ-КПТ в общественных учреждениях приводит к более заметным улучшениям при работе с детьми по сравнению с привычными терапевтическими методами, даже при очень краткосрочной (например, восемь сессий) терапии [50]. Весьма перспективной оказалась и разработанная нами модель детской травмы утраты [54, 58]. Другие группы исследователей подтвердили и дополнили эти результаты. Вот некоторые из них. ТФ-КПТ заметно облегчает симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), депрессии и улучшает общее психическое состояние у неоднократно травмированных молодых людей, проходивших лечение в государственных клиниках Норвегии [115]. При ТФ-КПТ значительно, по сравнению с контрольной группой, улучшается состояние при посттравматическом расстройстве, депрессии, тревоге, дезадаптивных установках, расстройстве адаптации и поведенческих проблемах среди неоднократно травмированных молодых людей в Германии, в том числе с комплексной травмой [99]. Существенно, по сравнению с контрольной группой, улучшается состояние при ПТСР, депрессии, тревоге и поведенческих проблемах у конголезских девочек с комплексными травмами, подвергавшихся коммерческой сексуализированной эксплуатации [163]. Учитывая значимость полученных результатов, мы считаем, что сейчас крайне важно распространять модель ТФ-КПТ среди практикующих терапевтов, поскольку именно они с наибольшей вероятностью сумеют помочь травмированным детям.
После событий 11 сентября 2001 года и создания Управлением службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA) Национального общества по вопросам детского травматического стресса (NCTSN; www.nctsnet.org) количество терапевтов, желающих обучиться ТФ-КПТ, выросло в разы. Их обучение принесло пользу не только им, но и нам. Изучавшие принципы ТФ-КПТ терапевты говорили нам, как лучше применить подход на практике в региональных учреждениях, особенно при работе с детьми из разных социальных слоев и/или с тяжелой клинической картиной и сложной ситуацией в семье. Мы постарались полностью отразить эти соображения в своей книге и благодарим всех врачей, поделившихся с нами своим опытом и наблюдениями.
Мы считаем, что успешному распространению и растущему практическому применению ТФ-КПТ способствовали несколько факторов. Во-первых, мощная существующая и продолжающая расти эмпирическая база существенно влияет на отношение к подходу руководителей учреждений и фондов, страховых компаний, частных терапевтов, а главное, родителей и детей. Знание о том, что этот подход ощутимо полезен большинству детей, зачастую помогает детям и их родителям решиться на терапию. Мы разработали стандарты для исследований ТФ-КПТ, включая требования к определению и мониторингу соответствия модели ТФ-КПТ.
Во-вторых, в 2003 году Национальный центр исследования и лечения жертв преступлений Медицинского университета Южной Каролины (MUSC) выбрал ТФ-КПТ в качестве основы для разработки своей первого онлайн-курса по изучению травм. В сотрудничестве с нами MUSC разработал дистанционный образовательный курс по ТФ-КПТ, TF-CBTWeb[2].
В-третьих, мы разработали и стандартизировали три программы обучения ведущих тренингов, консультантов и супервайзеров в ТФ-КПТ. Благодаря этим программам нам удалось сформировать внутри страны и за рубежом сообщество профессиональных преподавателей, организационных консультантов и супервизоров от учреждений в области ТФ-КПТ, которые способствуют распространению и использованию этого терапевтического подхода. Мы постоянно поддерживаем контакт со всеми выпускниками, информируем их о результатах исследований и методах обучения, а также следим за соответствием лечебному протоколу, поскольку его все чаще внедряют в практику и в США, и в других странах.
Наконец, в ответ на запрос терапевтов, лечащих учреждений и государственных органов мы разработали национальную программу сертификации терапевтов в области ТФ-КПТ[3]. Она необязательна, но многие терапевты хотят получить документальное подтверждение пройденного обучения и знакомства с соответствующими рекомендациями.
До недавних пор многие терапевты относились к лечебным руководствам скептически – возможно, они ассоциировались у них с догматичным и однотипным подходом к терапии. Однако, особенно после того, как SAMHSA включило ТФ-КПТ в перечень стандартных программ по работе с травмой у детей и по предупреждению химических зависимостей[4], на нас хлынул поток запросов на руководство по ТФ-КПТ, что привело к публикации первого издания этой книги. Опыт терапевтического сообщества, сформировавшийся в ходе обучения и консультирования, и результаты позднейших исследований способствовали подготовке обновленного издания.
Мы добавили главу с описанием всех исследований ТФ-КПТ, проведенных после публикации этой книги. Кроме того, поскольку в ходе трех исследований была доказана клиническая эффективность групповой ТФ-КПТ, в том числе для молодых людей с комплексными проявлениями травмы [151, 163, 165], мы включили главу с описанием применения ТФ-КПТ в групповой терапии. В связи с выходом новой номенклатуры DSM-5 и ее изменений в части ПТСР и травмы утраты мы обновили главу о диагностике. Мы значительно расширили раздел о влиянии травмы и о том, как, на наш взгляд, следует применять ТФ-КПТ в работе с молодыми людьми с комплексными травмами и сложной клинической картиной. Например, мы описали, как можно скорректировать этапы терапии при работе с детьми с тяжелыми поведенческими и/или аффективными расстройствами, возникшими в результате комплексной травмы [53]. Мы также учли недавние исследования, показавшие, что стандартное применение ТФ-КПТ без существенной корректировки продолжительности лечения в целом или соотношения его фаз оказывается достаточным для многих детей со сложной историей и/или картиной клинических проявлений [например, 188]. Разделы о травме утраты были расширены с учетом новых сложностей и неопределенностей в контексте критериев DSM-5, касающихся плохой адаптации к тяжелой утрате.
Во втором издании, как и в первом, три раздела: первая часть знакомит читателей с моделью ТФ-КПТ, во второй и третьей описаны компоненты модели, сфокусированные на работе с травмой и с утратой соответственно. (Тем не менее, и об этом упоминается в книге, на практике при терапии травмы утраты эти компоненты терапевтической модели нередко пересекаются). В книге не раз использован говорящий акроним, за которым скрывается описание компонентов ТФ-КПТ: PRACTICE. Каждый из компонентов терапии по модели PRACTICE[5] и терапии травмы утраты применяется в работе как с ребенком, так и с родителями, в нем учитываются культурные особенности, особенности развития и подхода к решению проблемных ситуаций в семье. Заканчивается книга кратким разделом, посвященным обзору и завершению терапии, и приложениями: приложение 1 содержит полезные материалы и памятки для семей, приложение 2 – список источников для детей, родителей и терапевтов, приложение 3 – вспомогательную информацию для терапевтов, приложение 4 – информацию об исследованиях эффективности ТФ-КПТ.
Надеемся, что новое издание книги окажется полезным для терапевтов, изучающих этот терапевтический подход. Вне зависимости от применяемого подхода к лечению недостаточно просто прочесть книгу о том, как он устроен. Для того чтобы по-настоящему понять, что такое ТФ-КПТ, его нужно применять на практике при работе с травмированными детьми. Разностороннее изучение данной терапевтической модели и применение ее на практике при консультативной поддержке опытного врача – лучший способ узнать, насколько этот подход эффективен при проработке травмы и утраты у детей и подростков. Будем рады вашим вопросам, комментариям и отзывам о модели ТФ-КПТ, которые, несомненно, помогут нам в работе над будущими изданиями книги.
Благодарности
В течение нескольких лет работы над этой книгой своим опытом и наблюдениями нам помогали наши друзья и коллеги – профессионалы в разных областях. Ведению работы во многом способствовала благоприятная атмосфера Общего госпиталя Аллегейни и института CARES, где мы работаем. Кроме того, наши усилия по разработке терапевтической модели были бы невозможны без той поддержки и помощи, которую оказывали нам наши коллеги в обоих учреждениях. Особенно ценными догадками и предложениями с нами поделились терапевты и супервизоры, применявшие ТФ-КПТ в наших клиниках и исследованиях, и мы не устаем благодарить их за их ценнейший вклад.
Мы благодарим фонды, поддержавшие наши разработки и исследования: Национальный центр жестокого обращения с детьми и безнадзорности (NCCAN, ныне Офис по вопросам жестокого обращения с детьми и безнадзорности, OCAN), Национальный институт психического здоровья (NIMH), Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA), Еврейский фонд здравоохранения Питтсбурга, фонд «Стаунтон фарм» в Питтсбурге, фонд университета медицины и стоматологии Нью-Джерси, фонд им. Роберта Вуда Джонсона и фонд Роуэн.
Мы благодарим своих коллег из Национального общества по вопросам детского травматического стресса (NCTSN) и сотрудников SAMHSA за все те программы по работе с травмой в США, которые существуют благодаря финансовой поддержке этого учреждения. Также мы благодарим других специалистов по вопросам жестокого обращения с детьми и детских травм, которые в ходе пересмотра книги постоянно вносили конструктивные предложения, чтобы книга в большей степени отвечала потребностям терапевтов в государственных учреждениях, работающих с травмированными детьми. Едва ли возможно поименно перечислить всех друзей и коллег, оказавших нам помощь; с кем-то из них мы знакомы уже тридцать лет, а с кем-то познакомились не так давно. При разработке и тестировании ТФ-КПТ нам помогли их неизменная профессиональная и личная поддержка и одобрение. Выражаем отдельную благодарность коллегам из Национального центра исследований и лечения жертв преступлений Медицинского университета Южной Каролины, поделившимся с нами ценными наблюдениями о роли социокультурного контекста при применении этой модели и разработавшим описанный выше онлайн-курс.
Разработка, уточнение и проверка на практике компонентов терапии травмы утраты у детей осуществлялись, в том числе, при поддержке Комитета по травме утраты у детей Национального общества по вопросам детского травматического стресса. Наши коллеги из Центра борьбы с травмирующим стрессом у детей и подростков при Общем госпитале Аллегейни Тамра Гринберг, Сьюзан Падло, Кэрри Сислоу и Карен Стубенборт особенно помогли нам на ранних этапах разработки концепции компонентов травмы утраты у детей, и мы благодарны им за этот важный вклад.
Мы очень признательны своим родным за их терпение, любовь и заботу.
Наконец, мы благодарим всех детей и родителей, которые доверились нам в очень непростой для них жизненный период. Нам повезло у них учиться. Благодаря им мы еще раз убедились в том, насколько важна связь между детьми и родителями и какой целительной силой она обладает.
Мы посвящаем эту книгу всем детям, с которыми мы работали, а также нашим детям и внукам.
Часть I
Когнитивно-поведенческая терапия, сфокусированная на травме. Обзор и теоретическая основа
Глава 1
Влияние травмы и утраты на ребенка и семью
Что такое детская травма?
Многие дети[6] по мере взросления переживают стрессовые события. Они сталкиваются со сложными, потенциально трудными, болезненными и стрессовыми ситуациями, такими как развод родителей или смерть любимого взрослого родственника. Тем не менее эти переживания обычно не считаются травмирующими, поскольку травмирующее событие – по определению иное.
В пятом издании «Диагностического и статистического руководства по психическим болезням» (DSM-5) [9] было пересмотрено определение событий, классифицируемых как «травмирующие» (то есть могущие привести к характерным для травмы диагнозам, например, посттравматическому стрессовому расстройству). Теперь в него включается то, что ребенок непосредственно переживает, видит или узнает, что связано с фактом или угрозой смерти, серьезными травмами или сексуализированным насилием [9, с. 271].
В неполный перечень вариантов травмирующих событий входят:
– физическое, эмоциональное или сексуализированное насилие над ребенком, регулярное оставление ребенка без присмотра;
– ситуации, когда ребенок оказывается свидетелем или прямой жертвой домашнего, уличного или школьного насилия;
– серьезные дорожно-транспортные происшествия и/или другие несчастные случаи;
– природные и антропогенные катастрофы;
– насильственная или внезапная смерть одного из родителей, брата или сестры либо иной фигуры привязанности;
– вовлечение в военные или террористические события, пребывание в статусе беженца;
– множественные или комплексные травмы.
Сейчас ведется оживленная дискуссия о том, не понимается ли детская травма в DSM слишком узко – ив плане классификации потенциально травмирующего опыта, и в отношении характера травм. Существует мнение, что необходимо пересмотреть обе концепции и выработать новую систему диагностики [24].
Многим детям, получившим подобный опыт, хватает запаса психологической прочности, и устойчивые признаки травмы у них не появляются. Вероятность возникновения у ребенка психологических трудностей зависит от нескольких факторов, в том числе от уровня развития, врожденной или приобретенной психологической устойчивости и наличия поддержки извне. Реакция ребенка на травмирующее событие обусловлена возрастом и уровнем развития. Так, при кратковременной травме маленькие дети, по всей видимости, в большей степени зависят от реакции на нее родителей, чем дети более старшего возраста (вне зависимости от силы травмирующего события). Если родители успешно справляются сами и способны оказать поддержку ребенку, то у него, скорее всего, не возникнет серьезных или длительных симптомов травмы [135]. Однако если речь идет о раннем длительном негативном опыте в межличностном общении, то чем младше ребенок, тем более серьезные травматические симптомы у него могут проявиться. У маленьких детей еще не развиты способности к анализу и саморегуляции, они не понимают, когда человек, который должен их защищать, не в состоянии это сделать либо даже сам совершает насилие [139, с. 22–24]. Таким образом, в зависимости от характера травмирующих обстоятельств малый возраст может быть и преимуществом, и отягчающим фактором.
Также к подтвержденным факторам, существенно влияющим на развитие травматической реакции у детей, относятся объем и качество эмоциональной поддержки, которую они получают на фоне травмы. В ходе двух исследований результатов когнитивно-поведенческой терапии, сфокусированной на травме (ТФ-КПТ) [41, 44–46], было установлено, что родительская поддержка во многом является залогом психического здоровья детей. Лечащие специалисты тоже имеют возможность изучать и моделировать родительскую поддержку.
Родители могут поддерживать столкнувшегося с травмой ребенка различными способами:
– заверять ребенка в том, что всегда будут рядом и смогут защитить его;
– выказывать любовь и поддержку;
– выражать уверенность, что все наладится;
– учить ребенка способам эмоциональной и поведенческой саморегуляции;
– показывать ребенку, что верят в него.
Сходные (а порой те же самые) стрессогенные ситуации могут очень по-разному влиять на детей в зависимости от их врожденной психологической устойчивости, усвоенных механизмов преодоления трудностей, внешних источников физической, эмоциональной и социальной поддержки. Даже те стрессогенные факторы, которые единогласно признаются травмирующими (например, когда человек стал жертвой изнасилования или свидетелем убийства), одни дети переживают легче, чем другие.
Эту разницу хорошо иллюстрируют совершенно непохожие картины переживаний двух 13-летних девочек, изнасилованных преступниками, с которыми они познакомились онлайн. В обоих случаях девочка считала, что идет в спокойное место на первое оффлайн-свидание с 15-летним мальчиком; в обоих случаях на деле девочка столкнулась с мужчиной гораздо более старшего возраста, который силой усадил ее в машину, отвез в безлюдное место и жестоко изнасиловал, оскорбляя и обвиняя в происходящем ее саму. Обе девочки через несколько месяцев рассказали об изнасиловании родителям. Родители поверили дочерям, поддержали их и обратились за помощью. Ни одной из девочек раньше не ставили психиатрический диагноз. У одной девочки проявились умеренные симптомы ПТСР. Другая страдала от сильнейших проявлений ПТСР и депрессии, занималась самоповреждением (резала себя), употребляла психоактивные вещества и прогуливала школу, у нее возникли проблемы с гендерной идентичностью. Первая девочка считала, что изнасилование произошло по вине насильника. Вторая девочка верила, что ее изнасиловали, потому что она «тупая и никчемная, как он [преступник] и сказал». Такие значимые различия в установках связаны с принципиально разными типами преодолевающего поведения (и, возможно, с врожденной психологической устойчивостью, обусловленной генетическими или иными факторами) и с особенностями терапевтического вмешательства в одном и другом случае.
Нередко наблюдается заметная разница в реакциях на одни и те же травмы даже при переживании одних и тех же ужасных событий родными братьями и/или сестрами в одной и той же семье.
Так, в одной ситуации 10-летний мальчик и 13-летняя девочка регулярно оставались без присмотра матери, которая была наркозависимой. Однажды ее несколько дней не было дома, а затем дети нашли ее тело в прихожей. По-видимому, она скончалась от передозировки. У мальчика развились сильнейшие симптомы ПТСР, а у его сестры не наблюдалось никаких признаков ПТСР или горя по поводу смерти матери, она лишь злилась на мать, и у нее были проблемы с поведением.
В другой ситуации, связанной с длительным бытовым насилием, отец застрелил мать на глазах у детей, убил младшего сына, а затем покончил с собой. Все оставшиеся в живых дети были свидетелями этого. Однако они очень по-разному отреагировали на произошедшее. У 7-летней девочки развились сильные симптомы ПТСР. У 14-летнего мальчика отсутствовали явные признаки ПТСР или депрессии, но у него возникли серьезные проблемы с агрессией, требовавшие пребывания в стационаре. У 12-летней девочки проявились только умеренные симптомы депрессии, она сосредоточилась на заботе о младшей сестре. Очевидно, что такая разница в реакциях определяется многими причинами, но суть в том, что переживание травмы зависит не только от силы травмирующего события, но и от индивидуальной реакции на него ребенка.
Разброс в реакциях связан с особенностями восприятия ребенком травмирующих событий и их осмысления по отношению к себе, с наличием семейной и иной поддержки, с преодолением вызванного событиями психологического и физиологического стресса и с интеграцией этих событий в более широкое самоощущение. В частности, когда дети переживают травмы межличностного общения (к ним относят, например, жестокое обращение, насилие в семье, трагическую смерть), у них не только развиваются «типичные» реакции ПТСР, такие как сильный навязчивый страх, дезадаптивные убеждения или повышенная возбудимость. Зачастую им очень нелегко дается потеря основной фигуры привязанности и определенной роли в семье. Дети нередко говорят о том, что труднее и болезненнее всего справляться с последующими изменениями.
Одну девочку-подростка мать фактически забросила, а наркодилеры матери принуждали ее к проституции с целью получения прибыли. Девочка заботилась о младших братьях и сестрах и ради этого часто прогуливала уроки и недоедала. После того как учителя сообщили о прогулах, служба защиты детей изучила дело и забрала детей у матери. Старшая сестра и младшие дети попали в разные приемные семьи. Вскоре после этого мать скончалась от передозировки героина. В начале лечения девочка сказала, что «хуже всего» для нее то, что ее забрали у матери и разлучили с младшими. Она обвинила службу защиты детей в смерти матери, ведь они увезли детей из дома и лишили ее возможности «присматривать за мамой». Она постоянно беспокоилась о младших детях и ужасно злилась на «систему» за то, что ее семью разрушили. У нее были симптомы ПТСР, связанные с сексуализированным насилием и безнадзорностью, но важнее всего оказалось проработать симптомы, возникшие на фоне разлуки с младшими детьми и потери роли их защитницы. Такая реакция была вполне объяснима в контексте ее восприятия того, что помогало выжить ее семье.
Предлагаемая нами терапевтическая модель, как и любая другая, не универсальна. Она подходит не всем детям, пережившим травмирующий опыт, а только тем, у кого возникли связанные с травмой эмоциональные или поведенческие проблемы («травматические реакции»), работа с которыми является мишенью ТФ-КПТ.
Эти реакции на травму часто, но не всегда, соответствуют симптомам ПТСР. Даже в отсутствие всех диагностических критериев ПТСР ТФ-КПТ может помочь ребенку. У некоторых детей могут почти не наблюдаться классические симптомы ПТСР, но возникать иные травматические реакции. В следующем разделе и, в частности, в следующей главе описано, что реакция детей на травму может включать аффективную, поведенческую, физиологическую, когнитивную дисрегуляцию, нарушение межличностных отношений, привязанности и/или восприятия. ТФ-КПТ приносит пользу детям с широким спектром симптомов. При этом не каждый поведенческий или эмоциональный симптом обязательно связан с пережитой ребенком травмой. Эффективность ТФ-КПТ зависит от того, насколько тщательно и профессионально была проведена первичная диагностика и определена формулировка кейса. Этот процесс подробно описан в следующей главе.
Кроме того, модель ТФ-КПТ можно адаптировать под нужды конкретного ребенка. Например, ребенку с комплексной травмой может потребоваться больше терапевтических сессий (до 25), что изменит соотношение этапов ТФ-КПТ по сравнению с описанным; в начале терапии больше времени уйдет на выработку базовых навыков стабилизации и возвращение чувства безопасности [53].
Также далее будет подробно описан процесс применения ТФ-КПТ у детей, столкнувшихся с травмой утраты. В нашем понимании травма утраты у детей проявляется в возникновении отчетливых и ярко выраженных симптомов травмы после смерти родителя, брата или сестры либо другой значимой фигуры привязанности, которые наблюдаются наряду с обычными реакциями горевания, что приводит к сопутствующей травме и дезадаптивным реакциям горевания. По-прежнему ведутся споры о том, как лучше всего определять, описывать и диагностировать травматические, сложные или дезадаптивные реакции на горе в процессе развития. Самый свежий пример – включение в классификацию DSM-5 стойкой осложненной реакции утраты в качестве «объекта для дальнейшего изучения» [9, с. 789]. Вне зависимости от того, какой статус эти вопросы получат в будущем, для улучшения психического здоровья детям необходимо эффективное терапевтическое вмешательство, особенно если симптомы не проходят в течение нескольких месяцев или даже лет после смерти значимой фигуры привязанности. Наш терапевтический подход к травме утраты последовательно объединяет компоненты работы с травмой и утратой таким образом, что как только ослабевают симптомы травмы, терапевт помогает ребенку и родителю вернуться к более естественному процессу горевания. Компоненты терапии, сфокусированной на травме, описаны в части II этой книги, а компоненты терапии, сфокусированной на работе с горем и утратой, – в части III.
Признаки травмы
Мы используем термин признаки (или симптомы) травмы для обозначения аффективных, поведенческих, когнитивных, физических, межличностных затруднений, непосредственно соотносящихся с травматическим опытом. Зачастую, но не всегда, эти признаки соответствуют симптомам ПТСР, однако в их число также входит множество других симптоматических проявлений, преимущественно связанных с депрессией, тревожностью, проблемами с поведением и/или употреблением психоактивных веществ. У детей в результате полученного травматического опыта может значительно меняться восприятие самих себя, мира и/или других людей. Эти изменения отражаются на их установках и эмоциональных реакциях; и то, и другое зафиксировано в последней версии DSM-5 в разделе о негативных изменениях в настроении и восприятии в связи с травмой (кластер D). Обнаруживается все больше доказательств того, что у многих травмированных детей происходят психобиологические изменения, которые, возможно, способствуют развитию и поддержанию этих психологических проявлений.
Мы разделили эти проявления на несколько основных категорий:
– аффективные;
– поведенческие;
– когнитивные;
– межличностные;
– симптомы комплексной травмы;
– биологические симптомы.
Это разделение несколько условно, поскольку сферы во многом пересекаются. Например, два важнейших изменения, которые могут произойти после травмы, – потеря значимого объекта привязанности и слом семейных ролей. Мы решили включить их в категории аффективных, когнитивных и межличностных проблем, но их вполне можно было бы вынести в отдельную категорию.
Симптомы травмы часто возникают в ответ на напоминания о травме (их еще иногда называют триггерами). Напоминания о травме — это внутренние или внешние сигналы, которые актуализируют непосредственный травматический опыт ребенка. Напоминанием о травме могут служить люди, места, вещи, разговоры, то или иное времяпрепровождение, предметы, ситуации, мысли, воспоминания, звуки, запахи или внутренние ощущения, которые ассоциируются у ребенка с травмирующим событием (событиями). Когда ребенок сталкивается с напоминанием о травме, он может испытывать чувства, схожие с теми, что он испытал непосредственно во время травмы. В результате ребенок начнет думать и действовать так, как если бы вновь столкнулся с травмирующим событием, даже если сейчас он в безопасности.
Один преступник громко угрожал девочке, чтобы запугать ее и заставить не рассказывать о физическом и сексуализированном насилии. Впоследствии девочка оказалась в приемной семье, и когда приемная мать и учителя, призывая ее к порядку, повышали голос, она злилась и становилась неуправляемой. Однажды после того, как приемная мать резко ее одернула, она испугалась, что та применит к ней силу, и сбежала. Ни сама девочка, ни приемная мать не понимали, что так она реагирует на громкую и резкую речь, поскольку это напоминает ей о травме. Как только они осознали это на терапии, им удалось выработать успешные альтернативные стратегии поведения.
Дети часто оказываются в терапии из-за поведенческой или аффективной дисрегуляции, а не из-за самой травмы. Особенно это касается подростков с комплексной травмой, у которых значительная дисрегуляция наблюдается во многих сферах. Поскольку родители и другие взрослые часто не понимают, что эти проблемы связаны с предшествующим травматическим опытом, очень важно распознать, идентифицировать и соотнести напоминания о травме и текущие травматические проявления ребенка. Это помогает членам семьи осознать, что проблемы ребенка представляют собой реакцию на травму, что затем часто позволяет им принять потребность ребенка в терапевтической проработке травмы.
У детей, переживающих травму утраты, тревогу вызывают также напоминания об утрате и об изменениях. Напоминание об утрате побуждает ребенка вспомнить об умершем человеке. К подобным напоминаниям относятся фотографии и разговоры об умершем человеке, дни рождения и юбилеи, значимые праздники. Напоминания об изменениях — это сигналы, вызывающие мысли о том, какие изменения произошли в образе жизни или личности ребенка после смерти близкого.
Например, ребенок вырос в семье военного и рядом с другими семьями военных. Когда его отец погибает, семье приходится переехать и жить рядом с семьями гражданских. В результате ребенок теряет не только отца, но и привычный образ жизни. А его мать после смерти мужа становится единственным кормильцем семьи, и поэтому ребенок может страдать не только от потери отца, но и от значительных изменений в привычном образе жизни.
Аффективные проявления травмы
В число общих аффективных признаков травмы входят страх, грусть, признаки депрессии, гнев и/или тяжелая эмоциональная дисрегуляция (то есть частые перепады настроения и/или трудность с проживанием негативных эмоций).
Страх — это одновременно и инстинктивная, и усвоенная реакция на пугающие ситуации. В ситуации угрозы жизни дети испытывают страх инстинктивно; вегетативная нервная система реагирует на воспринимаемую опасность активным высвобождением адреналина и норадреналина, которые еще больше усиливают тревогу. Страшные воспоминания кодируются в мозге иначе, чем воспоминания, не связанные с травмой. Впоследствии некоторые дети при воздействии чего-либо, напоминающего о травмирующем событии, испытывают такую же физиологическую и психологическую реакцию страха (например, ребенок, попавший в серьезное ДПТ с жертвами, может испытывать ужас, проезжая мимо места аварии). Позднее реакция страха может стать генерализованной, иными словами, безобидные встречи, места, вещи или ситуации, напоминающие ребенку о травмирующем событии, будут вызывать такой же по силе страх, как и первоначальная травма (например, ребенок начнет бояться ездить в автомобиле в принципе). Повторяющиеся страшные воспоминания характерны при ПТСР; у детей могут возникать навязчивые, пугающие мысли днем, а ночью им могут сниться кошмары. Содержание кошмаров у маленьких детей может казаться не связанным с травмирующим событием, им могут сниться другие пугающие вещи. У совсем маленьких детей говорить о наличии ПТСР может появление новых страхов (внешне не имеющих отношения к травме, кроме близости во времени) [193].
Вследствие внезапной травмы могут появиться не только конкретные страхи, но и общая повышенная тревожность. Из-за тревожности ребенок может базово не чувствовать себя в безопасности, быть слишком уязвимым, постоянно быть настороже, чтобы ничто не могло застать его врасплох. Чувство грозящей опасности может мешать детям выполнять задачи, соответствующие их уровню развития, но при этом они будут взваливать на себя чрезмерную для их возраста и уровня зрелости ответственность. Или ребенок забросит школу, отстранится от сверстников и родных и начнет демонстрировать упреждающую агрессию, считая это единственным способом выжить. Повышенная тревожность может приводить к парентификации ребенка, его стремлению выполнять в семье функции взрослого или к тому, что он будет стараться быть «идеальным», чтобы избежать возможных угроз в будущем. Могут закрепиться настороженность, постоянное ожидание угрозы, иные вызванные тревогой формы поведения. Все это препятствует здоровой адаптации и может привести к развитию сопутствующего генерализованного тревожного расстройства либо иных сопутствующих заболеваний.
После травмы ребенок может начать испытывать чрезмерную грусть или депрессивные чувства. Они могут развиться в ответ на резкую потерю доверия к людям и к миру (например, на потерю невинности, веры или надежды на будущее). Многим травмированным детям пришлось столкнуться с потерей чего-то довольно конкретного, и это вызывает у них сильную печаль. Чаще всего сильная печаль, тоска по фигуре привязанности и страстное желание с ней воссоединиться проявляются у ребенка после пережитой смерти или трагического (возможно, внезапного) расставания с родителем (например, из-за ареста), помещения ребенка в приемную семью либо других обстоятельств. На фоне желания воссоединиться с умершим родителем или фигурой привязанности у ребенка с травмой утраты могут возникнуть навязчивые суицидальные мысли. Некоторые дети в результате травмы сталкиваются с реальной утратой и могут сильно затосковать. Так, ребенок, которого ранили или сбили машиной, который пострадал от физического насилия, которого сильно избили или обожгли, зачастую ощущает физическую боль, а также страдает от потери функции или изуродованности какой-либо части тела. Сексуализированное насилие может привести к болезненным повреждениям половых органов и/или одному или нескольким заболеваниям, передающимся половым путем. Из-за пожара или стихийного бедствия ребенок может лишиться личных вещей, дома или кого-то из близких. Вследствие таких реальных потерь у детей нередко возникают негативные убеждения или мысли (см. далее), которые во многом способствуют развитию депрессивного или иного негативного эмоционального состояния.
Из-за свойственного детскому возрасту эгоцентрического взгляда на мир ребенок может винить себя в произошедшем, а это, в свою очередь, способно привести к таким симптомам депрессии, как вина, стыд, самоуничижение, ощущение собственной никчемности и даже желание умереть. Негативное представление о себе – серьезная проблема для многих травмированных детей. Оно может провоцировать неудачный выбор друзей и партнеров, саморазрушающее поведение. Злоупотребление алкоголем и наркотиками, нанесение себе порезов, небезопасный секс, попытки суицида – все это тесно связано с жестоким обращением и иными травмами. В итоге могут возникать сильная печаль и иные симптомы депрессии, которые классифицируются в рамках кластера D ПТСР (негативные изменения в настроении).
Гнев может проявиться в ответ на чувство несправедливости по отношению к травмирующему событию, иными словами, если ребенок чувствует, что «не заслужил» травму. У некоторых детей, особенно тех, кто столкнулся с физическим насилием или травлей, гнев может возникнуть тогда, когда они видят, что взрослые не справляются с трудностями или фрустрацией. У детей, страдающих от насилия в семье, может развиться травматическая привязанность [11, с. 39–41], при которой происходит идентификация с агрессором (мы еще поговорим об этом подробнее в этой главе). У травмированных детей гнев может выражаться как непослушание, непредсказуемые вспышки ярости, истерики или физическая агрессия в виде порчи вещей или причинения вреда другим людям. Дети, пережившие сексуализированное насилие, могут начать демонстрировать сексуализированную агрессию. Важно помнить, что у некоторых детей значительные проявления гнева или проблемы с внешним поведением могут предшествовать травмирующим событиям. В том числе поэтому так важно тщательно собирать анамнез и формулировать диагноз и только потом делать вывод о том, что терапия травмы подойдет конкретному ребенку.
Дети с сильной или длительной травмой могут стать крайне восприимчивыми и чрезмерно остро реагировать на то, что напоминает им о травме (например, на поведение или ситуации, которые ассоциируются у них с прежними травмирующими событиями). Так, в ходе одного исследования было установлено, что дети, столкнувшиеся с физическим насилием, намного сильнее реагируют на гневное выражение лица (для них это напоминание о травме), чем дети, у которых не было подобного опыта [171].
У детей с комплексной травмой обычно развивается дисфункциональная чувствительность или злость по отношению к отвержению, поскольку в их опыте отвержение со стороны родителей или других людей предваряло абьюз или иные травмирующие действия. У тяжело травмированных детей часто наблюдается нарушение аффективной регуляции, то есть внезапные перепады настроения и/или крайние эмоциональные реакции, сопровождающиеся трудностями эмоциональной саморегуляции. Тяжелое нарушение аффективной регуляции чаще возникает у детей, переживших множественные или комплексные травмы (например, жестокое обращение или домашнее насилие; о них поговорим далее), чем у детей, переживших одно непреднамеренное травматическое событие.
Далеко не всегда после травмы дети получают заботу и поддержку. Зачастую родители не могут предложить хороший способ справиться с произошедшим и преодолеть тяжелое эмоциональное состояние. Именно они иногда наносят ребенку комплексные травмы, потому что после травмирующего события игнорируют, обесценивают или даже наказывают ребенка за выражение страха, печали или гнева. Например, ребенку, ставшему свидетелем домашнего насилия, родитель-агрессор велел «заткнуться», после чего избитая мать выпорола его и накричала на него. Таким образом родители не только проигнорировали обоснованные эмоции ребенка, не утешили и не успокоили его, не помогли ему справиться с тяжелым состоянием, но и через наказание усугубили его эмоциональную дисрегуляцию.
У травмированных детей также наблюдаются нейрофизиологические изменения, в том числе хроническое повышение уровня гормонов стресса и адренергических нейромедиаторов, в частности, эпинефрина (адреналина), которые усложняют процесс эмоциональной регуляции [62]. Иными словами, нарушения эмоциональной регуляции у хронически травмированных детей могут носить и психологический, и физиологический характер.
Поведенческие проблемы
Пытаясь избежать болезненных ощущений, дети могут выработать такое поведение, которое помогает им защищаться от боли, но при этом может привести к еще большим трудностям. Отличительной чертой ПТСР является избегание. Чтобы не сталкиваться с невыносимыми отрицательными эмоциями, дети пытаются избегать напоминаний о травме: мыслей, людей, мест или ситуаций, ассоциирующихся с травмирующим опытом. При сильной генерализации напоминаний о травме возможно значительное ограничение занятий, соответствующих уровню их развития, а это может привести ко вторичным проблемам.
Так, девочку, которая в темное время суток подверглась сексуализированному насилию, по ночам стал мучить страх. Он постепенно нарастал, и через какое-то время она уже не могла ночью находиться в незнакомой обстановке, непереносимыми для нее стали даже те ситуации, в которых раньше она чувствовала себя комфортно, в том числе ночевки у друзей. В результате она все меньше общалась и все больше впадала в уныние; она также начала думать, что насилие произошло с ней потому, что с ней «что-то не так, у нее нет друзей».
Старшеклассник с нетрадиционной сексуальной ориентацией подвергся травле, его жестоко избили и изнасиловали в душе после урока физкультуры. Он перестал принимать душ даже дома. Это привело к проблемам с личной гигиеной и еще большему издевательству и социальному отвержению. Все это подтолкнуло его к серьезной попытке самоубийства.
Детям обычно трудно, а порой и невозможно полностью избежать напоминаний о травме. Ребенку, ставшему свидетелем неоднократного насилия в семье, о травме могут напоминать оба родителя. Если он постоянно сталкивается с уличным насилием, то напоминанием о травме может стать весь его район. Если напоминания о травме чрезмерно генерализованы, то избегание как способ справиться с ее последствиями редко оказывается полезным в длительной перспективе. Когда избегание не помогает защититься от сильных негативных эмоций, может развиться эмоциональное оцепенение или, в более тяжелых случаях, диссоциация.
Связанное с травмой поведение также может появляться в связи с усвоением определенных поведенческих моделей или развитием травматической привязанности [11]. Дети, растущие в жестокой или агрессивной семье или среде, часто наблюдают и поэтому усваивают дезадаптивные модели поведения и стратегии преодоления трудностей, особенно если на их глазах подобное поведение неоднократно подкрепляется.
Например, ребенок, переживший физическое и домашнее насилие, по ошибке может решить, что гнев и насилие – это приемлемые способы справиться с фрустрацией. Если ребенок вдобавок видит, что родитель-агрессор контролирует жизнь семьи, задает эмоциональный фон, распоряжается финансами и т. д., тогда как родитель-жертва регулярно находится в состоянии бесправия и бессилия, он может прийти к выводу, что побои – это хорошо и даже выгодно.
В качестве другого примера можно привести моделирование сексуализированного поведения в результате сексуализированного насилия. Если подвергшийся сексуализированному насилию ребенок узнает, что такое поведение почему-либо хорошо (либо потому что дает насильнику власть над жертвой, либо потому что физически стимулирует), у этого ребенка может развиться сексуализированное поведение.
Наконец, еще один пример – главарь местной банды или торговец наркотиками. Если у окружающих такие люди вызывают уважение и восхищение, если их агрессивное, жестокое или незаконное поведение одобряется, то дети могут сделать вывод о желательности такого поведения и начнут его копировать, если в их ближайшем окружении нет альтернативных позитивных моделей.
Травматическая привязанность включает в себя усвоение некорректного поведения и развитие дезадаптивной привязанности. Человек в случае такой привязанности довольствуется надуманными объяснениями неадекватного поведения. В психоаналитической литературе это описывается как идентификация с агрессором, а в юридической практике – как стокгольмский синдром. Когда ребенок находится под контролем жестокого или агрессивного родителя, а другой родитель едва ли может защитить себя или ребенка, естественные детские потребности в привязанности и принадлежности к родительской семье искажаются и становятся противоречивыми. В подобной ситуации трудно в равной степени сохранять связь с обоими родителями, не испытывая при этом сильного замешательства и не чувствуя противоречий. Часто такие дети одновременно боятся жестокого родителя и любят его, а возможно, сами испытали на себе жестокое обращение, если пытались защитить родителя-жертву. Из чувства самосохранения они могут привязаться к жестокому родителю.
Чтобы справиться с чувством вины и внутренним противоречием из-за отстранения от пострадавшей стороны, ребенок может перенять взгляды, отношение и поведение абьюзера по отношению к жертве и сам начать проявлять жестокость или агрессию. Например, избивающий родитель может обвинять жертву в своем поведении (например: «этого бы не было, если бы ты вовремя приготовил(-а) ужин»), а развивший нездоровую привязанность ребенок может выражать гнев или агрессию по отношению к пострадавшему родителю за то, что тот «заставил» абьюзера прибегнуть к избиению. Поэтому усвоение поведенческих моделей и выработка травматической привязанности могут способствовать агрессивному поведению травмированных детей.
От травматической привязанности также страдают девушки и молодые люди, пережившие коммерческую сексуализированную эксплуатацию. Подобная привязанность часто усиливает поведенческие признаки травмы после принуждения к занятиям проституцией и может приводить к возвращению к эксплуататору и прежней жизни, к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, воровству, лжи, вовлечению других в сферу оказания сексуальных услуг за деньги и/или агрессии по отношению к другим жертвам сутенера с целью угодить последнему или поддержать иерархию среди его «девочек». Такое поведение часто связано с представлениями молодых людей о преступнике, о чем мы подробнее поговорим далее.
У детей могут появиться и другие виды обусловленного травмой поведения. Например, они часто избегают здорового, соответствующего возрасту общения со сверстниками, предпочитая общаться с детьми с похожими эмоциональными и поведенческими проблемами. Выбор друзей у травмированных детей в первую очередь связан с негативной самооценкой, характерной для многих из них. Они могут опасаться отвержения со стороны «нормальных» сверстников и воспринимать общение с теми, кто оказался в похожей ситуации, например, с теми, кто подвергается жестокому обращению, как нечто более привычное и комфортное.
Возникающий у многих травмированных детей гнев обычно проявляется в форме протестного, агрессивного и/или деструктивного поведения. Травмированные дети чаще подвержены злоупотреблению алкоголем и наркотиками; так они могут убегать от напоминаний о травме, бороться с негативным самовосприятием, а порой зависимость возникает в результате общения с другими детьми со сложной историей.
Самоповреждения (порезы, ожоги и др.) и суицидальное поведение тоже связаны с детской травмой. Некоторые склонные к самоповреждению дети говорят, что для них это способ выйти из оцепенения и хоть что-то почувствовать. Например, один подросток сказал: «Я понимаю, что я настоящий, только когда чувствую боль от пореза». Кто-то таким способом может привлекать внимание, когда больше ничего не работает. Кто-то за счет попыток причинить себе ощутимый вред справляется с отчаянием и невыносимой болью. Некоторые говорят, что самопорезы помогают им справиться с тревогой.
Также разновидностями рискованного поведения при травме выступают небезопасное сексуальное поведение, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, безответственное использование огнестрельного или иного оружия и другие виды неосторожного поведения, где высок риск нанести себе или кому-то еще серьезную травму или даже погибнуть. Опасное и саморазрушительное поведение настолько характерно для травмированных людей, что его включили в DSM-5 в качестве нового диагностического критерия ПТСР [9, с. 272].
Поскольку поведение некоторых подростков представляет значительную опасность, начинать терапию следует с работы по укреплению ощущения безопасности, чтобы снизить негативные поведенческие проявления. В крайних случаях (например, активное суицидальное поведение) для стабилизации состояния необходима госпитализация подростка, и только после этого можно переходить к когнитивно-поведенческой терапии, сфокусированной на травме.
Еще одна поведенческая проблема, которую часто упускают из виду, – взятие на себя ребенком непомерной ответственности (парентификация). Очень часто травматический опыт у детей вызван психическими заболеваниями родителей, их злоупотреблением изменяющими сознание веществами и/или сопутствующими факторами. При таком развитии событий один ребенок может взять на себя обязанности по уходу за младшими детьми и/или проблемным или больным родителем. Со временем семья начинает ждать от ребенка, что он станет заботиться о других членах семьи, а ребенок начинает считать, что это его обязанность, и в результате он берет на себя слишком много. Положение дел зачастую сохраняется, даже если он оказывается вдали от дома. Нередко важная задача терапии – помочь такому ребенку вести себя в соответствии со своим уровнем развития (то есть научить его «быть ребенком»).
Когнитивные искажения, появившиеся вследствие травмы
Вследствие детской травмы у детей (и родителей) могут поменяться установки (мысли), касающиеся их самих, виновника (виновников) травмы, других людей, правил взаимодействия в социуме и мира в целом. Пережив травмирующее событие, дети зачастую задаются вопросом, почему с ними или с кем-то из их близких случилось подобное. Если найти рациональное объяснение ребенку не удается, у него могут появиться ошибочные или иррациональные представления о причинно-следственных связях, которые в какой-то степени дают ему ощущение контроля и предсказуемости. На фоне очень распространенного иррационального убеждения дети винят себя. Они либо берут на себя ответственность за произошедшее («Меня изнасиловали, потому что я надела короткую юбку»), либо укоряют себя за то, что не предвидели и не предотвратили его («Мне нужно было догадаться, что папа разозлится, и предупредить маму, чтобы она была хорошей, тогда бы он ее не избил»; «Мне нужно было предупредить брата, чтобы он не ходил в школу, тогда бы на обратном пути в него не выстрелили»). Или, даже не обвиняя себя в произошедшем напрямую, ребенок может решить, что он плохой, неправильный или просто какой-то не такой, и поэтому «заслуживает» того, что случилось («Наверное, со мной это случилось потому, что я глупый»). Таким образом, мир остается справедливым и предсказуемым, а происходящее – закономерным; просто они заслуживают того, что с ними произошло.
Дети, которых хронически травмируют в отношениях (например, ребенок сталкивается с жестоким обращением, бытовым насилием, остается без надзора), по-видимому, особенно склонны к возникновению подобных установок. Возможно, причина в том, что такие действия являются намеренными, адресными и обычно совершаются родителями или другими взрослыми, от которых ждут, что они будут защищать ребенка, а не причинять ему вред. Ребенку зачастую намного труднее и болезненнее понять, кто действительно несет ответственность за ситуацию (то есть обвинить родителя), чем обвинить себя.
Ошибочные установки могут развиться и в отношении других людей (то есть тех, кто никак не связан с полученной травмой). Дети могут обобщить свой опыт и, если их предал один человек, решить, что доверять нельзя никому. Подобное убеждение может привести к трудностям в общении со сверстниками или нарушению привязанности к родителю и другим взрослым, непричастным к травме. А это может способствовать нарушению самовосприятия у ребенка: ребенок подрывает отношения, а затем связывает разочарование со своими недостатками. Либо дети могут реагировать на предательство регулярными попытками «исправить» или устранить полученный опыт, стремясь к чрезмерно доверительным отношениям со сверстниками или взрослыми, с которыми может быть безопасно, а может и нет. Такая стратегия нередко приводит к дополнительному болезненному опыту в виде плохого отношения или отвержения неуместных или неоправданных притязаний ребенка на безоговорочную эмоциональную близость.
Пережив сексуализированное насилие, некоторые дети усваивают ошибочное представление («Меня будут любить, только если я буду заниматься с человеком сексом»). Финкельхор и Браун [85] описали это явление как травматическую сексуализацию и рассматривали его как основной фактор сексуализированного насилия. Подавляющее большинство молодых людей, занимающихся проституцией, в прошлом перенесли межличностную травму, более 70 % из них в детстве подвергались сексуализированному насилию [213]. Очень часто те, кто занимается проституцией, поначалу описывают сутенера не как агрессора, а как бойфренда или человека, который «заботится обо мне больше, чем кто и когда бы то ни было». В основе таких описаний зачастую лежат давние дезадаптивные убеждения о том, что значит состоять в романтических отношениях, например: «Чем сильнее тебя любят, тем сильнее ранят»; «Ни одни настоящие отношения невозможны без насилия»; «Побои для него просто способ показать, что он обо мне заботится». Корректировка подобных убеждений – важнейшая часть успешной терапии [52].
У травмированных детей также могут развиться убеждения, подкрепляющие потерю веры в справедливость, бога или счастливое будущее. Такое мышление может привести к поведенческому выбору, который станет самосбывающимся пророчеством.
Например, у одного подростка старший брат и несколько друзей погибли насильственной смертью. Это привело его к дезадаптивному убеждению в том, что он вряд ли доживет до двадцати лет, а значит, нужно попытаться как можно больше успеть попробовать в жизни. Он начал употреблять наркотики, вступил в банду и бросил школу. Такое поведение сильно уменьшило его шансы на нормальное будущее; помимо того что он получил массу дополнительных травм, его на несколько лет посадили в тюрьму по серьезному обвинению в употреблении наркотиков и использовании огнестрельного оружия. Его собственные негативные ожидания, «предсказания» о том, что ничего хорошего его не ждет, привели именно к тому исходу, которого он больше всего опасался.
Разлука с фигурами привязанности и потеря семейных ролей – частая проблема, с которой сталкиваются дети с межличностной травмой, но степень травматичности этих событий может сильно зависеть от связанных со случившимся установок ребенка. Например, после того, как 13-летняя девочка рассказала о сексуализированном насилии со стороны отца, он стал это отрицать. В отцовской семье никто не верил, что он насиловал дочь. У нее всегда были близкие отношения с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, она была крестной своего маленького племянника, а после ее рассказов ей больше не разрешали с ними видеться. Девочка очень тяжело переживала разрыв с бабушкой и дедушкой, а особенно невозможность видеться с крестником, с которым раньше она сидела каждую неделю. Теперь она считала так: «Это моя вина. В насилии не было ничего ужасного. Мне не нужно было об этом рассказывать, как он и велел. Теперь у меня больше ничего нет».
У детей могут появиться не только ошибочные убеждения, как в примерах выше, но и верные, но непродуктивные установки. Они также способны усиливать негативное эмоциональное состояние, поскольку оторваны от контекста объективной реальности либо сфокусированы только на негативных аспектах ситуации. Например, установка: «Неизвестно, кто тебя изнасилует» может быть верной в данном контексте, однако настолько же верной может быть и другая: «Большинство мужчин никогда не насилуют детей». Очевидно, что первая мысль порождает страх и приводит к избеганию, тогда как вторая, тоже будучи верной, обнадеживает и вселяет уверенность. Травмированные дети часто концентрируются на ошибочных и/или непродуктивных установках, которые усиливают их негативные ожидания от других и деструктивное отношение к самим себе. Перечисленные когнитивные искажения в значительной степени способствуют сохранению ПТСР, различных форм тревожности, проблем с поведением и депрессии.
Изменения в межличностных отношениях
У травмированных детей нередко происходят изменения в межличностных отношениях. В более легких случаях дети могут отдаляться от сверстников, переставать радоваться привычным занятиям. Со временем стремление к уединению может в той или иной степени мешать социальному взаимодействию. Если ребенок испытывает стыд или полученный им травмирующий опыт стигматизирован, он может скрывать произошедшее даже от близких друзей. Это меняет характер дружбы, при том что именно в такой период ребенок больше всего нуждается в близких отношениях.
Девочку изнасиловал дядя во время ночевки у него. Она рассказала об этом родителям, и они посоветовали ей никому об этом не говорить, потому что «эта тайна не должна выйти за пределы семьи». Девочке было стыдно, она растерялась и стала бояться спать где-то вне дома. Она перестала оставаться на ночь у лучшей подруги, и та обиделась, что на приглашения ей регулярно отвечали отказом. Подруга решила, что с ней больше не хотят дружить, и девочка потеряла дружбу именно в тот момент, когда больше всего нуждалась в ней. Таким образом девочка пострадала от потери нескольких фигур привязанности (любимой тети, жены насильника, к которой ей больше не разрешали ходить, и лучшей подруги, решившей, что с ней больше не хотят общаться). Она утратила свою роль в качестве племянницы и лучшей подруги, а и то, и другое для нее было важно. Родители сказали ей, что, раз она больше не девственница, то теперь «хорошие» мальчики не захотят иметь с ней дело, и это привело к дополнительной потере части идентичности.
Родители, которые наносят ребенку серьезные или длительные межличностные травмы (например, жестоко с ним обращаются, оставляют без присмотра, допускают насилие в семье), также разрушают первичную детско-родительскую привязанность, которая лежит в основе обучения и усвоения модели будущих доверительных межличностных отношений. А это, как правило, влечет за собой серьезные последствия: такие дети зачастую сталкиваются с постоянными трудностями при попытке выстроить новые отношения, поскольку сама возможность доверительных отношений служит им напоминанием о травмировавшем их родительском поведении. Как отмечалось выше, после травматического опыта некоторые молодые люди чувствуют, что в привычном круге общения не поймут произошедшего с ними, и начинают сходиться с девиантными сверстниками, полагая, что только те знают, что значит чувствовать себя не таким, как все, быть изгоем. Подобное общение может повысить риск получения дополнительного травмирующего опыта и привести более серьезным травматическим последствиям.
Комплексное ПТСР
На фоне ранних межличностных травм, особенно нанесенных теми, кто осуществляет уход за ребенком (например, плохое обращение, бытовое насилие в семье), у некоторых детей возникает и усиливается сильная общая дисрегуляция во многих сферах жизнедеятельности. ПТСР относительно недавно, в 1980 году, классифицировали в DSM как отдельный диагноз. Было несколько инициатив по оценке необходимости включения в классификацию комплексного ПТСР в качестве подтипа ПТСР или отдельного расстройства (например, расстройство, связанное с травмой развития) для лиц, у которых развиваются последствия комплексной травмы, связанные с детским травматическим опытом. Формально в DSM-5 комплексное ПТСР не представлено в качестве самостоятельного диагноза, однако в выпущенной в 2018 году 11-й редакции Международной классификации болезней [МКБ-11, Всемирная организация здравоохранения] оно рассматривается в качестве отдельного заболевания.
Разница между комплексным и обычным ПТСР заключается в следующем:
1) люди с комплексным ПТСР пережили длительную по воздействию травму (чаще межличностного характера);
2) помимо основных маркеров ПТСР: вторжения, избегания и чувства угрозы, у людей с комплексным ПТСР наблюдаются отчетливая аффективная дисрегуляция, негативные представления о себе и нарушения межличностных отношений [34].
У подростков с комплексным ПТСР также наблюдаются заметная диссоциация, биологическая дисрегуляция и рискованное поведение.
Хотя до сих пор не существует единого инструмента оценки последствий комплексной травмы у детей и подростков, в ходе исследований ТФ-КПТ изучались различные сферы жизнедеятельности – те же, на которые обычно влияет комплексная травма. Поскольку изначально ТФ-КПТ разрабатывалась для терапии детей, переживших сексуализированное насилие (прообраз комплексной травмы), неудивительно, что ТФ-КПТ показала эффективность при работе с теми проблемами, с которыми столкнулись подростки с комплексной травмой.
В главе 4 мы упоминаем, что результаты нескольких исследований подтвердили положительный эффект ТФ-КПТ на молодых людей с комплексной травмой и ее последствиями [например, 36, 52, 151, 161, 163]. В ходе недавнего исследования в Германии сравнивали детей, у которых наблюдались перечисленные в МКБ симптомы комплексного ПТСР, с детьми с симптомами ПТСР. В обеих группах после ТФ-КПТ наблюдалось значительное улучшение по сравнению с состоянием детей в контрольной группе, при этом улучшения наблюдались у детей и с комплексным, и с обычным ПТСР. Подробнее о том, как применять ТФ-КПТ при работе с детьми и подростками с комплексной травмой, можно прочитать в следующих главах и в других работах [53].
Физиологические изменения
Тело и мозг ребенка целостно включены в его развитие, проявление эмоций, мышление и поведение. Важно понимать, что все, даже незначительные, поступки, мысли и чувства человека связаны с мозговой активностью. Поэтому неудивительно, что травма может изменить функционирование мозга. Когда подобные изменения влияют на мозговую активность в течение длительного периода (в отдельных случаях еще очень долго после окончания травматического воздействия), они могут привести к сохранению многих уже описанных травматических симптомов. Иногда хронические функциональные изменения также приводят к структурным изменениям мозга.
Физическая структура мозга может меняться: это означает, что до определенной степени структура мозга зависит от того, как он функционирует. Например, количество рецепторов головного мозга для различных нейромедиаторов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от многих факторов, в том числе наличия и интенсивности стресса. Известно, что стресс влияет на гуморальную и гормональную регуляцию и мозга и других частей тела, что, в свою очередь, приводит к физиологическим реакциям, таким как учащенное дыхание и сердцебиение, рост артериального давления, приток крови к скелетным мышцам, повышенная активация.
Детская травма, в особенности ПТСР, связана с хроническими физиологическими изменениями в данных областях. Иными словами, у травмированных детей в состоянии покоя могут наблюдаться учащенный пульс, повышенное давление, общее напряжение в теле и чрезмерная активация. У травмированных детей, в особенности у тех, кто перенес межличностную травму (например, жестокое обращение или насилие в семье), были зафиксированы и другие изменения в структуре и активности мозга. Так, согласно результатам одного исследования, подвергшиеся сексуализированному, физическому или домашнему насилию дети имели меньший внутричерепной объем (размер мозга), более низкий показатель IQ, у них были хуже оценки, меньше объем мозолистого тела (часть мозга, которая соединяет левое и правое полушария) и более высокие показатели диссоциации, чем дети, у которых не было подобных травм в анамнезе. Более того, степень этих изменений напрямую коррелировала с продолжительностью негативного воздействия [63].
Поскольку деятельность и структура мозга меняются в зависимости от нашего жизненного опыта, мыслей, чувств и поведения, было бы разумно связывать возврат к более адаптивному с психологической точки зрения поведению с соответствующей нормализацией мозговой деятельности и, возможно, структуры мозга. Если развить мысль в этом направлении, то можно предположить, что терапевтическое (или иное) вмешательство, приводящее к восстановлению у ребенка эмоциональной, когнитивной и поведенческой регуляции, способно минимизировать или даже нейтрализовать неблагоприятное воздействие травмы на мозг и организм в целом. В частности, подобно тому, как после пережитой травмы развиваются новые нейронные связи, можно выработать новые реакции в противовес существующим реакциям страха. Наработка таких новых, более устойчивых реакций со временем может помочь полностью справиться с реакциями страха [59].
По мнению некоторых специалистов, к изменениям в мозге могут привести лишь определенные виды терапии (например, переработка движением глаз или методы телесной терапии), а КПТ и другие «разговорные» подходы не обеспечивают значительных изменений в мозге или теле травмированного ребенка. Мы полагаем, что вернуться к здоровой психофизиологической адаптации возможно различными способами, в том числе с помощью ТФ-КПТ. В настоящее время мы сотрудничаем с коллегами из нескольких учебных учреждений США для оценки воздействия ТФ-КПТ на нейронные связи и обращаем внимание на хорошо организованные нейробиологические исследования, в ходе которых применяются иные методы лечения травмированных детей. Нейробиологических исследований в области психотерапии травм еще очень мало, поэтому делать научно обоснованные выводы о влиянии терапии травм на нейронные связи детей пока рано. Тем не менее, даже если вызванные травмой функциональные или структурные изменения в мозге не являются обратимыми, как это предполагается в ТФ-КПТ и иных психотерапевтических подходах, это не умаляет ценность психотерапии как инструмента, позволяющего облегчить психологические симптомы травмы у детей, улучшить их способность к адаптации и качество жизни.
Травма утраты у детей
Травма утраты может возникнуть у детей в результате смерти значимой фигуры привязанности. Она выражается в виде отчетливых травматических признаков, отличающихся от обыкновенных реакций горя. Переживание травмы утраты у столкнувшегося со смертью ребенка приводит к описанным выше симптомам травмы, а также к сложным или неадаптивным реакциям на горе.
Травма утраты может развиться у ребенка в ответ на внезапную, насильственную или случайную смерть, в том числе на гибель в результате ДТП или иного несчастного случая, домашнего насилия, суицида, стихийных бедствий, войны или террористических актов. Однако травма утраты у ребенка может появиться не только в ответ на неожиданную, насильственную или внезапную смерть. Например, исследование детей и подростков школьного возраста показало, что у тех, кто пережил смерть одного из родителей в результате продолжительной болезни, вероятность развития ПТСР и дезадаптивных симптомов утраты была выше, чем у тех, кто пережил внезапную смерть родителя по естественной причине (например, от сердечного приступа) [121]. Это позволяет предположить, что травма утраты может развиться у детей, ставших свидетелями смерти от разных причин, в том числе тех, которые формально травмирующими не считаются.
Неосложненное горе
Люди по-разному реагируют на горе, и не существует единственно «правильного» или «нормального» способа прожить горе после смерти близкого человека. Неосложненным («типичным») горем называют процесс горевания, через который проходит большинство детей после смерти важной фигуры привязанности. Неосложненное горе, за исключением нескольких заметных отличий, напоминает большое депрессивное расстройство (БДР, или клиническую депрессию) [9, с. 126]. Например, основными чувствами при проживании горя выступают чувство опустошенности, печаль и тоска по ушедшему, тогда как при БДР – постоянная подавленность, невозможность радоваться или испытывать счастье (ангедония). Связанный с горем негативный аффект с течением времени, на горизонте от нескольких дней до нескольких недель, постепенно уменьшается. Проявляется он волно- или приступообразно при контакте с тем, что напоминает о человеке или его смерти, а грусть чередуется с радостными воспоминаниями об умершем. Напротив, негативное влияние БДР стабильно и не связано с конкретным мыслительным содержанием. При обычном горевании ребенок не испытывает вину и не страдает от низкой самооценки, тогда как при БДР это типично. Связанные со смертью переживания – это часть обычного горевания, они соотносятся с желанием единения с умершим близким, а не с желанием умереть как таковым. При БДР мысли о том, чтобы проститься с жизнью, соотносятся с ощущением собственной никчемности или неспособностью справиться с муками депрессии. В ходе недавно проведенного популяционного исследования удалось зафиксировать, что дети (особенно мальчики), пережившие смерть родителей, в течение как минимум 25 лет оставались подверженными повышенному риску самоубийства [107]. Но неясно, была ли хотя бы у некоторых из этих детей травма утраты.
Хотя в ранних работах высказывалось предположение о том, что существуют стандартные стадии горевания, как они описаны у Кюблер-Росс и других исследователей, в более поздних концепциях описываются скорее задачи, возникающие перед детьми при нормальном проживании горя [218, 219]. Дети справляются с ними различными способами, в разной последовательности и за разное время. Как правило, когда переживающие утрату дети не сталкиваются с существенными препятствиями или затруднениями при решении этих задач, считается, что они нормально проживают горе.
В число задач, возникающих перед детьми при проживании горя, входят:
1) переживание глубокой боли, связанной с уходом близкого человека;
2) принятие необратимости смерти (в соответствии с возможностями ребенка на том или ином этапе развития);
3) встреча с воспоминаниями об ушедшем и принятие его целиком;
4) преобразование активной связи с человеком в память о нем;
5) присвоение себе важных положительных качеств умершего;
6) фокусировка внимания на положительных отношениях в настоящем;
7) возвращение к здоровой траектории развития.
Затяжная реакция горя
Как и где проводить границу между «нормальной» и «затяжной» реакцией горя? Споры об этом продолжаются [153]. Важно найти баланс между желанием избежать ненужного лечения (например, детей с нормальной реакцией горя, которая должна разрешиться сама собой) и желанием предотвратить ненужные страдания в том случае, когда проблема поддается лечению (если речь идет, скажем, о ПТСР или других симптомах с риском долговременных последствий). Было трудно определить, какие дети попадают в ту или иную категорию и как скоро после смерти фигуры привязанности об этом можно делать выводы.
Для описания нетипичных реакций на горе использовались различные термины и концепции, включая такие как затяжная реакция горя, патологическая реакция горя и травма утраты. Например, в DSM-5 выделяется малоизученное состояние «пролонгированное комплексное расстройство, вызванное тяжелой утратой», которое требует наличия определенного количества симптомов в каждом из трех отдельных кластеров (сепарационная тревога, вызванный смертью дистресс и личностная или социальная дезорганизация) [9, 122]. Интересно, что эти же кластеры симптомов характеризуют и другие виды межличностных травм, представленные ранее в этой главе. Метод оценки этого расстройства описан в главе 2. В данной редакции травматическая тяжелая утрата связывается только с переживанием насильственной смерти или самоубийства, «с постоянными тревожными переживаниями по поводу травматического характера смерти» [9, с. 790].
При альтернативном подходе для понимания и оценки затяжной реакции горя у детей используют «Опросник осложненного горевания для детей» (Inventory of Complicated Grief-Revised for Children, ICG-RC), в котором симптомы не делятся на три отдельных кластера, а объединены в целостную оценочную шкалу. Этот подход был признан значительно превосходящим предложенные в DSM-5 критерии для диагностики у детей затяжной реакции горя на смерть родителей [153, 154]. Мелем с коллегами [153] предлагают метод оценки и быстрого скрининга для выявления детей с риском развития затяжной реакции горя, описанной в главе 2.
Детская травма утраты
В соответствии с нашим фокусом при лечении детских травматических реакций мы используем термин «травма утраты». Собранные данные говорят о том, что у значительной доли детей, переживших тяжелую утрату, возникают симптомы травмы и патологической реакции горя [121, 152–155, 215] и что последовательная терапия в ТФ-КПТ-подходе с упором на работу с травмой и гореванием приводит к ощутимым улучшениям симптомов травмы и патологической реакции горя соответственно [54, 58, 165]. Так, по итогам одного исследования, примерно у 40 % детей заметно повысились показатели, связанные с затяжной реакцией горя, ПТСР, депрессией и тревожностью по истечении девяти месяцев после потери родителя; у 10 % детей и через 33 месяца после пережитой утраты наблюдались высокие показатели, связанные с затяжной реакцией горя, ПТСР, депрессией и тревожностью [154].
По нашему мнению, эффективное психологическое лечение может облегчить негативное воздействие симптомов травмы на таких детей и усилить их способность естественным образом проживать горе. Исходя из нашего теоретического понимания истоков травмы утраты и этих данных, мы считаем, что покомпонентная работа с травмой и утратой в ТФ-КПТ способна помочь детям справиться с проявлениями травмы утраты. Но наша концепция травмы утраты у детей шире предложенного в DSM-5 определения [9]: мы полагаем, что травму утраты можно получить, столкнувшись со смертью близкого человека от широкого спектра причин, а не только с гибелью в результате домашнего насилия или самоубийства.
Мы не раз наблюдали травму утраты у маленьких детей, для которых смерть родителя, или брата, или сестры от тяжелой болезни была неожиданной либо они не понимали, что произошло. Зачастую вид умирающего человека и страдания других членов семьи сильно пугали ребенка (возможно, также вызывая у него растерянность или замешательство).
В других случаях наиболее заметную роль в получении травмы утраты у ребенка играют привязанность и потеря одной или нескольких социальных ролей.
Например, одна девочка помогала младшему брату учить уроки и брала его с собой к друзьям, пока мать была на работе. Потом у ее брата диагностировали рак, она наблюдала за его угасанием и присутствовала при его уходе. Мать после смерти сына стала крайне подавленной и эмоционально недоступной. У девочки повторялись навязчивые образы, ей снились кошмары о смерти брата, она избегала упоминаний о нем и связанных с ним воспоминаний, обвиняла себя в том, что «не спасла» его. В школе у нее стали проявляться соматические симптомы, ухудшилась успеваемость. Мы полагаем, что она получила травму утраты с отчетливыми травматическими симптомами, препятствовавшими ее нормальной адаптации и способности справляться с задачами естественного процесса горевания по брату. Несмотря на ярко выраженные симптомы ПТСР, наиболее заметное воздействие на нее оказали утрата и нарушение привязанности (с братом и матерью соответственно) и потеря идентичности в качестве старшей сестры и человека, заботящегося о своей семье.
Нужно помнить об этих проблемах при терапии травмы утраты у детей и прорабатывать их наравне с симптомами ПТСР. Родительское участие в ТФ-КПТ играет принципиальную роль, и поэтому очень важно было вовлечь в терапевтический процесс мать девочки.
Таким образом, в подходе к определению и оценке патологической реакции горя у детей существуют разногласия. Мы называем детской травмой утраты возникновение у детей травматических симптомов, которые связаны с пережитой смертью близкого и блокируют их способность к нормальному проживанию горя. С высокой вероятностью большинству таких детей можно помочь последовательной терапией травмы и утраты в ТФ – КПТ-подходе.
Работа с травмой и гореванием
Основываясь на исследованиях других авторов и собственном клиническом опыте, мы предлагаем свой подход. Если у пациента одновременно представлены симптомы и травмы, и утраты, рекомендуется, а зачастую необходимо, начать хотя бы с частичной проработки симптомов травмы – и только после этого можно успешно работать с проблемами, возникшими в результате травмы утраты [54, 58, 138, 162, 179]. Этот принцип может быть отчасти применен при работе с некоторыми напоминаниями о травме – например, если ребенок фиксируется на самых ужасных аспектах смерти, у него нет правдивой информации о том, как умер человек, и/или у него возникли связанные со смертью дезадаптивные убеждения (скажем, самообвинение). Зачастую даже положительные воспоминания об умершем (важная часть процесса горевания) у таких детей становятся напоминанием о травме. Эти дети не могут думать об умершем, не вспоминая об ужасающих подробностях его смерти и не застревая в тяжелых чувствах и мыслях о смерти. Вдобавок дети с симптомами избегания могут настолько отсоединяться от собственных чувств, что оказываются не в состоянии прожить горе. По этим причинам в некоторых случаях терапия, сфокусированная на травме, обычно используется на начальной стадии проработки детской травмы утраты, а переход к работе с проживанием горя происходит позднее. Однако у разных детей процесс протекает по-разному и с разной скоростью. Некоторым детям удается справиться со всеми или с большинством симптомов травмы, прежде чем перейти к гореванию, но у многих работа с горем и работа с травмой пересекаются в зависимости от актуальности того или иного вопроса на тот или иной момент терапии. Таким образом, фазы терапии травмы и горя могут быть взаимосвязаны, если к этому есть клинические показания.
На последовательность и протяженность этапов терапии могут влиять и внешние факторы. Например, ведение следствия, внимание СМИ или судебное разбирательство, связанное со смертью покойного, либо иное травматическое событие или смерть в семье (даже если она произошла по естественным причинам) могут вновь вызвать ранее исчезнувшие напоминания о травме, чрезмерное избегание, гнев или другие симптомы ПТСР. В подобных ситуациях оправдан возврат к проработке травмы. В этой книге мы отдельно поговорим о компонентах работы с травмой и гореванием.
Подведем итоги
Да, некоторые дети справляются с травматичным опытом. Но у многих появляются признаки травмы, которые могут оказывать глубокое и длительное негативное воздействие на их развитие, состояние здоровья и безопасность. В число симптомов травмы входят аффективные, поведенческие, когнитивные нарушения и вызванные травмой комплексные проблемы. Вне зависимости от диагноза ребенка связанные с травмой трудности значительно влияют на жизнь ребенка и семьи, ухудшая ее. У детей может развиться травма утраты – состояние, при котором наряду с нормальным гореванием наблюдаются симптомы травмы, что ведет к патологической реакции горя. Описанные в книге компоненты работы с травмой и горем в ТФ-КПТ помогают детям с подобными трудностями. Следующая глава посвящена сбору анамнеза у детей, столкнувшихся с травматическим стрессом и/или реакциями, возникшими в ответ на травму утраты. Также в ней представлены выводы о том, подходит ли ТФ-КПТ в качестве терапевтического подхода конкретному ребенку.
