Взрослая жизнь «невидимых детей». Психологическая работа с последствиями эмоционального игнорирования
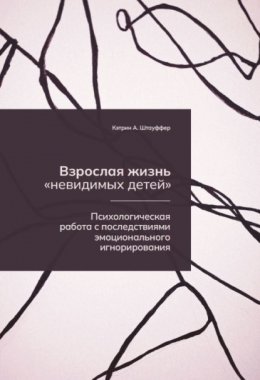
EMOTIONAL NEGLECT AND THE ADULT IN THERAPY
Lifelong Consequences to a Lack of Early Attunement
KATHRIN A. STAUFFER
W. W. NORTON & COMPANY
Independent Publishers Since 1923
В оформлении обложки использована фотография N. Dumlao
В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.
© W.W. Norton & Company Ltd., 2020
© Издательство «Генезис», 2025
© Е. Мягченкова, перевод, 2025
«Кэтрин Штауффер как терапевт, чья специализация – исследование опыта взаимоотношений клиента, настаивает на том, что человек биологически устроен так, чтобы делиться своими чувствами, причем даже и не с помощью слов, а через совместную деятельность, приносящую радость и удовольствие. Мы не должны оставаться в одиночестве, борясь с печалями и заботами или испытывая чувство вины от того, что не ощущаем связи с собой.
В этой книге Штауффер описывает работу с четырьмя клиентами, которые испытывают тревогу и стыд в результате эмоционального пренебрежения в детстве. Она рассказывает о том, как терапия, сфокусированная на создании прочных, безопасных и поддерживающих отношений, может улучшить жизнь клиента.
Исследования, которые проводились на базе достижений в психологии младенчества 1960-х годов, подтвердили, что каждый человек испытывает потребность в симпатии, близости в отношениях. Нейробиологические исследования в области привязанности доказали, что сознание формируется вследствие развития произвольной, волевой регуляции своей деятельности, а мозг человека устроен так, чтобы в ходе совместной творческой деятельности обеспечивался взаимообмен целями и эмоциями».
Колвин Тревартен, доктор психологии, почетный профессор детской психологии и психобиологии, Школа философии, психологии и лингвистических наук, Университет Эдинбурга
«В этой книге Кэтрин Штауффер предлагает разумную и доступную теорию, а также описывает психологические вмешательства для работы с последствиями эмоционального пренебрежения в детстве, подкрепляя эту информацию тщательно подобранными и четкими примерами. Штауффер обладает удивительной чуткостью и состраданием – качествами, необходимыми для помощи столь хрупким клиентам, и щедро делится своими знаниями с читателями.
Бабетта Ротшильд, автор книг «Воспоминания тела. Психофизиология и терапия психологической травмы» и «Революция в терапии травм: стабилизация, безопасность и баланс нервной системы»
Введение
Клиенты, о которых пойдет речь в этой книге, чаще всего приходят на терапию, чтобы избавиться от тревоги и стресса. Кажется, что они прямо-таки сражаются с жизнью и воспринимают ее как неподъемный труд, но не понимают, почему так происходит. Такого рода клиенты очень вежливы, довольно застенчивы и будто немного отстранены от своих чувств.
Терапевту, в свою очередь, будет трудно добиться внятного рассказа о том, что подтолкнуло клиента прийти, потому как тот начнет говорить что-то вроде: «Со мной никогда не происходило ничего плохого» или «Вроде все было хорошо, и у меня вообще-то не должно быть никаких проблем». Это отсутствие последовательного, связного рассказа о жизненных трудностях будет очень заметно.
Такой клиент готов к усердной работе в процессе терапии, но нуждается в подробных указаниях от терапевта – без них процесс терапии застопорится. Если терапевт все же начнет давать указания, клиент может с облегчением им последовать – или же начать спорить и говорить, что не может их выполнить. Терапевт, вероятно, отметит у клиента избегающую модель поведения, мощный защитный механизм, отсутствие спонтанности и в целом подавление внутренней жизни.
Как правило, такой клиент постоянно испытывает беспокойство, но старательно скрывает это от окружающих. После нескольких сеансов терапевт понимает, что все сферы жизни клиента проникнуты тревогой, а сам он испытывает трудности с регуляцией аффекта. Кроме того, у него нарушен контакт с телом, а следовательно, и с его более глубокой жизненной силой.
Такой клиент склонен ходить мыслями по кругу и беспокоиться обо всем, особенно о своем здоровье. У него, как правило, недостаточно навыков для межличностного общения, из-за чего он может страдать от социальной тревожности и испытывать дискомфорт в компании других людей или терапевта. Проницательному терапевту вскоре становится ясно, что клиента мучает стыд, однако причины этого стыда будут неочевидны.
Обычно такой клиент сильно сопротивляется изменениям в процессе терапии. Кажется, будто он не надеется на улучшения, слишком боится перемен или и вовсе не хочет, чтобы ему стало лучше. Терапевт может воспринять такое сопротивление как пассивную агрессию или саботаж терапии. Требуется глубокое сострадание, чтобы понять, что у клиента настолько мало ресурсов, что он просто не может позволить себе рискнуть их потерять. Поэтому любые изменения должны обсуждаться и происходить очень медленно.
Последующая терапия выявит, что клиент страдал от эмоционального пренебрежения в раннем возрасте. Я называю таких клиентов «невидимыми детьми», потому что в их истории, как правило, есть эпизоды отсутствия должного внимания в младенчестве или раннем детстве со стороны тех людей, которые должны были о них заботиться. Может, это и не было отвержением или насилием, но они не чувствовали себя любимыми и не ощущали себя в безопасности. Родители/опекуны не только не удовлетворяли, но порой и вовсе не замечали их потребностей. Таких детей игнорировали, обращались с ними как со взрослыми с самого раннего возраста, а иногда и требовали от них помощи, не давая взамен никакого положительного внимания.
То, что я называю эмоциональным пренебрежением – это, в частности, такие ощущения ребенка в первые шесть лет его жизни, при которых он не чувствовал, что родители/опекуны ему рады, воспринимают его как отдельную личность и удовлетворяют (или хотя бы замечают) его потребности. В жизни ребенка, которым эмоционально пренебрегают, нет взрослого опекуна, на которого он всегда может рассчитывать, благодаря которому почувствовал бы, что ему рады, который присматривал бы за ним и обеспечивал безопасность и к которому он мог бы обратиться за помощью и поддержкой. Такие дети предоставлены сами себе и вынуждены сами о себе заботиться – а зачастую не только о себе, но и о своих родителях.
За последние годы терапевты многое узнали о жестоком обращении в раннем возрасте и о том, какие последствия оно имеет для детей. Порой людей, которыми пренебрегали в детстве, ставят в один ряд с теми, кто подвергался насилию, однако это неправильно – хотя травма присутствует у обеих групп, характер травматизации совершенно разный. В следующих главах я расскажу об основных характеристиках клиентов с историей раннего эмоционального пренебрежения.
Главным последствием эмоционального пренебрежения является то, что человек вырастает с некоторой недостачей жизненного потенциала. Такой человек будет скорее похож на ребенка, который пытается жить как взрослый и постоянно из-за этого перенапрягается, потому как вынужден «бежать», дабы не отстать от других. Травматизация человека, страдавшего от эмоционального пренебрежения в детстве, сродни эмоциональному выгоранию, которое возникает, когда человек вынужден делать слишком многое при слишком малом количестве ресурсов. Следовательно, главная задача терапии – помочь клиенту в наращивании ресурсов.
Клиническая практика показывает, что дефицит ресурсов для развития чрезвычайно затрудняет процесс изменений – потому что если у человека мало ресурсов, он не позволяет себе рискнуть потерять что-то из того, что способствует его привычному функционированию. Поэтому изменения в процессе терапии с клиентами, которыми эмоционально пренебрегали в детстве, происходят очень медленно, маленькими шагами – путем взращивания новых ресурсов, не представляющих угрозы для старых.
Еще одно следствие раннего эмоционального пренебрежения – это глубоко поселившееся чувство, что человека не замечают, ему не рады, его не любят. Такое ощущение почти наверняка приведет к всепроникающему и ядовитому стыду. Тревога и стыд главенствуют у тех взрослых, которыми пренебрегали в детстве. Эти чувства заслоняют все остальные и осложняют понимание внутренних конфликтов клиента.
Отсутствие заботы в детстве приводит к тому, что, взрослея, человек продолжает чувствовать себя растерянным, сбитым с толку: как будто его не научили, как «жить» эту жизнь. Из-за этого у него могут вызывать тревогу и даже стыд ситуации, требующие спонтанности, – например, игры или принятие решений. Такой человек обычно считает, что должен полагаться только на себя, и не ждет помощи или поддержки от окружающих. В то же время он может страстно хотеть, чтобы кто-то направил его и взял на себя ответственность за его жизнь.
Дети, которых игнорируют родители или опекуны, с большой долей вероятности не смогут развить крепкие узы привязанности. Ребенок будет стараться быть тише воды ниже травы, дабы не вызвать неудовольствия у взрослого, которое он расценивает как угрозу отношениям. Такой тип привязанности (который на первый взгляд может выглядеть избегающим или даже избегающе-отвергающим), вероятнее всего, сохранится и во взрослой жизни.
Исследования показывают, что влияние эмоционального пренебрежения на человека в раннем детстве сопоставимо с влиянием эмоционального насилия на психическое и физическое здоровье, а также на социальное функционирование взрослого (см. Sciarrino et al., 2018). В одном из исследований было обнаружено, что эмоциональное пренебрежение в раннем возрасте приводит к повышенной активности миндалевидного тела, вследствие чего возникает высокий риск того, что человек будет склонен к тревоге на протяжении всей жизни (Bogdan et al., 2012; De Bellis et al., 2009). Другое исследование изучало детей, чьи матери страдали от послеродовой депрессии, и выявило, что и у самих детей риск возникновения депрессии оказался высоким (Murray & Cooper, 1996). В целом, появляется все больше подтверждений того, что «невидимые дети» сталкиваются с тяжелыми последствиями во взрослом возрасте (Joseph, 1999).
Мне довелось работать со многими клиентами, которых игнорировали в детстве, и я многое узнала об их опыте, а также о том, как можно помочь им в процессе терапии. Я обнаружила, что для многих терапевтов сложно работать с такими клиентами по двум причинам:
– зачастую создается впечатление, будто такие клиенты функционируют вполне нормально, однако на самом деле они гораздо более уязвимы, чем кажется;
– процесс терапии продвигается крайне медленно, чего некоторые терапевты не могут вынести.
Когда я рассказывала коллегам о своем опыте работы с клиентами, которыми эмоционально пренебрегали в детстве, меня часто спрашивали, что можно почитать, чтобы узнать об этой теме больше. Выяснилось, что существует очень мало литературы о раннем эмоциональном пренебрежении (Hobbs & Wynne. 2002; Leeds. 2012). Отчасти это и побудило меня написать книгу, чтобы внести свой вклад в изучение этой области.
Книга ориентирована на психотерапевтов, которые работают со взрослыми, поэтому она вряд ли будет полезна тем, кто работает с детьми – в ней нет никакой информации о детской терапии. Однако она может пригодиться людям, далеким от психологии, которые столкнулись с эмоциональным пренебрежением в детстве – благодаря ей они смогут лучше понять себя или своих близких, с которыми это произошло.
Мой главный интерес – это клиническая практика психотерапии. Изначально я училась на телесного психотерапевта, однако с тех пор я многое узнала о терапии в целом, а также о некоторых полезных подходах, направленных в основном на лечение травм. На своих первых курсах телесной терапии я, помимо прочего, поняла, что любой терапевтический процесс движется в своем темпе, и даже если он очень медленный, его результаты все равно можно заметить, внимательно наблюдая за клиентами.
Поскольку эта книга посвящена эмоциональному пренебрежению, я не буду много говорить о пренебрежении физическом – скажу только, что они нередко пересекаются, особенно в небогатых семьях, в которых взрослые часто недоступны для детей (Nikulina & Widom. 2014; Widom et al.. 2012). При этом я уверена, что физическое пренебрежение в прошлом имеет эмоциональные последствия в настоящем, поэтому с ним тоже нужно работать.
Я также практически не затрагиваю тему насилия над детьми, будь то физическое, эмоциональное или сексуализированное. Я прекрасно понимаю, что зачастую насилие и эмоциональное пренебрежение совмещаются – однако я намеренно сконструировала примеры моих терапевтических случаев таким образом, чтобы они касались людей, которые не сталкивались с насилием. Как правило, насилие легче выявить, а кроме того, ему посвящено огромное количество литературы – чего нельзя сказать об эмоциональном пренебрежении. И именно поэтому я делаю акцент на нем. Терапевтам, которые работают со сложными историями травм, включающими в себя как насилие, так и пренебрежение, эта книга тоже будет интересна: возможно, она поможет им лучше понять некоторые особенности своих клиентов, а также узнать об эффективных методах лечения.
Структура книги отражает мое видение работы со взрослыми, которых игнорировали в детстве. В главе 1 я подробно описываю особенности клинических проявлений с акцентом на субъективный опыт клиента. В главе 2 привожу примеры типичных историй и возможные сценарии, которые могут стать причиной эмоционального пренебрежения детьми. В главах 3 и 4 представлены теоретические модели, которые помогут лучше понять таких клиентов. Я условно разделила эти модели на психотерапевтические и нейробиологические. Главы 5 и 6 посвящены психотерапевтической работе с людьми, которыми эмоционально пренебрегали. В главе 5 изложены соображения, которыми я руководствуюсь при работе с такими клиентами, – то, что я называю аспектами взаимоотношений клиента и терапевта. В главе 6 я подробно описываю конкретные терапевтические подходы, которые считаю эффективными, а также рассказываю, как их применяю. В заключении я пишу о «невидимых детях» и об их месте в современном мире: о том, как трудно им бывает найти свое призвание, и о том, что зачастую их неправильно понимают, эксплуатируют и дискриминируют.
Для наглядности я сконструировала четыре случая взрослых клиентов, каждый из которых представляет различные аспекты последствий эмоционального пренебрежения. Процесс терапии этих клиентов проходит через всю книгу, и я надеюсь, что это сделает ее более понятной и живой.
Глава 1
Опыт «невидимого ребенка»
Четыре клиента – четыре случая
Мортимеру двадцать с небольшим, и он обратился к психотерапевту, потому что страдает от тревожности. Он рассказывает: «Я не знаю, почему постоянно волнуюсь, но, кажется, я такой всю жизнь. У меня ощущение, будто я родился совсем без уверенности в себе».
Мортимер – единственный ребенок двух амбициозных родителей с блестящей бизнес-карьерой. Он рос застенчивым мальчиком: в школе его дразнили занудой и порой издевались над ним. В колледже ситуация немного наладилась – он закончил обучение с хорошими оценками и познакомился со своей девушкой, с которой они сейчас живут вместе. При этом он чувствует, что застопорился в профессиональном плане после окончания обучения: большинство профессий кажутся ему сложными и напряженными.
В социальном плане Мортимер большую часть времени замкнут, что в последнее время все больше огорчает его девушку – и это страшно его тревожит, поскольку он боится, что она его бросит. При этом сказать ей об этом он не может и потому не видит выхода из ситуации.
Он рассказывает, что в детстве был довольно избалованным, как это часто бывает в семьях с одним ребенком. Он чувствует, что так и не научился заботиться о себе, и беспокоится, что разочаровал своих родителей. Оба родителя по-прежнему играют важную роль в его жизни, и он готов пожертвовать своим комфортом ради того, чтобы удовлетворить их потребности (особенно потребности матери). Он подчеркивает, как благодарен своим родителям за счастливое и спокойное детство.
С Мортимером непросто работать – обычно он испытывает беспокойство, когда заходит в мой кабинет, и ему сложно включиться в беседу. Если я жду, пока он заговорит, он начинает тревожиться еще больше, воспринимая мое молчание как наказание и принуждение к действию. При этом когда я повторяю все то, что он мне рассказал, чтобы убедиться в том, что правильно его поняла, а заодно дать ему возможность самому услышать, что он сказал, это вызывает у него чувство стыда.
Мортимеру трудно говорить о чувствах, потому что он либо ничего не чувствует, либо не может подобрать слов для описания своих чувств. Он не любит обсуждать детство, потому что ему кажется, что это неблагодарно с его стороны. «Меня беспокоит сама мысль о том, что я могу быть несправедлив по отношению к родителям», – говорит он. Он понимает, что некоторые произошедшие с ним события были не очень хорошими, но не видит смысла говорить о них снова и снова. Он считает, что они не были настолько ужасными и поэтому не могли стать причиной его изматывающего состояния. Он так смущается, что только и может сидеть в своем кресле и сопротивляться работе с телом, да и вообще любым движениям.
В сущности, большинство методов, к которым я обычно прибегаю в терапии, в его случае неприменимы. Я бы описала сессию с Мортимером так: меня окружают закрытые двери, и пока я пытаюсь найти открытую, остальные захлопываются. Я думаю, что именно так он себя и чувствует – он постоянно ищет выход из сложившейся ситуации и никак не может его найти. Для меня это выглядит как ужасная пытка.
Норману было за пятьдесят, когда он пришел ко мне на терапию. Он работал высокопоставленным государственным служащим. Норман был холост и сам не понимал, почему так и не женился.
Он обратился за терапией, потому что ему было одиноко и он часто испытывал приступы депрессии, которые становились все сильнее. «Я уверен, что у меня просто кризис среднего возраста, – говорит он. – Но иногда моя жизнь кажется настолько пустой, что я просто не могу это больше выносить».
Мать Нормана умерла после затяжной болезни, когда он был совсем маленьким. В течение нескольких лет о Нормане заботились разные родственники, пока его отец снова не женился. После этого у Нормана появились несколько младших сводных братьев и сестер. Он говорит, что всегда чувствовал, будто ему нет места в этой семье, и сейчас почти не общается с ними.
Он трудоголик и привык подолгу работать, не оставляя времени на себя. В свободное время Норман посещает культурные мероприятия и много читает. Он приучил себя к одинокой жизни, решив, что от него нет никакой пользы для окружающих.
На терапии Норман поначалу пытается сделать мне приятно и усердно работает. Он хочет получать домашние задания, а также старается разобраться, что мы делаем и зачем. Он знает, что ранняя потеря матери травмировала его, однако не понимает, на что именно это повлияло и что с этим можно сделать.
Вскоре я понимаю, что после сеанса Норман зачастую уходит домой в глубоком унынии и с ощущением собственной безнадежности, а возвращение на терапию на следующей неделе кажется ему бессмысленным излишним стрессом. Когда я спрашиваю его, так ли это, он отвечает: «Я знаю, что разговоры обо всем этом должны помочь, и мне нравится это, пускай и недолгое, ощущение, будто кто-то обо мне заботится. Но после терапии, когда я возвращаюсь домой и снова остаюсь в одиночестве, я начинаю думать о том, чего не должен был говорить или что следовало сказать по-другому, и не могу остановить эти мысли».
Из его ответа мне становится ясно, что каждая сессия отбрасывает его в детство, туда, где, как ему казалось, кто-то о нем заботился, но потом вдруг перестал – и он отчаянно пытался понять, что должен был сделать иначе, чтобы этого не произошло. Этот простой вопрос позволил мне, во-первых, лучше узнать Нормана, а во-вторых, понять, с чем мы будем работать.
Оливия обратилась ко мне, чтобы проработать свои трудности в отношениях с мужчинами. Она выглядит успешной, очень умна, четко выражает свои мысли и хорошо себя понимает. Беседовать с ней одно удовольствие, и мне требуется довольно много времени, чтобы увидеть, насколько мало у нее ресурсов и как она уязвима перед стрессом.
Она рассказала, что мать отказалась от нее сразу после ее рождения, и вскоре девочку удочерила другая семья. Оливия выросла с приемной матерью, которая очень переживала из-за того, что не могла иметь собственных детей. Разумеется, девочка чувствовала ее боль. Оливия часто фантазировала о биологической матери – о том, как замечательно было бы ее найти, но этого так и не произошло.
В отношениях ей обычно кажется, что она недостаточно хороша – Оливия каждый раз ждет, что ее бросят. Из-за этого она занимает осторожную, иногда даже избегающую позицию, но при этом довольно послушна. Некоторые партнеры говорили о том, что их раздражает ее привычка за все извиняться.
Оливия страшно боится показаться навязчивой. Она живет в мире, где ей не рады, и поэтому чувствует, что должна быть благодарна за каждую мелочь, но при этом жаждет быть желанной и любимой. Несколько раз она встречала людей, благодаря которым могла почувствовать себя более желанной, однако это чувство быстро проходило, а попытки сблизиться с таким человеком до ужаса ее пугали. С каждыми новыми отношениями ей становилось все страшнее сближаться с другими. «Мне кажется, будто жизнь играет со мной в игру: как только я вижу что-то, чего бы мне хотелось, оно тут же от меня ускользает».
Ее избегание по отношению ко мне очевидно. Хотя мы регулярно проводим сессии, разговариваем, иногда рисуем, а иногда работаем с телом, я чувствую, что Оливия держит меня на дистанции. Поначалу я принимала это за высокомерие и надменность, пока однажды, когда мы говорили о стыде, она вдруг не сказала: «Каждый раз, когда я понимаю, что не подпускаю вас к себе, я чувствую себя высокомерной стервой и ненавижу себя за это. И хотя мне очень хочется перестать это делать, у меня не получается, как бы я ни старалась, и я не понимаю, почему. И от этого мне стыдно еще больше».
Как только мне удастся понять сложное устройство ее внутреннего мира, мы сможем начать исследовать дистанцию между нами.
Перл – измученная мать троих детей-подростков, которая работает учительницей в начальной школе и пришла на терапию из-за того, что ее отношения с 15-летней дочерью сильно ухудшились.
Она рассказывает, что дочь «совершенно отбилась от рук» и порой совершает бездумные поступки. Кроме того, она постоянно критикует мать и ведет себя агрессивно, особенно когда Перл проявляет свои материнские чувства. Это заставляет Перл чувствовать себя полной неудачницей: «Я чувствую себя неполноценной и мне стыдно за то, что у меня не ладятся отношения с дочерью».
Меня не удивило, что Перл страдает от насмешек и издевательств от коллег по работе, а ее стандартная реакция на критику заключается в том, что она прикладывает еще больше усилий, чтобы стать лучше. Личные границы у нее практически отсутствуют. «Я просто не могу отказать в помощи тому, кто во мне нуждается!» – восклицает она.
Признаки того, что ею пренебрегали в детстве, налицо: она первый ребенок, и семейная легенда гласит, что мать вернула ее акушерке, увидев, что родилась девочка. Несколько лет спустя у Перл появился младший брат, гораздо более значимый наследник. А чуть позже родился второй брат, который был таким обаятельным, что стал всеобщим любимчиком. Роль же Перл в детстве, похоже, заключалась в том, чтобы присматривать за младшими братьями.
Перл всегда была уступчивой и изо всех сил старалась быть «хорошей». То же самое она делала и на терапии, идеализируя меня и часто упоминая о том, как полезна для нее терапия. В то же время она последовательно отвергала любые мои попытки показать ей, как она могла бы лучше заботиться о себе, немного сместив баланс между заботой о себе и заботой о других. У нее всегда находились веские причины, почему она должна была позаботиться о ком-то другом.
Однажды я попыталась перевести разговор с некоего практического вопроса, о котором мы говорили, на более общий – о том, почему ей стоило бы лучше заботиться о себе – и сразу увидела, как ее беспокойство начало перерастать в панику. К сожалению, она не осмеливалась сказать мне, что воспринимает мой вопрос как давление, и если бы я не заметила панику в ее глазах, то упустила бы возможность поговорить с ней об этом. Я тут же отметила, что, кажется, сказала что-то не то, и это дало нам возможность обсудить, какие чувства в ней вызвал мой вопрос. «Я почувствовала, будто вы просите меня перестать заботиться о моих детях, но для меня это невозможно. Вы как будто попросили меня стать другим человеком. Я всегда старалась быть доброй и заботливой, и мне это нравится. Если бы я стала больше заботиться о себе, это наверняка кончилось бы тем, что я стала бы пренебрегать своими детьми – и эта мысль приводит меня в панику», – объяснила она.
Я начинаю понимать, что нападки со стороны дочери, о которой она так старается заботиться, кажутся ей нападками на саму ее копинг-стратегию, которую она с таким трудом выработала и в которой так остро нуждается.
Четырех моих клиентов объединяет история эмоционального пренебрежения в раннем детстве. Однако они выработали разные копинг-стратегии, для того чтобы с этим справиться. И хотя я признаю, что зачастую эмоциональное пренебрежение и насилие идут рука об руку, я намеренно выбрала клиентов без истории насилия в прошлом. В этой книге я хочу сфокусироваться исключительно на тех трудностях, с которыми сталкиваются клиенты с историей эмоционального пренебрежения. Я буду рассказывать о процессе терапии этих четырех клиентов на протяжении всей книги.
Внутренний мир человека с историей эмоционального пренебрежения
Родившись, дети переживают конец всей той жизни, которая была им известна в утробе матери. Удивительным образом они не цепляются за внутриутробную жизнь и не пытаются туда вернуться – напротив, они полностью ориентированы на то, чтобы обосноваться в новом мире. Как правило, новорожденные дети полны энергии и ищут контакта с тем, кто ими занимается. Установление зрительного контакта с любящей матерью или кем-то другим, кто заботится о ребенке, так же важно, как сделать первый вдох, научиться принимать пищу или привыкнуть к земному притяжению. Этот зрительный контакт дает новорожденному ребенку ощущение, что мир встречает его с радостью и любовью. Ребенку очень важно быть принятым таким образом в первые месяцы жизни, и если этого не произойдет, то он еще долго будет пытаться достичь этого ощущения.
Стать желанным гостем в этом мире означает получить первое и самое важное чувство – чувство, что тебя любят, которое будет поддерживать человека всю его жизнь. Большинство людей интуитивно понимают, как важно чувствовать эту любовь и видеть восторг в глазах смотрящего на тебя человека. Исследования с участием матерей и младенцев подтвердили это интуитивное понимание в середине XX века и показали, как важно для ребенка иметь отзывчивых, любящих и интересующихся им родителей или опекунов, которые способны видеть ребенка таким, какой он есть, и заботиться о его благополучии. Кроме того, они доказали, что рост связей в мозге зависит от контакта с ухаживающими взрослыми: от мимолетных взглядов между ними и ребенком, от агуканья и разговоров, которые покажутся бессмыслицей наблюдателю, но при этом будут абсолютно понятны родителю/опекуну и ребенку, от моментов близости и совместного удовольствия.
Ужасно, когда ребенок сталкивается с отвращением, гневом или насилием со стороны тех, кто о нем заботится. Однако не менее ужасно и пренебрежение, игнорирование и равнодушие. Если у ребенка доброжелательные и отзывчивые родители, он будет знать, что его любят и что он хороший. Он поймет, что нужно говорить о своих потребностях и желаниях, как, впрочем, и о том, когда ему некомфортно. Он узнает, что с людьми безопасно, и что ему хорошо, когда он с ними в контакте. Если же родители игнорируют младенца, у него не будет шанса научиться ничему из этого. Он будет жить в холодном и безразличном к нему мире, который не сулит ему ничего хорошего и на который он никак не может повлиять. Такой ребенок будет жить в страхе, потому что у малыша, о котором никто не заботится, высок шанс смерти. И если ребенка будут продолжать игнорировать, он так и будет жить в этом страхе.
Большинство людей, живущих в таком страхе, научаются его заглушать, отключаться от него, перестают его воспринимать, так что он перестает их калечить. Однако страх продолжает присутствовать в физическом теле и может проявляться по-разному: как беспричинная тревога, физическое напряжение или болезнь, застенчивость, фобии, ощущение усталости от общения с другими, избегание социальных и интимных отношений или просто стресс.
Притупление страха вкупе с нарушением привязанности в раннем возрасте часто приводит к тому, что человеку становится трудно воспринимать любые чувства. Такой человек может жить в тумане неопределенных чувств и эмоций, которые он не может ни описать, ни выразить, ни взять под контроль. Единственным спасением будут казаться размышления о них, в которых человек неизбежно застрянет из-за отсутствия контакта со своими чувствами. Попытки помочь человеку наладить контакт с чувствами могут вообще не сработать, а только усилят его страх и не приведут ни к чему хорошему. На самом деле такой человек страдает не от недостатка эмоций, как может показаться, а от их избытка – в частности, от постоянного сильного страха. Он не может ни обработать эти эмоции, ни тем более устранить, потому что ему совершенно непонятно их происхождение. Постепенно он, возможно, научится ими управлять, но это займет очень много времени.
Если человек не понимает, что произошло с ним в начале его жизни, он может никогда не понять себя и других. Время от времени он будет страдать от депрессии, а мир будет казаться ему ужасным и враждебным местом, выжить в котором можно только ценой очень больших усилий.
Человек, которого в детстве игнорировали, не понимает причину своих жизненных трудностей (в отличие, например, от человека, пережившего насилие, утрату или нечто подобное, который может сказать: «Со мной произошло то-то и то-то. Это повлияло на меня – и потому я такой»). У человека, которым пренебрегали, не всегда есть подобное объяснение, и из-за этого он может просто считать себя странным. Зачастую таких людей обвиняют в чудаковатости, в том, что они ведут себя «не как все», из-за чего они ужасно себя стыдятся.
Когда, уже будучи взрослыми, бывшие «невидимые дети» приходят на терапию, они производят впечатление глубоко травмированных людей, хотя при этом у них далеко не всегда есть история травмирующих событий в прошлом. По моему опыту, различить человека, пережившего насилие, и человека, которого игнорировали, не так просто – настолько они похожи (не говоря уж о том, что «невидимые дети» часто также подвергаются насилию того или иного рода).
Во время сеансов терапии у таких людей происходит несколько заметных эпизодов повышенного возбуждения. Терапия кажется им скорее скучной, чем пугающей или драматичной, и они будут чувствовать себя замороженными, застывшими. Зачастую такие люди кажутся оцепеневшими, будто живущими в тумане. В таком состоянии очень трудно облекать чувства в слова, а отсутствие слов мешает пониманию. Их сильный страх может быть совершенно неочевидным: в лучшем случае человек скажет, что встревожен, или проявит определенную степень навязчивости. Его самооценка будет, безусловно, чрезвычайно низкой – будто у него нет права занимать место в мире.
Такие люди могут стремиться заботиться обо всех вокруг, включая своего терапевта. Они считают, что постоянно кому-то мешают или даже вредят, и своей помощью пытаются избежать этого и не привлекать к себе внимание. Зачастую они также страдают от физических или психосоматических недугов.
Как правило, такие люди сильно сопротивляются терапии. Это может выражаться по-разному: например, они могут искать причины, по которым терапия не будет работать, или вести себя очень вежливо и стараться быть «хорошими» клиентами, но при этом сохранять дистанцию или обвинять себя в безнадежности. Терапевты, которые попытаются сломать сопротивление своих клиентов, обнаружат, что это не только не улучшает ситуацию, но может и усугубить ее. Наблюдательный терапевт поймет, что большая часть сопротивления клиента обусловлена его страхом, стыдом или и тем и другим – следовательно, попытка прорваться через сопротивление усилит эти чувства.
Для того чтобы понять, как устроены такие люди, необходимо отдавать себе отчет в том, как мало у них ресурсов, на которые они могут опираться. Зачастую это относится как к внутренним ресурсам, так и ко внешним. Что неудивительно – ведь все, благодаря чему жизнь большинства из нас становится лучше, в их случае крайне ненадежно. К примеру, отношения очень хрупки, потому что напрямую зависят от тех уз привязанности, что были сформированы в детстве. Им кажется, что они легко могут потерять то немногое, что у них есть, и каждая такая потеря чего-то жизненно важного для них – ужасный и травмирующий опыт. Каждый имеющийся у них ресурс имеет огромное значение, и потому они так тщательно их берегут. Каждая, пускай даже самая крошечная, потеря угрожает их безопасности. А поскольку безопасность – их главная забота, они будут «хорошими» и послушными детьми, а затем и не менее послушными взрослыми, если это обеспечит им безопасность.
«Невидимые дети» существуют в мире, где любое совершенное ими движение может угрожать их и без того нестабильной безопасности. Поэтому им хочется сжаться и поменьше двигаться, чтобы стать максимально незаметными – тогда их жизни ничего не будет угрожать. Движение, жизнерадостность, стремление добиться большего и стать заметным, спонтанным или импульсивным – все это кажется им крайне опасным. Как бы сильно они ни хотели такими стать, чаще всего у них не получается, и они завидуют людям, у которых нет с этим проблем. При этом понятно, что стратегия «замри», которую они бессознательно выбирают, никак им не помогает, а только обедняет их жизнь.
Для многих «невидимых детей» поход к терапевту кажется опасным приключением и попыткой изменить то, что изменить невозможно – а значит, они рискуют разочароваться. Однако если им удается почувствовать себя в безопасности в кабинете психотерапевта, они все же могут извлечь выгоду из терапии. Оптимальный вариант – это стабильные регулярные посещения, упорная работа со скромными результатами и медленный, комфортный для них темп изменений.
Крайне ненадежные привязанности, которые формируются у «невидимых детей», мешают терапевту увидеть, что происходит у них внутри на самом деле. Зачастую они отчаянно пытаются создать впечатление, будто у них все в порядке, а к терапии относятся равнодушно или даже пренебрежительно. Кроме того, им обычно требуется много времени, прежде чем они позволят себе чем-то возмутиться: они привыкли сдерживать свои эмоции, будь то радость или недовольство, чтобы не рисковать отношениями с родителями/ опекунами.
Копинг-стратегии «невидимых детей»
Расскажу о некоторых способах, к которым прибегают «невидимые дети», чтобы справляться с происходящим. При этом я уделю особое внимание различиям копинг-стратегий детей с разными типами личности.
Я обнаружила, что большинство «невидимых детей» используют многие, если не все, из этих копинг-стратегий, однако делают это по-разному, и обычно каждый из них склоняется к какой-то одной или двум из них. Таким образом, дети могут казаться абсолютно разными на первый взгляд, но на глубоком уровне имеют много общего.
Так, некоторые дети, пытаясь справиться с кажущимися им хрупкими узами привязанности, становятся чрезвычайно чувствительными к настроению окружающих, стараясь сохранить хотя бы то редкое ощущение близости и безопасности, которое у них есть. К сожалению, маленькие дети не могут быть так сильно сосредоточены на ком-то, не теряя при этом связи с собой. К тому времени, когда они становятся взрослыми, у них зачастую происходит слияние с другими людьми: их границы чрезвычайно слабые, а самоидентичность практически отсутствует. Как правило, они сговорчивы и уступчивы. Они очень проницательны, когда наблюдают за окружающими, однако окружающим их прочесть довольно трудно. Да и им самим тоже нелегко себя понять, распознать свои чувства и настроение – поэтому кажется, будто они жертвуют собой ради других, пытаясь понять их, а не себя. Они могут производить впечатление маленького ребенка, который отчаянно пытается понять настроение своих родителей, стремясь сделать жизнь более комфортной и делая это за счет собственного благополучия.
Такие дети очень одиноки. Они живут в мире, где никто их не понимает, не встает на их сторону и не пытается им помочь. Поэтому их копинг-стратегия заключается в том, что они привыкают к этому одиночеству и постоянно ищут хотя бы маленькие островки безопасности и предсказуемости в своем окружении.
Поскольку в раннем детстве у них не было взрослого, который научил бы их регулировать чувства и эмоции, они плохо умеют это делать и потому обычно полностью сосредоточены на поиске безопасности, стабильности и спокойствия во всех сферах жизни – и видят это единственной своей целью. При этом им даже в голову не приходит, что можно обеспечивать свою безопасность самостоятельно – они полностью зависят от окружающих. Я знаю множество примеров того, какую чудовищную цену платят эти люди за крошечную толику безопасности в отношениях. А поскольку уровень тревоги у них крайне высок уже в детстве, они чрезвычайно уязвимы к стрессу, связанному с выполнением внешних требований, и из-за этого им может казаться, что они не способны ни в чем добиться успеха.
Пытаясь справиться со стрессом и неуверенностью в себе, они сжимаются, стараются казаться маленькими и не привлекать к себе внимания. Такие люди будут тихими и застенчивыми, уступчивыми, прилежными и чрезмерно адаптивными из-за низкой самооценки.
В интимных отношениях они никогда не отстаивают свои права, а целиком подчиняются партнеру. Порой в попытках заслужить любовь и заботу они ведут себя как дети, ощущая, будто все вокруг гораздо старше, чем они. Они также могут чувствовать, что сильно зависят от других, буквально сливаются со своим партнером и не умеют опираться на самих себя. На терапию они, вероятнее всего, придут с проблемами, связанными со стрессом и тревогой или с проблемами в отношениях.
Приведу в пример Мортимера, использующего такую копинг-стратегию.
Кажется, что он стремится уменьшиться всеми возможными способами, чтобы занимать как можно меньше места в этом мире. Он одновременно и боится окружающих людей, и все же надеется установить с ними хорошие отношения. Это очень заметно в кабинете психотерапевта: хотя Мортимер очень закрыт и внутренне сопротивляется терапии, он никогда не пропускает сеансы и обычно приходит за несколько минут до назначенного времени.
Мортимер невероятно чутко реагирует на настроение важных для него людей и зачастую, пытаясь прочесть другого человека, перестает понимать, что чувствует он сам. Из-за того, что его личные границы нарушены, на ранних стадиях терапии ему страшно некомфортно.
Он много раз говорил мне, как не любит привлекать к себе внимание или выделяться. Когда люди смотрят на него, ему кажется, будто его пристально изучают, чтобы потом разоблачить, – это пугает его, и он буквально умирает от стыда в такие моменты.
Другой вариант копинг-стратегии – решение ни в чем не нуждаться. Ведь нуждаться в чем-то и не получить этого – очень болезненный опыт. Люди, избравшие такую стратегию, стремятся быть независимыми и уверенными в себе, а повзрослев, не особенно нуждаются в других и могут стать одиночками. Они начинают избегать окружающих, если те попытаются достучаться до них, потому что подобный контакт для них обременителен. Я считаю очень удачным описание таких людей как «притаившихся» (Shapiro. 2009). Иногда они пропускают сеансы, а если и приходят, то, вероятнее всего, только потому, что чувствуют себя подавленными, жизнь кажется им лишенной смысла или они жаждут большего контакта, чем доступен им в настоящий момент. К терапии их также могут подтолкнуть физические симптомы болезней.
Пример человека с такой копинг-стратегией – это Норман, одинокий и депрессивный клиент. Его случай иллюстрирует, что попытки заглушить боль могут заставить поблекнуть все остальные чувства, включая радостные. Теперь у него есть только огромная дыра внутри – и это поистине огромная цена, которую ему приходится платить за свой выбор.
Его страх перед другими людьми гораздо слабее его тоски по отношениям, которые он однако себе запрещает, предположительно, из-за очень травмирующей потери в раннем возрасте. В каком-то смысле Норман дальше от здоровой «нормы» по сравнению с Мортимером: он приучил себя быть таким покорным, что больше ни к чему не стремится и даже не пытается получить желаемое.
С другой стороны, копинг-стратегия Нормана кажется во многом эффективнее стратегии Мортимера: большую часть времени Норман не испытывает страданий и потому живет в убеждении, что «разобрался со своими проблемами». До тех пор, пока ему удается справляться со своими депрессией и одиночеством, его копинг-стратегия вполне работает. Ему удалось добиться определенного успеха в профессиональном плане и создать репутацию человека, который вполне приспособлен к жизни. Из-за этого ему гораздо труднее понять, что с ним не так, а терапевту требуется время, чтобы увидеть, насколько он на самом деле хрупкий за своим стоическим фасадом.
Многие «невидимые дети» изо всех сил пытаются просто быть нормальными. Если они изначально умны и наблюдательны, им вполне может удаваться не выделяться и быть как все. При этом ни окружающие, ни даже они сами не будут догадываться, насколько они тревожные и неуверенные в себе по сравнению со сверстниками и как часто они стыдятся самих себя. В результате они могут обратиться за терапией, потому что их настигнет кризис, и они поймут, что им чего-то не хватает, что где-то внутри них – дыра. Как правило, они страдают от низкой самооценки, чрезмерной чувствительности или выгорания. Такие люди зачастую получают не подходящую им терапию, потому что терапевты ошибочно принимают их за высокофункциональных людей и ожидают от них быстрых изменений. Также терапевты по незнанию могут прибегать к методам, которые только вызовут у клиента сильнейший стыд и не приведут ни к какому терапевтическому результату.
Оливия – пример обладателя такой копинг-стратегии. С ней я с самого начала говорю о стыде, потому что это ключевая для нее тема. Она стыдится, потому что ей кажется, что она не «нормальная», и она не понимает, почему не может «просто с этим смириться», как все остальные. Такие клиенты не совсем похожи на «невидимых детей», и терапевту нужно быть очень внимательным, чтобы заметить наличие постоянного жгучего стыда, который может сигнализировать об эмоциональном пренебрежении в истории жизни клиента.
Жизнь Оливии кажется очень сбалансированной и организованной: все должно быть именно так, как она задумала, а каждый ресурс должен быть использован по максимуму. Когда она рассказывает о своей повседневной жизни, становятся очевидными хрупкость созданного ею мира, те огромные усилия, которые она затрачивает на поддержание видимого благополучия, и глубокие страдания, таящиеся под этим.
Другие в очень раннем возрасте научаются опосредованно удовлетворять некоторые из своих потребностей через заботу о других. Такие люди могут выбрать профессию, связанную с уходом за другими людьми. Обычно они обращаются к терапевту с выгоранием или гневом/обидой, вызванными ощущением, что они слишком много отдают и мало что получают взамен.
Я выбрала Перл, чтобы показать этот тип копинг-стратегии. Для Перл характерно, что за ее самопожертвованием скрываются не столько обида и чувство вины, сколько страх и паника. За ним также может прятаться жажда власти и контроля, однако главная ее цель – достичь безопасности в отношениях, а вовсе не получить удовольствие от ощущения собственного всемогущества. Перл одновременно и боится других людей, и хочет получить от них что-то хорошее – поэтому она всецело посвящает себя заботе о других. За чужими страданиями она не видит своих, оставаясь уверенной в себе и не замечая собственной разочарованности в жизни.
Но время от времени в ней все же пробивается ощущение, что ей нет места в этом мире, что она здесь лишняя. Это ощущение формирует основу ее неуверенности, которая проявляется во всех сферах жизни. У нее крайне низкая самооценка, размытые личные границы, очень высокий уровень тревоги при конфликтах (на то, чтобы оправиться от них, ей требуется очень много времени). Ощущение, что она недостаточно хороша, проявляется во всем и страшно огорчает ее практически ежесекундно.
Итак, я выделила четыре типа копинг-стратегии «невидимых детей». Я основывалась на наблюдении, что разные люди выбирают разные копинг-стратегии, и привела типы стратегий в порядке возрастания их адаптивности, однако не вкладывала в них какой-либо глубокий смысл – я выбрала их, чтобы показать, что взрослые, которыми пренебрегали в детстве, могут проявлять разные симптомы.
Бремя стыда
Стыд играет основополагающую роль в жизни «невидимых детей». Часто они чувствуют, будто за социально приемлемым фасадом скрывается человек, которого они в какой-то степени стыдятся показывать. Этот человек может быть слабым, уязвимым, жадным, глупым, эгоистичным, высокомерным, отвратительным, импульсивным, озлобленным или каким-то другим, но неизменно постыдным и ущербным. Большинство учатся жить с этим чувством и понимают, что не умрут от стыда, если окружающие увидят проявления этого внутреннего человека. В какой-то момент они даже могут обнаружить, что для того, чтобы создать близкие отношения, полезно довериться партнеру и позволить ему увидеть эти проявления.
Но в детстве «невидимый ребенок» испытывает из-за этого разрушительный, подавляющий и всепоглощающий стыд. Ему может быть стыдно за все что угодно, и этот стыд отражает отношение к ребенку его родителя или опекуна. «Невидимому ребенку» может казаться, что он отвратительный, жадный или просто «какой-то не такой», – словом, он ощущает нехватку какого-то важного человеческого качества. Ребенок будет настолько стыдиться себя, что даже его личность и душа будет казаться ему постыдными.
Он будет стыдиться того, что не может полностью скрыть свое «позорное Я». Того, что он тревожится и не уверен в себе. Того, что не любит шумные и довольно агрессивные игры, которые любят другие дети. Ему будет стыдно осознавать, что ему не нравится ходить в клубы и на вечеринки, которые принято любить. Будет стыдно от того, что он заторможенный, социально неуклюжий и не способен легко заводить друзей. Стыдно заслужить ярлык «интроверта» или «социофоба»…
И вдобавок ко всему этому ему будет стыдно, что он не может просто взять и измениться. «Невидимые дети», как правило, живут с ощущением, что постоянно себя подводят, и винить в своих несчастьях, кроме себя, им некого. Таким образом, у их стыда есть несколько слоев, которые накладываются друг на друга и образуют глубокое, токсичное чувство, с которым они не могут справиться.
Я заметила, как Оливии стыдно за то, что она не может позволить мне к ней приблизиться. Однако это только верхний слой, за которым скрывается стыд за внутреннюю необходимость извиняться перед партнером из-за ощущения, что она не такая, как все. Еще один слой стыда связан с ощущением собственной неполноценности, за которым скрывается следующий слой стыда – из-за чувства, что она никому не нужна. У нее есть даже отголосок стыда, который испытывала ее мать, когда забеременела, не будучи в отношениях с отцом ребенка.
Мортимер также часто испытывает стыд. Его стыд больше связан с тем, что ему кажется, что он разочаровал родителей и ничего не добился в этой жизни. Однако, поскольку глубоко внутри он на самом деле довольно амбициозен, его унижает и необходимость ходить на терапию, и большинство моих вмешательств, которые, как ему кажется, указывают на его недостатки. Его идея: «Я должен был давным-давно сам в этом разобраться» продолжает наполнять его стыдом и является серьезным препятствием для прогресса в терапии. Таким образом, наша задача – отделить его здоровые и ориентированные на развитие амбиции от стыда и зависти к другим.
Я уже писала о Перл, которая испытывает стыд из-за своих недостатков и неспособности быть лучшей матерью. Более того, она постоянно оказывается перед дилеммой: ей стыдно за то, что она не заботится о себе, но при этом если она начнет о себе заботиться, ей будет стыдно, потому что тогда, как ей кажется, ее будут считать эгоисткой. Наша первостепенная задача – сделать так, чтобы эта дилемма перестала давить на нее так сильно. Однако ее стыд простирается еще дальше: она думает, что если бы она была «нормальным человеком», то давным-давно бы уже с этим разобралась и заботилась бы и об окружающих, и о себе. И это является дополнительной причиной для стыда.
Норман среди этих клиентов кажется наименее подверженным стыду. Выбранный им образ жизни, при котором он в основном избегает контактов с окружающими, по большей части избавил его от необходимости испытывать стыд. Его признание в том, что после сессий он думает о них в неприятном ключе, наводит меня на мысль, что стыд все же прячется глубоко внутри и что, изолируясь от мира, он таким образом платит высокую цену за иллюзорное отсутствие этого стыда. Дальнейшие сеансы подтверждают мое предположение.
«Невидимые дети» живут с ощущением, что их в любой момент могут раскритиковать и пристыдить. Вполне возможно, что такое с ними уже случалось, – быть может, их травили в школе либо у них были чрезмерно критичные родители, учителя или другие авторитетные фигуры. Вырастая, «невидимые дети» часто вступают в отношения с критичными или абьюзивными партнерами. Однако даже когда их никто не критикует, и они живут в относительно благоприятной среде, страх позора никуда не уходит. Им может казаться, что только благодаря самокритике их по-прежнему считают хорошими людьми и они чувствуют себя в относительной безопасности. Можно предположить, что эта привычка критиковать себя открывает нам окно во внутренний мир очень маленького ребенка, который был вынужден из соображений безопасности создать внутреннего родителя. Эта фигура преждевременно сформировавшегося внутреннего родителя будет почти неизбежно до крайности суровой и критичной.
Для того чтобы предотвратить возможную критику извне, «невидимые дети» тратят невероятное количество времени и сил на самокритику, а также на тщательное изучение своего поведения и своих действий в попытках понять, за что их потенциально могут раскритиковать или пристыдить. Поэтому во время терапии у них может возникнуть ощущение, что проблема заключается именно в этой склонности постоянно себя критиковать: ведь самокритика, как известно, порождает неуверенность, недостаток самоуважения, низкую работоспособность, застенчивость и т. д. Они могут попытаться исправить положение, обратившись за когнитивной терапией, которая отлично работает с проблемами самокритики и низкой самооценкой. Но, к сожалению, как правило, они обнаруживают, что такая терапия им не помогает.
Терапевтические подходы, основанные на способности человека меняться по своему желанию, почти наверняка не сработают в случае с «невидимыми детьми» – поскольку, как я уже говорила, самокритика им необходима для того, чтобы чувствовать себя в безопасности (однако сам человек об этом, конечно, не знает). Поэтому на сеансах с когнитивным терапевтом они, скорее всего, попросту не смогут сделать того, чего от них будут ждать, что только добавит очередной слой стыда к и без того огромному грузу, который им приходится постоянно на себе носить.
С другой стороны, люди, вынужденные предотвращать любую внешнюю критику, могут почувствовать себя успешными, когда перестанут подвергаться внешним нападкам. Они могут решить, что достаточно усовершенствовали свою защиту, изучая себя и свои действия, и теперь готовы представить миру идеальную версию себя, которую больше никто не подвергнет критике. Такие люди могут искренне не понимать, почему жизнь кажется им тяжелой работой и почему они большую часть времени измотаны, будучи не в силах увидеть, что от страданий самокритики избавляет не собственное совершенство, а доброта к себе. В любом случае тот факт, что взрослые, которых игнорировали в детстве, продолжают ожидать от мира позора и деструктивной критики, говорит о том, до какой степени они травмированы своим опытом раннего пренебрежения.
Таким образом, стыд является практически непреодолимым препятствием для психотерапии с «невидимыми детьми». Скорее всего, каждое терапевтическое вмешательство, каждый комментарий и смех терапевта будут восприниматься как критика, выявляющая недостатки клиента и потому вызывающая у него еще больший стыд. Я не думаю, что существует некий универсальный способ обойти стыд и избежать этого почти неразрывного сплетения терапии и чувства унижения. Люди, испытывающие такой стыд, отчаянно нуждаются одновременно в двух вещах: во-первых, чтобы им сказали, что с ними все в порядке (это облегчит чувство стыда, но не прибавит ощущения безопасности), а во-вторых, чтобы им помогли если не стать лучше, то хотя бы понять, что с ними не так (это усугубит стыд, но зато может привести к большей безопасности). В сущности, таким людям постоянно приходится справляться с огромным чувством стыда, при этом не отказываясь от терапии.
В своей работе с «невидимыми детьми» я из раза в раз убеждалась, что они очень привязаны к своему Внутреннему Критику, каким бы жестоким он ни был, ведь он – фактически единственный внутренний опекун, который им доступен. Осознание этого каждый раз разбивает мне сердце.
Привязанность к Внутреннему Критику является одним из факторов, которые замедляют терапевтический процесс и могут вызвать нетерпение и разочарование у терапевта. С другой стороны, понимание того, что Внутренний Критик – это просто неуклюжая попытка создать Внутреннего Родителя (причем попытка очень маленького человека, у которого нет знаний или навыков для того, чтобы создать более сложного родителя), часто помогает терапевту продолжить работу, а клиенту – взглянуть на своего Внутреннего Критика не только через призму страха и отвращения, но и через сострадание и доброту.
Как известно любому психотерапевту, части личности, неподконтрольные человеку, практически невозможно как-либо изменить. Поэтому единственное, на что можно рассчитывать, – это достичь с ними перемирия. Тогда появится надежда на рост и улучшение психического благополучия.
Так же обстоит дело и со стыдом. Как только он перестает вызывать у клиента ужас, отвращение или чувство унижения, он становится чем-то более понятным, чему можно дать название, о чем можно говорить и разглядывать со всех сторон. И клиент может «показать» свой стыд терапевту. И хотя стыд нельзя разрядить посредством такого катарсического выражения, как гнев или горе, он постепенно рассеется сам, когда вступит в контакт с человеком, который не осудит, а примет его. Звучит очень просто, но на деле это не так, поскольку противоречит здравому смыслу: ведь человек, которому стыдно, интуитивно хочет скрыть свой стыд и его причину. Поэтому для того чтобы раскрыть свой стыд другому человеку, требуется огромное мужество.
Влияние особенностей развития клиента на процесс психотерапии
Всех людей, переживших эмоциональное пренебрежение в детстве, объединяет сильное сопротивление терапевтическим изменениям. Отчасти это объясняется чувством стыда, о чем я рассказывала выше. В этом разделе я попытаюсь осветить другие способствующие этому факторы.
Из-за того, что родители/опекуны не обращают внимания на потребности детей, те быстро учатся заботиться о себе самостоятельно. У многих «невидимых детей» эта вынужденная автономность дает толчок интеллектуальному развитию. Как правило, такие дети умны и с раннего возраста используют интеллект для того, чтобы выработать свою стратегию выживания (в том числе научиться справляться с безжалостной внутренней критикой, которая в некоторой степени помогает им избегать атак стыда). Они могут получать удовольствие от понимания того, насколько они сообразительны, и интеллект их развивается семимильными шагами. Однако научиться справляться со своими чувствами и эмоциями в одиночку гораздо сложнее, ведь в норме это происходит в контакте с другими людьми. Поэтому отчасти стыд «невидимых детей» – это результат самостоятельного изучения своих чувств в одиночестве. Одиночество придало им оттенок секретности и стало вызывать стыд.
Мы учимся справляться со своими чувствами и эмоциями очень рано, еще до того, как овладеваем речью и сознательным мышлением. При этом любой навык, связанный с обработкой чувств, требует, чтобы человек находился в контакте со своим телом, потому как чувства и эмоции неотрывно связаны с физическим телом и его процессами. Как правило, у «невидимых детей», научившихся подавлять свои страхи, не очень хороший контакт с телом, что еще больше препятствует их эмоциональному развитию.
Таким образом, вероятность того, что «невидимые дети» вырастут с отставанием в эмоциональном развитии, весьма велика. Одним из последствий этого будет привычка человека крепко держаться за то, что у него есть, и страшно бояться всего, что чревато даже небольшой потерей. Про такого человека скажут, что он почти никогда не рискует и упорно сопротивляется любым переменам.
Иногда терапевты, работающие с такими клиентами, пытаются объяснить им причины такого сопротивления и убедить отказаться от него. По моему опыту, это почти никогда не срабатывает – человек настолько искренне напуган тем, что произойдет, если он изменится, что подобный вызов со стороны терапевта неизбежно напугает его и пристыдит еще больше. Для того чтобы такое вмешательство сработало, у клиента должно быть достаточно крепкое эго, которое бы объединяло его «чувствующее» (возможно, более молодое) Я и «думающее» (более взрослое) Я, и тогда ощущение «здесь и сейчас» сможет служить вместилищем для их примитивного страха. У «невидимых детей» связь между двумя этими частями личности очень слабая, а порой они даже враждуют между собой. Поэтому у такого ребенка не разовьется прочная основа мышления, которая бы подкреплялась чувствами и могла бы сдержать его страхи. Образно говоря, у него не будет Внутреннего Взрослого, который мог бы взять Внутреннего Ребенка за руку и присмотреть за ним.
Многие «невидимые дети» живут в состоянии внутренней нищеты: они обходятся крайне малыми запасами ресурсов и чувствуют, что в их жизни нет почти ничего хорошего. Обычно у них мало друзей или их нет вообще, возможно, один-два человека, которые хоть как-то близки. Им может казаться, что увеличивать количество хороших вещей в их жизни небезопасно по нескольким причинам:
– они могут считать, что не заслужили больше хорошего;
– они могут опасаться потерять что-то из того, что у них уже есть (иными словами, следуют принципу «лучшее враг хорошего»);
– они могут чувствовать себя совершенно незащищенными и бояться, что все хорошее отнимут или испортят завистливые, враждебно настроенные люди.
Поэтому когда у «невидимого ребенка» в терапии происходит прогресс и ему открываются новые ресурсы, он иногда становится еще более тревожным – со стороны даже может показаться, что ему становится хуже.
Кроме того, эта внутренняя нищета часто связана с ощущением, что мир полон невыполнимых требований. Вместо того чтобы воспринимать трудности, выпадающие на пути, как возможность развития, как дополнительную мотивацию и вызов, на которые нужно решиться, «невидимые дети» видят их как горы, на преодоление которых у них не хватает возможностей. Поэтому они сдаются, смиряются с тем, что ни на что не годны, и испытывают еще больший стыд.
Разумеется, терапия тоже может казаться им чем-то невыполнимым. Терапевты должны понимать, что любую задачу для таких клиентов нужно дробить на более мелкие – тогда они будут казаться клиентам достаточно безобидными для того, чтобы с ними справиться. Это, конечно, сильно замедляет процесс терапии. Однако в случае с такими клиентами важно видеть не столько общий прогресс, сколько их успехи в преодолении небольших проблем – они помогают обрести мотивацию, которая, несомненно, пригодится им при работе с предстоящими более масштабными задачами.
Однажды Мортимер сказал мне, что хотел бы, чтобы я меньше его щадила и ставила перед ним более сложные задачи. Ему казалось, что терапия пойдет гораздо быстрее, если ему придется напрягаться немного больше. Кроме того, он думал, будто я его «балую», как это делала его мать. У меня сложилось впечатление, что эта просьба исходила от его суперэго, которое всегда было чересчур жестоким по отношению к маленькому мальчику, выросшему в непонятном, холодном и неприветливом мире.
Эта склонность Мортимера ставить перед собой нереалистичные задачи была мне уже знакома. В этих случаях он всегда исходил из желания решить эти задачи, а не из понимания себя и своих возможностей.
Я решила обсудить с ним его отношения с трудностями и сказала, что понимаю его желание поскорее получить прогресс, но хочу быть уверенной в том, что он сможет справиться со следующей задачей и испытать от этого некоторое удовлетворение. А затем объяснила, что ощущение успеха является важным средством в терапии.
Сперва он посчитал мои слова оскорбительными и принижающими достоинство и начал со мной спорить. Он сказал, что «подтасовка» задачи портит ощущение успеха. В итоге у нас состоялся об этом долгий разговор: может ли он позволить себе испытывать приятное чувство от того, что справился с проблемой? И тогда он начал понимать, что у него действительно есть выбор и что не портить себе ощущение успеха – это хорошая задача, которую ему стоит перед собой поставить.
Я поделюсь с вами еще одним терапевтическим соображением. Многие психологические теории говорят о том, что тревожные клиенты страдают от внутренних конфликтов между их спонтанными импульсами и более рефлексивной, основанной на эго частью личности, – и что как только эти конфликты будут названы и исследованы в контексте отношений, клиенты смогут излечиться. Однако клиенты с большей недостачей жизненного потенциала могут, во-первых, испытывать беспокойство, которое не связано с внутренними конфликтами. Во-вторых, если внутренние конфликты все же имеются, то, начиная их исследовать, мы довольно быстро обнаруживаем, что клиенты не могут сдвинуться с места из-за недостаточного количества внутренних ресурсов.
Большинство классических психотерапевтических вмешательств были разработаны для тех клиентов, чья основная проблема заключается во внутренних конфликтах. Поэтому нам необходимы новые терапевтические подходы для работы с людьми, которые просто не чувствуют себя в этом мире в безопасности.
Возможны и другие причины замедления терапии. Например, иногда клиент просто не выдерживает улучшения, и ему становится хуже после достижения прогресса в терапии (этот феномен называют негативной терапевтической реакцией (Freud. 1962).
По моему опыту, в ранней жизни клиентов часто присутствуют враждебно настроенные, завистливые или просто люди с малым количеством внутренних ресурсов: например, мать, которая после рождения ребенка чувствует себя настолько опустошенной, что любое внимание, которое она ему уделяет, кажется ей отобранным у самой себя, вследствие чего возникает ужасная конкуренция между ней и ребенком. Нехватка психологического блага (внимания или любви) в этом случае выступает причиной конфликта: поскольку и для матери, и для ребенка получение любого блага неизбежно означает, что они отбирают его у другого, оба будут находиться в постоянном конфликте. Таким образом, конфликт будет поддерживать дефицит, и наоборот.
Я уже упоминала о серьезной дилемме Перл. Выяснилось, что, когда она родилась, ее мать была слишком озабочена собственным несчастливым браком и множеством неудовлетворенных потребностей. Поэтому рождение Перл вызвало у нее ревность, потому что малышке доставались любовь и забота, в которых так нуждалась она сама.
Перл вспоминает фразы, которые она слышала в детстве от матери: «Я не понимаю, почему тебе должно быть лучше, чем было мне», «Ты не знаешь, что такое настоящее страдание» и «Если я дам тебе то, что ты хочешь, то избалую тебя». Перл согласна со мной в том, что все они исходили из чувства зависти. Обсуждение таких воспоминаний помогает Перл добиться прогресса и понять, почему ей так сложно сделать для себя что-то хорошее.
Клиенты, которых игнорировали в детстве, описывают всевозможные последствия этого, с которыми они сталкиваются на протяжении всей своей жизни. Одно из наиболее распространенных последствий – отсутствие веры в то, что мир поможет им удовлетворить свои потребности или справиться с чувствами. Когда ребенку хватает внимания со стороны родителей, подобное ощущение ему незнакомо, потому что если он, например, говорит, что ему страшно, то рядом оказывается взрослый, который его успокаивает. Но если ребенка игнорируют, в такой ситуации поблизости не оказывается взрослого, или этот взрослый слишком занят собой и совершенно недоступен для ребенка, или не понимает, что говорит ребенок и в чем он нуждается, или просто не считает, что ребенок заслуживает какой-либо помощи. Кроме того, взрослый сам может быть так напуган страхом ребенка, что в результате ребенку придется успокаивать взрослого. В любом случае такому ребенку становится сложно обращаться за помощью или поддержкой – и в дальнейшем это будет еще одним фактором, тормозящим прогресс в терапии.
Нам часто приходится приносить что-то в жертву и отказываться от прежних привычек и образа жизни, чтобы стать более зрелыми и взрослыми. Однако для «невидимых детей» такое развитие может оказаться невозможным, потому что отказ от чего-либо повергает их в непреодолимый ужас тотальной утраты, полного уничтожения. Для терапии это значит, что с клиентом нужно поработать над созданием новых ресурсов, прежде чем можно будет подумать об изменении привычных, но неадекватных способов функционирования. При этом надо иметь в виду, что у многих клиентов будет наблюдаться реальный страх выздоровления, и иногда они даже будут говорить о том, насколько он им выгоден и полезен. Я считаю, что к такому страху нужно относиться серьезно и рассматривать его как страх потери контроля (пускай и очень малого) над тем, что есть у клиента и от чего ему, возможно, потребуется отказаться. С точки зрения психологии развития мы не сможем отказаться от чего-то важного до тех пор, пока не овладеем, не насладимся и не присвоим это. Если не установить связь на одной из стадий развития, то уже не получится в нее полностью погрузиться, а значит, не будет возможности от нее отказаться. Жизнь многих «невидимых детей» укладывается в это описание.
Компульсивная забота
Компульсивная забота – один из наиболее адаптивных способов справиться с игнорированием, поэтому я посвящаю этой теме отдельный раздел.
Для детей, которыми пренебрегают, чьи потребности не удовлетворяются и которые уже даже и не ждут, что это случится, забота о других – это чрезвычайно изобретательная копинг-стратегия. Так, озабоченная, подавленная или по какой-либо другой причине эмоционально недоступная мать может стать дружелюбнее и нежнее, если ребенок удовлетворит некоторые из ее потребностей или, по крайней мере, скорректирует свое поведение, чтобы свести беспокойство матери к минимуму. Кроме того, способность заботиться о других придает ребенку силы и ощущение собственной «хорошести». Делая что-то для другого, он уже не чувствует себя таким маленьким и незначительным. Ребенок также может опосредованно почувствовать счастье человека, о котором заботятся, хоть это и совсем не то же самое, что ощутить заботу на себе. Наконец, забота – это способ исправить чью-то ситуацию, сделать ее лучше той, что была у ребенка: он слишком хорошо знает, как может ранить равнодушие, поэтому никогда не поступит так с другим человеком. И хотя эта последняя мотивация может существовать только в бессознательном, она тем не менее бывает чрезвычайно мощной.
Забота о других отвлекает ребенка от его собственных горестей и постоянного чувства опустошенности. Такая забота действительно может наполнять, несмотря на то, что на самом деле ничего из того, что ребенок дает другому, он не может получить для себя. И это дает дополнительную мотивацию, потому что ребенок чувствует себя альтруистом и хорошим человеком. Кроме того, он ощущает себя нужным и полезным, что многим кажется приятнее, нежели чем чувствовать себя любимым.
Боль не исчезает, но притупляется, и ребенок, выбравший эффективную копинг-стратегию, может сформироваться как личность, которая незаменима для других, что даст ему право иметь место и цель в жизни. Это позволяет «невидимым детям» участвовать во многих важных событиях и не чувствовать себя такими изолированными. Помимо этого, такая забота может отчасти удовлетворить их социальные потребности и закрыть часть потребности в привязанности.
Перл – яркий пример человека с такой копинг-стратегией. Характерно, что она обратилась за терапией вовсе не из-за своей компульсивной заботы, а из-за нападок своей дочери. При этом именно чрезмерная забота Перл о других людях вызывает эмоциональное выгорание – ее копинг-стратегия перестала быть эффективной и привела ее на поле битвы, где она постоянно на грани поражения. И когда ее привычный способ жить рушится, она чувствует, что у нее больше ничего не осталось и ей некуда обратиться. Кажется, что сама ее личность находится под угрозой. В начале нашей с ней совместной работы она действительно находится в глубоком кризисе.
Некоторым людям компульсивная забота позволяет почувствовать себя могущественными и способными контролировать окружающий мир. Люди ощущают себя сильными: они почти герои, которые всегда справляются с кризисом, они скала, на которою любой может опереться в беде. И хотя они по-прежнему могут чувствовать нужду и ужас других людей, это все же не их чувства, а чужие – именно это позволяет им с ними безопасно взаимодействовать и находить способы помочь. Некоторые люди, которых в детстве игнорировали, впоследствии выбирают помогающие профессии, в том числе профессию психолога.
Такие люди чувствуют крепкую связь со страданиями других людей, потому что хорошо их понимают («раненые спасатели»). В процессе помощи они полностью отключаются от своих собственных страданий до такой степени, что готовы пойти на многое, чтобы убедиться в том, что это чужие страдания, а не их собственные. Способность эффективно помогать другому будет в любом случае зависеть от возможности человека держать в уме как свои страдания, так и страдания другого, но при этом разделять их, воспринимать разницу между собой и тем, кому они хотят помочь. Кроме того, это также будет зависеть от отношения помогающего к своим силам и от того, насколько хорошо он проработал этот вопрос в собственной терапии.
Основная проблема такой копинг-стратегии заключается в том, что за внешним состраданием и желанием помочь в человеке остается хорошо скрытое ощущение пустоты, незамеченности и ненужности. Многие компульсивные «спасатели» знают, что эта сердцевина по-прежнему с ними, и воспринимают компульсивную заботу о других как ложное Я. В результате человеку трудно или даже невозможно принимать признание, любовь и благодарность, в которых он нуждается и которые заслуживает за свои усилия. Вместо этого положительную связь скорее получит ложное Я, человек будет чувствовать себя еще более фрагментированным и продолжит избегать положительной обратной связи.
Компульсивные спасатели с такой скрытой и защищенной сердцевиной подвержены риску выгорания. Его симптомы несложно заметить: обычно человек чувствует, что у него нет сил помочь с тем, с чем к нему обращаются, а потребности окружающих людей начинают ощущаться как требования, а не как возможность выразить любовь, удовлетворив их. Если такая ситуация будет продолжаться долгое время, человек рискует выгореть.
Некоторые компульсивные спасатели знают, что в глубине души они несчастны, одиноки и нелюбимы. Их жизнь полна боли, и терапевту потребуется немало времени для того, чтобы помочь им увидеть в себе что-то хорошее. Другие же отождествляют себя с ролью помощника настолько сильно, что за чужим несчастьем забывают о своем – и могут только смутно задаваться вопросом, почему для них так важно всегда быть полезными.
В целом компульсивная забота – это чрезвычайно эффективный и социально одобряемый вид копинг-стратегии. Из-за этого клиентам бывает очень сложно меняться в процессе терапии, не хватает мотивации: ведь слушать о том, что нужно больше заботиться о себе и перестать вечно ставить других на первое место, им нравится – они чувствуют себя хорошими. Добавьте к этому тот факт, что исцеление компульсивных спасателей обычно не в интересах окружающих их людей – для них удобнее, чтобы те продолжали делать то, что делают. Как только они начинают хоть немного меняться, общество недвусмысленно заявляет им о своем недовольстве.
Поэтому я считаю, что важно помнить: такой копинг-механизм приобретается чудовищной ценой. За ним скрывается маленький человек, которого игнорировали и о котором, возможно, даже забывали – и он не заслуживает такой участи.
Глава 2
История эмоционального пренебрежения: сценарии развития
В этой главе я приведу примеры ситуаций, в которых дети могут получить опыт эмоционального пренебрежения. Также я бы хотела уточнить значение термина «эмоциональное пренебрежение» и сказать несколько слов о роли в жизни детей опекунов, и особенно родителей.
В контексте моей книги термины «эмоциональное пренебрежение» и «игнорирование» более или менее взаимозаменяемы, поскольку я считаю, что когда человека игнорируют, он, по сути, переживает эмоциональное пренебрежение. Это означает, что люди, которые должны заботиться о ребенке – родители или опекуны – не настроены на его эмоциональное благополучие, не видят признаков дистресса (или предпочитают их не замечать), не реагируют на просьбы ребенка о помощи, утешении или сочувствии.
Они могут действовать так по незнанию, из-за собственных психологических проблем или потому что у них просто не хватает на ребенка времени. Родители/опекуны при этом могут подозревать, что с ребенком не все в порядке, но предпочитают не думать об этом. Сюда же я отношу и тех родителей, которых почти не бывает рядом с ребенком: физически или эмоционально.
Я не включаю в этот ряд тех родителей, которые вместо эмоционального благополучия ребенка ставят во главу угла что-то другое (например, хорошее образование, удачный брак или выживание в трудных условиях) – в рамках такой системы убеждений их действия все же можно считать заботой. Однако я отдаю себе отчет в том, что бывают случаи, когда родитель озабочен своей целью настолько, что его отношение к ребенку заслуживает термина «эмоциональное пренебрежение». Например, если родитель с рождения ребенка полностью сосредоточен на том, чтобы вырастить из него кинозвезду, и при этом игнорирует его собственные потребности, это вполне можно назвать эмоциональным пренебрежением.
Здоровая противоположность пренебрежения – это внимание и забота. Ребенок при этом чувствует, что его видят, заботятся и помнят о нем. Впрочем, забота тоже может быть нездоровой – когда она чересчур навязчива, то превращается в мягкое насилие.
Существует довольно много исследований на тему того, в каком количестве внимания нуждаются дети. Можно утверждать, что есть золотая середина между слишком большим и слишком малым количеством внимания, а это наводит на мысль о том, что существует и здоровое пренебрежение. Оно развивает способность ребенка удовлетворять свои потребности и заботиться о себе самостоятельно, при этом точно зная, что взрослые всегда готовы прийти к нему на помощь. Благодаря здоровому пренебрежению ребенок учится проводить время наедине с собой (Beebe, Lachmann, 2002) и чувствует, что опекуны/родители не вторгаются в его жизнь с излишним контролем.
Границы здорового пренебрежения различаются в зависимости от особенностей конкретного ребенка, от количества (и качества) внимания, которое ему уделяют опекуны/родители, а также от других внешних обстоятельств. Кроме того, нужно иметь в виду, что потребности во внимании у детей также неодинаковы, однако всегда будут случаи, когда ребенок будет нуждаться в большем внимании – и важно, чтобы он знал, что может это внимание получить.
Я прекрасно понимаю, что представления о том, какая степень пренебрежения детьми приемлема для их здорового существования, во-первых, зависят от конкретной культурной среды, а во-вторых, сильно изменились за последние 50-100 лет. Несомненно, за это время произошло смещение фокуса, по крайней мере в западном обществе, с заботы о материальном благополучии детей (включая их образование) на заботу об их счастье и самореализации. Однако я не считаю, что 50 или 100 лет назад эмоциональное пренебрежение было нормой, – полагаю, что дети все равно чувствовали заботу со стороны родителей, даже если она не была сосредоточена на их эмоциональном благополучии. И до сих пор ровно то же самое происходит в странах, где у родителей/опекунов есть веские причины не ставить эмоциональное благополучие детей во главу угла, и это тоже не считается эмоциональным пренебрежением.
Люди, которых можно назвать «эмоционально пренебрегаемыми», не знают, каково это – получать заботу и участие, быть полноценной отдельной личностью. И это скорее является результатом качества, а не количества внимания и контакта. Именно субъективное ощущение, что тебя игнорируют, не любят, принимают как должное или просто терпят и совершенно тебе не рады, полагаю, приводит к тому, что люди становятся такими, какими я их описываю в этой книге. По моему опыту, такое субъективное переживание вполне может присутствовать даже в тех семьях, где родители убеждены в том, что они самые любящие люди в мире. Взаимоотношения так многогранны, что даже самые добрые намерения взрослых не являются гарантией того, что ребенок будет чувствовать заботу.
По моему опыту, большинство родителей и опекунов считают, что у них благие побуждения. Однако иногда они действуют вопреки им, например, когда злятся, напряжены или напуганы. При этом они далеко не всегда осознают свое поведение в такие моменты и зачастую оправдывают себя. Возможно, они просто делают все, что в их силах. Я хочу уважать поведение родителей и не собираюсь слепо обвинять их во всех грехах. С другой стороны, я также не намерена соглашаться с теми, кто считает, что у человека было идеальное детство, когда тот явно страдал от эмоционального пренебрежения. Я еще не встречала человека, который был бы встревожен или подавлен по собственному желанию: на то всегда есть причины, и обычно поведение человека – результат его лучших усилий.
У большинства взрослых, которых в детстве игнорировали, были ненадежные типы привязанности в отношениях с опекунами, что проявилось в склонности их защищать. Очень часто «невидимые дети» говорят, что физически не могут плохо отзываться или даже думать о своих родителях/опекунах. Однако для того чтобы успешно сепарироваться, важно вспомнить и проговорить, каким было их детство на самом деле. В рамках этого процесса бывает полезно возложить вину на родителей и разрешить себе позлиться на них. Кроме того, важно объяснить клиентам, что вытащить на поверхность свой субъективный взгляд на детство – это не то же самое, что обвинить и очернить своих родителей. Клиентам зачастую трудно осознать тот факт, что, хотя у родителей могли быть благие намерения и они делали все, что могли, результатом все равно явились страдания ребенка.
Как и многие другие клиенты, «невидимые дети» задаются вопросом, стоит ли им обсудить свое сложное детство с родителями (если те живы). Здесь важно взвесить все за и против: с одной стороны, клиент может улучшить с ними отношения, поговорив о детстве и обсудив версии друг друга. С другой стороны, велика вероятность, что опекуны/родители попытаются «подправить» воспоминания клиента, что не принесет ему пользы. В идеальном мире родители в разговоре с ребенком расскажут ему о том, каким они видят его детство, и поделятся своими чувствами, при этом не нападая и не обвиняя его.
У того, что ребенок не занимает должного места в жизни своих родителей, могут быть различные причины. На это влияют внешние обстоятельства или приоритеты родителей – они могут быть сосредоточены на чем-то другом, например, на своих отношениях, здоровье или работе. В семье могут быть другие дети, по какой-то причине требующие больше внимания, или другие родственники, например, пожилые родители, нуждающиеся в уходе. В целом это обычные бытовые проблемы, и если они не продолжаются долгое время, это не должно повлиять на ребенка, Родителям важно знать, что с ребенком все будет в порядке, если время от времени они будут уделять ему чуть меньше внимания, напротив – он станет немного более независимым и автономным. Но если подобная ситуация затянется на долгое время, будет очень серьезной или о ребенке вообще перестанут заботиться, это может привести к травме. Однако, опять же, только в идеальном мире родители, прежде чем заводить ребенка, учитывают стабильность жизненных обстоятельств и наличие необходимых ресурсов для того, чтобы обеспечивать своим детям постоянные заботу и внимание.
Бывают случаи, когда родители или опекуны находятся в созависимых или абьюзивных отношениях, алко- или наркозависимы либо страдают серьезным психическим заболеванием, таким как депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). В таких ситуациях очевидно, что дети не смогут получить необходимого внимания и в результате будут страдать. Впрочем, если ребенок понимает, в чем причина его страданий, это помогает ему почувствовать себя немного лучше.
Ситуация усугубляется, если оба родителя недоступны, и ребенку не к кому обратиться, когда ему что-то нужно. Чем младше при этом ребенок, тем более пагубны последствия пренебрежения для его дальнейшей жизни. Новорожденные и младенцы намного больше зависят от крепкого, надежного контакта с матерью, и перебои в этом контакте вызовут для них гораздо более серьезные последствия, чем для детей старшего возраста. Безусловно, дети при этом ничего не запомнят – однако воспоминания отложатся в их бессознательном и все равно будут на них влиять.
Есть много родителей, которым не особенно нравятся младенцы, а нравятся дети постарше. И это не значит, что дети таких родителей во взрослом возрасте обязательно будут чувствовать, что пережили опыт пренебрежения, будучи совсем малышами, – это зависит от того, насколько сильно была нарушена привязанность в раннем возрасте. Помимо возраста, в котором ребенок пережил опыт игнорирования (чем он младше, тем более разрушительны обычно последствия), также имеет значение то, как долго это продолжалось, и переставали ли ребенка игнорировать родители/опекуны или все оставалось неизменным до тех пор, пока он не вырос (см. Straus & Kantor. 2005).
Опять же, я не считаю, что каждый ребенок, который пережил эмоциональное пренебрежение, должен найти виноватого. Конечно, существует терапевтический прием, когда клиент обвиняет некую внешнюю силу, однако этот прием хорош только в том случае, когда клиент погряз в самобичевании. В такой ситуации возложение вины на другого человека или внешние обстоятельства – это полезный этап сепарации.
Обычно я опираюсь на субъективные переживания клиента: если он считает, что пережил эмоциональное пренебрежение, мы работаем с этим и не пытаемся искать виноватых. Терапевт не может знать наверняка, кто несет ответственность за ту или иную ситуацию. Он лишь интересуется тем, как ее видит клиент, прекрасно при этом понимая, что у других участников может быть другое видение той же ситуации. Жизнь научила меня, что даже если ни у кого не было злого умысла, люди все равно могут пострадать.
Кроме того, я не считаю полезным обвинять родителей в том, что их не было рядом, что они были в депрессии или занимались чем-то другим вместо заботы о ребенке. Я понимаю, что дети этих родителей злятся, потому что пострадали, и считаю важным обозначить это. Однако я принимаю во внимание и то, что родители могут быть не готовы признать собственные недостатки (причиной которых, к слову, может быть невежество и отсутствие навыков). И допуская, что иногда клиенту важно обвинить кого-то другого (а не самого себя), я все же считаю, что не стоит обвинять других – это чревато конфликтами, да и вообще разрушительно. Поэтому мне кажется более полезным, когда гнев этих клиентов выражается в другом месте – например, в терапии.
Я могу порекомендовать таким клиентам только одно: сосредоточиться на себе, на своем рассказе. Зачастую из желания сохранить хрупкие отношения с родителями и из-за привязанности к ним «невидимые дети» слишком хорошо понимают и принимают их часто кажущуюся разумной точку зрения. Это усложняет терапевтический процесс, поэтому клиенту нужно взглянуть на ситуацию собственными глазами. Я всеми силами стремлюсь к тому, чтобы добраться до собственного опыта клиента, очищенного от рассказов других людей, особенно если они преследовали какие-то свои цели, выдвигая свою версию событий. Важно, чтобы клиент был верен себе, и тогда он достигнет хорошего результата в терапии. Я считаю, что это гораздо важнее, чем пытаться заставить родителей/опекунов признать или искупить свою вину. Благосклонность по отношению к самому себе, стремление к заботе о себе – те качества, которые я стараюсь развить у всех своих клиентов. Если навык заботы о себе сформирован, становится легче почувствовать благодарность к своим родителям/опекунам и иногда даже выразить ее.
Далее я немного подробнее опишу варианты ситуаций, о которых рассказывают клиенты с опытом эмоционального пренебрежения.
Отсутствующие родители или опекуны
Самый простой сценарий, ведущий к эмоциональному пренебрежению, – это отсутствие родителя или опекуна. Причиной может быть болезнь родителя – например, если мать находится в больнице, в том числе из-за медицинских осложнений после родов. Ребенок может лишиться родителя и после его смерти или в результате установления опеки над ним. Кроме того, сюда относятся случаи, когда ребенок был изолирован от мира: например, если он родился недоношенным и был вынужден находиться в инкубаторе. И хотя в настоящее время делается все возможное, чтобы обеспечить детям необходимый физический и эмоциональный контакт даже в такой ситуации, при работе с клиентами старше 50 лет необходимо учитывать вероятность того, что их могли на некоторое время разлучить с матерью в младенчестве или в раннем детстве, если они родились преждевременно или с каким-то серьезным заболеванием. В таких случаях период разлуки с матерью мог составлять несколько дней, недель или даже месяцев. Все это время ребенок был лишен материнской фигуры, что могло сильно повлиять на него и спровоцировать пожизненные последствия.
Мать Оливии отдала ее на удочерение сразу после родов. Оливия видела свое дело об удочерении и знает, что несколько дней провела в больнице, пока для нее искали замещающую семью[1]. В этой семье она прожила полгода, после чего нашлась семья, которая ее удочерила.
Из этого мы можем сделать вывод, что ее ранняя история привязанности сильно нарушена: каждый раз, когда она начинала формировать привязанность, опекун исчезал – и ей приходилось начинать все сначала.
К тому времени, когда ее удочерили, она ощущала мир ненадежным и небезопасным местом, в котором никто не радуется ее появлению. К сожалению, приемные родители не смогли этого понять и приняли ее страх и неуверенность в себе за отсутствие благодарности. «В общем, я очень рано поняла, что родителям прежде всего требуется моя благодарность, и мне было необходимо ее выражать, чтобы они меня полюбили и приняли. Из-за этого благодарность стала моей кошмарной обязанностью, так что в результате я возненавидела само это слово. Представить не могу, что было бы, узнай кто-нибудь, как сильно я все это ненавижу».
У многих взрослых, которых усыновили в младенчестве, осталось чувство, что им в этом мире не рады. То, насколько сложно им справляться с жизнью, как правило, зависит от того, как долго они ждали, пока их усыновит новая семья, а также происходили ли с ними какие-то травматичные события.
Одной из самых серьезных трагедий в ранней жизни ребенка является смерть родителя, особенно если этот родитель был для него главной фигурой. Исследования, проводившиеся в 1950-х и 1960-х годах, ясно показывают связь между депрессией и ранней потерей главной для ребенка фигуры, а также подчеркивают важность заботы и внимания со стороны других лиц, взявших на себя роль опекунов после смерти родителя (Emde. Polak. 1965; Robertson & Robertson. 1989; Spitz. 1965).
Переживая потерю, ребенок может осознанно или неосознанно винить себя в смерти родителя. Зачастую бывает и так, что ребенок сталкивается с обвинениями со стороны других членов семьи, особенно если его мать умирает во время родов, – и вырастает с четким ощущением, что он плохой или даже опасный для других.
Норман потерял мать, когда ему было всего три года, то есть он был слишком мал, чтобы понять, что произошло. Из-за этого его страдания особенно мучительны: у него отсутствуют конкретные воспоминания, а есть только ощущение уныния и безрадостности. Он смутно помнит, что после смерти матери его отдали дальним родственникам, которые по очереди присматривали за ним в течение нескольких недель. Каждый раз, когда он только-только привыкал к опекуну, его передавали следующему.
Он помнит то время как очень мрачное. «Не думаю, что я особо интересовался своими опекунами, как, впрочем, и они мной. Я просто хотел вернуть свою мать или хотя бы отца. Однако мне постоянно говорили, что у него нет на меня времени. Так что в какой-то момент я смирился и просто пытался выжить. Однако мои родственники, как мне кажется, считали меня угрюмым и вспыльчивым. Помню, как разные люди постоянно пытались меня "встряхнуть" и ругали за то, что я такой угрюмый. Я думаю, что так и не смог вырваться из этой депрессии – она стала моим домом», – говорит он.
Депрессия родителей
Послеродовая депрессия – нередкое явление. Значительная часть женщин испытывает подавленные чувства в течение нескольких дней после родов (это состояние также называют «бэби-блюз»), но обычно это довольно быстро проходит и не мешает нормальной связи между матерью и ребенком. Однако у некоторых женщин такое состояние сохраняется в течение недель или месяцев и переходит в более серьезную форму (Murray, 1992; Murray & Cooper, 1996), что может вызвать последствия для ребенка во взрослой жизни.
Многие считают, что причиной послеродовой депрессии являются гормональные изменения в организме, сопровождающие рождение ребенка. Другие, например, Д. Роу, с этим не соглашаются. Как бы то ни было, исследования показывают, что на это во многом влияют психологические факторы, например, была ли у матери депрессия раньше, есть ли у нее эмоциональная поддержка со стороны близких, а также насколько трудным или даже травмирующим был опыт самих родов (Field et al., 2008; Milgrom et al., 2008; Reynolds, 1997).
Когда молодая мать находится в серьезной депрессии, она не реагирует на ребенка, постоянно чем-то озабочена, замкнута в себе и часто пребывает в плохом настроении (Cori, 2017). А поскольку эмоциональное и физическое благополучие ребенка в значительной степени зависит от чуткости родителя/опекуна, эта ситуация ведет к нарушениям психологического развития. У ребенка не будет первичной уверенности в том, что мир рад его появлению, он не увидит счастья в глазах родителя и не почувствует всеобъемлющей любви. Кроме того, при таком контакте ребенок будет лишен нормального взаимодействия с родителем, потому что не будет видеть его реакций на себя и свои потребности.
Эд Троник провел эксперимент под названием «Застывшее лицо», который показал, насколько тяжело приходится младенцу, если родитель/опекун не проявляет никаких реакций (Cohn & Tronick, 1983; Weinberg et al., 2008). В интернете есть несколько видеозаписей этого эксперимента, и смотреть их мучительно тяжело – в особенности тем, чье детство прошло рядом с депрессивными матерями (Tronick, 2009). У эксперимента с неподвижным лицом есть несколько подходов: каждый длится всего по несколько секунд, однако этого достаточно, чтобы хрупкая защита эго ребенка существенно пошатнулась – вплоть до частичного нарушения координации движений. Трудно представить, как ребенок может находиться в подобной ситуации неделями или даже месяцами, но очевидно, что это серьезно влияет на развитие его мозга.
Однажды Мортимер спросил своих родителей об обстоятельствах, при которых он родился. Его мать отреагировала мгновенно: «О, это было ужасно. Я думала, что родить ребенка не сложно, но роды оказались невероятно долгими и болезненными, поэтому я поклялась себе, что больше никаких детей – достаточно одного. Мне потребовались месяцы, чтобы восстановиться как физически (у меня были огромные шрамы, которые очень болели), так и эмоционально, потому что я злилась на себя из-за того, что все это оказалось для меня так сложно. Окончательно меня доконал недостаток сна, а твой отец не то чтобы сильно мне помогал. Так что в течение года я все глубже погружалась в депрессию. Мне стало полегче только после того, как тебе исполнился год. Однако сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что на самом деле была в депрессии несколько лет».
Мортимер был поражен, потому что она никогда раньше ему об этом не говорила. Ее слова вызвали в нем сильнейшее чувство вины, хотя он и понимал, что не виноват в трудностях, с которыми пришлось столкнуться его матери. Однако он настолько отождествлял себя с ней, что не мог не почувствовать, что причинил ей боль просто тем, что родился.
Ему потребовалось много времени, чтобы осмыслить свой детский опыт, на самом деле трудный и очень несчастный. Его рассказ подтвердил мою теорию о том, что он готов пойти абсолютно на все, если это может сделать его мать счастливее.
Клиентов, чьи матери пребывали в депрессии после родов, как правило, объединяют определенные черты. В детстве они были удивительно послушными, но при этом тревожными. Более того, многие из них жили в своего рода эмоциональном тумане, не понимая собственных чувств. Это может быть прямым следствием отсутствия раннего родительского отзеркаливания. Степень страдания ребенка зависит от того, насколько сильной была поддержка у его матери. Кроме того, очень важно, заботился ли кто-то о ребенке во время депрессивной фазы матери – если да, то ущерб для него был меньше. Если ребенок часто оставался на попечении депрессивного родителя, он мог ощущать себя будто в тюрьме: слишком тихо, мало человеческого контакта, недостаточно игр – и слишком много времени приходилось просто ждать и быть «хорошим».
Занятость родителей
Некоторые родители/опекуны могут быть настолько озабочены собой и своими потребностями, что пренебрегают потребностями детей, которые находятся на их попечении. В эту категорию попадают все родители, которым сложно принять ответственность и находиться в роли родителя постоянно, в результате они берут на себя эту роль лишь время от времени (Gibson, 2015). Сюда же можно отнести матерей, которые еще сами остаются детьми или настолько нуждаются во внимании и заботе, что конкурируют за них со своим ребенком и в конечном итоге завидуют всему тому, что он получает. Также есть родители, которые рассматривают ребенка как продолжение себя, а не как отдельную личность. Есть те, кто относится к детям как к модным аксессуарам или «лепит» из ребенка идеальную версию себя – того, кем они сами хотели бы быть. Некоторые родители используют детей, чтобы почувствовать себя любимыми (потому как всем известно, что дети испытывают к родителям безусловную любовь – и так будет всегда), а также для того, чтобы дать ребенку то, чего они сами не получили в детстве. Такие родители сами вполне могли быть «невидимыми детьми» в прошлом и теперь они передают проблемы следующему поколению.
Все эти родители эмоционально недоступны для детей, не умеют с ними взаимодействовать, видеть в них отдельных людей, проявлять интерес и заботиться об их эмоциональном благополучии. Дети таких родителей неизбежно будут сталкиваться с игнорированием – как физическим, так и эмоциональным.
