Молот и плеть. Где кончается Русь
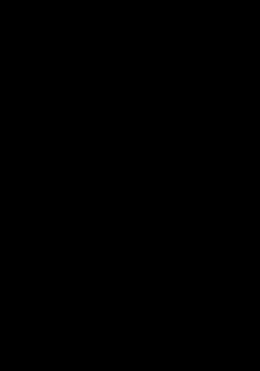
Глава 1: Ритм Молота
Песня кузницы была единственной, что имела смысл.
Она начиналась с низкого, утробного гула мехов, вдыхающих и выдыхающих воздух, словно спящий лесной бог. Затем вплетался голодный треск древесного угля в горне, пожирающего жар, чтобы выплюнуть его обратно столпом дрожащего марева. И над всем этим, задавая ритм самому дню, царил он – звук молота. Не просто удары. Нет. Это был пульс мира, каким его видел и создавал Ратибор.
Бум. Глухой, тяжелый удар по раскаленной добела полосе железа, осаживающий металл, делающий его плотнее, послушнее. Тоннн. Звонкий отскок от наковальни, эхо, которое заставляло вибрировать воздух в полутемном срубе. Шшшшш… Шипение, когда он окунал заготовку в дубовую кадку с водой, и клубы пара взмывали к закопченным балкам потолка, неся с собой запах мокрого камня и обожженного железа.
Ратибор стоял перед горном, и казалось, сама кузница была продолжением его тела. Огонь плясал в его серых, как грозовое небо, глазах. Жар не причинял ему неудобств, лишь заставлял капли пота обильно стекать по широкой груди и рельефным мышцам спины, чертя блестящие дорожки на коже, покрытой тонким слоем сажи. На нем были лишь свободные порты из грубого льна, подпоясанные кожаным ремнем, да фартук из толстой бычьей шкуры, защищавший его от летящих искр.
Его тело было картой его ремесла. Широченные плечи и мощные руки, способные согнуть подкову, были покрыты сетью вздувшихся от напряжения вен. Каждый мускул на его торсе и спине был очерчен так четко, будто его вырезал из камня искусный ваятель. Длинные, выгоревшие на солнце русые волосы были стянуты на затылке кожаным шнурком, но несколько влажных прядей все равно прилипли ко лбу и вискам. Он был молод, едва ли разменял третий десяток, но в его облике была зрелая, первобытная сила, которая одновременно пугала и гипнотически притягивала взгляды. Особенно женские.
Он работал над лемехом для нового плуга старосты. Заказ был простой, но Ратибор не умел делать просто. Он вкладывал в каждый изгиб, в каждое уплотнение металла часть своей души. Для него это было не просто железо. Это был хаос, которому он давал форму и цель. Огонь делал металл мягким, покорным, обнажал его суть. А молот превращал эту суть в нечто полезное, прочное, вечное.
С людьми все было иначе. Они были куда сложнее раскаленного железа. Их слова были мягкими, но за ними часто скрывалась пустота или яд. Их взгляды обещали жар, но этот жар не созидал, а лишь сжигал дотла, оставляя после себя холодную золу разочарования. Ратибор чувствовал эти взгляды на себе каждый день. Когда шел к реке умыться, когда нес в дом дрова. Он видел их в глазах деревенских девок – любопытные, голодные, оценивающие. Они смотрели на его руки, плечи, на то, как движутся мышцы под кожей, и в их глазах он видел тот же огонь, что и в горне. Но этот огонь он не мог контролировать. А то, что он не мог контролировать, он презирал.
Поэтому весь свой пар, всю свою ярость и страсть, которые кипели в его молодой крови, он выпускал здесь, в кузнице. Каждый удар молота был невысказанным словом, каждое шипение остывающего металла – подавленным вздохом.
Скрипнула дверь, впуская в кузницу полосу яркого дневного света и свежий запах скошенной травы. На пороге стоял его отец, Борислав. Мужчина уже в летах, но все еще кряжистый, с такой же широкой костью, как и у сына, только время и жизнь сгладили его углы, покрыли лицо морщинами и присыпали бороду сединой.
– Опять говоришь с железом больше, чем с людьми, сын? – голос у Борислава был низкий, с хрипотцой. Он вошел и присел на старую колоду у стены, с кряхтением распрямляя больную спину.
Ратибор, не отрываясь от работы, вытащил клещами лемех из огня, положил его на наковальню и нанес еще несколько точных, выверенных ударов. Искры разлетелись веером.
– Железо честнее, отче, – наконец ответил он, и его голос, глубокий и рокочущий, казалось, был частью кузнечной песни. – Оно не лжет. Если в нем есть изъян – оно сломается. Если ты приложил мало силы – оно не согнется. С ним все понятно.
Борислав покачал головой и достал из-за пояса простую деревянную трубку.
– Понятно… – протянул он, набивая ее сухим пахучим табаком. – Понятно – это хорошо. Только жизнь, Ратибор, она не из одного железа состоит. Она еще из мяса и крови. Из тепла женского тела зимней ночью. Из крика первенца, который будет носить твое имя.
Ратибор опустил лемех в воду. Кузницу наполнил густой пар. Он повернулся к отцу. Его обнаженный по пояс торс блестел от пота в свете горна, и на мгновение он показался отцу языческим божеством огня, сошедшим со своего капища.
– Тепло женского тела… – Ратибор усмехнулся, но в усмешке не было веселья, лишь горечь. – Их тепло, отче, как лесной пожар. Сегодня он греет, а завтра от твоего дома останутся одни угли. Ты сам учил меня: хороший клинок должен пройти закалку. Огонь и вода. Жар и холод. А их тепло – оно без закалки, оно просто плавит, превращает твердое в жидкое, а потом оставляет остывать в кривой форме.
Борислав раскурил трубку, выпустив облако сизого дыма. Он смотрел на сына с любовью и тревогой.
– Ты говоришь так, будто уже обжегся сто раз. А ведь ни к одной даже близко не подошел. Зоряна-то, старосты дочь, глянь, какая стала. Яркая, как маков цвет. Бедра – хоть сейчас на них дитя качай. Как ты мимо проходишь, она взглядом на тебе рубаху прожигает. Милава, дочь бортника, похитрее будет, но и она глаз с тебя не сводит, смотрит, как кошка на сметану. А Лада… та совсем еще дитя, но в глазах у нее такая тоска по тебе, что волки в лесу воют. Неужто ни одна не по сердцу? Неужто кровь в тебе не играет? Я в твои годы уже тебя на руках нянчил.
Ратибор взял со стола тряпку и медленно вытер лицо и грудь.
– Кровь играет, отче. Еще как играет, – тихо сказал он. – Потому и стою здесь с рассвета до заката. Всю игру сюда, в молот, вкладываю. Потому что вижу я их насквозь. Зоряне нужен самый сильный жеребец в деревне, чтобы все подруги обзавидовались. Милаве – крепкий хозяин, чтобы отцовское добро приумножить. Ладе… Лада, может, и смотрит искренне, но она смотрит не на меня, а на мечту, которую сама себе придумала. Им всем что-то нужно от меня. Моя сила, мое ремесло, мое имя. Но никто из них не хочет заглянуть вот сюда, – он ткнул большим пальцем себе в грудь. – Никто не хочет понять, почему я лучше поговорю с наковальней, чем с ними. Они хотят сломать меня, переделать под себя. А я, отче, не сыродутное железо, чтобы меня любая баба под свой ухват гнула.
Наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием углей. Борислав долго смотрел на сына, и в его взгляде была и гордость за его твердость, и отцовская печаль.
– Ты слишком много думаешь, Ратибор, – наконец сказал он. – Иногда надо не думать, а чувствовать. Ты боишься не того, что они тебя сломают. Ты боишься того, что одна из них окажется сильнее твоего железа. Что найдется такая, что заставит тебя забыть про молот и горн. Ты боишься потерять себя. Но, сын, может, иногда, чтобы найти себя, нужно сначала в ком-то потеряться?
Ратибор ничего не ответил. Он снова взял в руки клещи и вернулся к горну. Для него этот разговор был окончен. Слова отца, как вода на раскаленный металл, лишь на мгновение охладили поверхность, но внутри по-прежнему бушевал огонь.
Борислав посидел еще немного, докурил трубку и, тяжело вздохнув, поднялся и вышел.
Оставшись один, Ратибор со всей силы ударил молотом по готовому лемеху. Звук получился оглушительным, яростным. Он бил снова и снова, вымещая непонятное раздражение, которое оставил после себя разговор с отцом.
«Потеряться…» – стучало у него в висках в такт ударам. Он знал, что это такое. Он терял себя каждый раз, когда брал в руки раскаленный металл. Он сливался с огнем, с железом, с ритмом. Но это была честная потеря. Это было созидание. А потеряться в женщине… это было похоже на падение в бездонный омут.
Он закончил работу, когда солнце уже начало клониться к закату. Идеально откованный, острый лемех лежал на каменном полу, остывая. Ратибор провел по нему мозолистой ладонью. Гладкий, прочный, совершенный. Вот то, что было ему понятно. То, что имело смысл.
Он вышел из кузницы на свежий воздух. И тут же почувствовал на себе знакомый взгляд. У калитки их двора стояла Зоряна. Она сделала вид, что просто проходила мимо, но он-то знал – ждала. На ней был яркий сарафан, подчеркивающий высокую грудь и крутые бедра. Распущенные волосы горели золотом в закатных лучах. Она улыбнулась ему медленной, томной улыбкой.
Ратибор кивнул ей – ни холодно, ни тепло, просто знак вежливости – и пошел к дому. Он слышал, как она вздохнула ему в спину. Он чувствовал ее обжигающий взгляд на своей потной спине. И единственным его желанием было вернуться обратно, в спасительную тишину и понятный ритм своей кузницы. В мир, где самым страстным признанием был удар молота, а самой нежной лаской – покорность раскаленной стали.
Глава 2: Зоряна
Зной сгустился в кузнице до плотности горячего меда. Ратибор закончил с лемехом и теперь выпрямлял зубья на старой бороне, монотонно и яростно отбивая каждый изгиб. Эта работа не требовала того полета души, что нужна была для клинка или узора, и оттого была ему сейчас сподручнее. Она позволяла освободить голову, отдать тело чистому, животному труду. Пот лил с него ручьями, и казалось, вместе с соленой влагой из него выходит и раздражение после отцовских слов, и тяжесть одиночества, которую он сам на себя взвалил, как лучший доспех.
В проеме двери, вырезая черный силуэт на фоне ослепительно-желтого дня, появилась она.
Зоряна.
На мгновение, пока глаза привыкали к свету, он видел лишь очертания. Высокая, статная фигура, где каждый изгиб был обещанием. Обещанием плодородия, как у Матери Сырой Земли. Обещанием жаркой ночи, как у пламени в его горне. Затем свет сдался, и она шагнула внутрь, принеся с собой запах полевых цветов, парного молока и чего-то еще – неуловимо-пряного, чисто женского, от чего у него на мгновение перехватило дыхание.
Она была воистину самым ярким цветком в их деревне. Не нежным, что клонится от ветра, а гордым, упругим, тянущимся к самому солнцу. Ее волосы, густые и тяжелые, цвета спелой пшеницы под полуденным светом, были небрежно заплетены в толстую косу, что змеей лежала на плече, но множество золотых прядей выбились на свободу и ореолом обрамляли ее лицо. Лицо, которое могло бы свести с ума любого мужчину. Высокие скулы, чуть вздернутый нос, полный, четко очерченный рот, словно созданный для поцелуев и дерзких слов. И глаза. Цвета летнего неба в ясный день, синие, глубокие, и в этой синеве плясали бесстыжие, уверенные искорки.
На ней был простой льняной сарафан василькового цвета, без вышивки, но он облегал ее налитое, сильное тело так, что любая богато расшитая одежда показалась бы безвкусной тряпкой. Высокая, полная грудь натягивала ткань до предела, и при каждом ее движении было видно, как под льном ходят упругие холмы. Тонкая талия резко переходила в крутые, широкие бедра – бедра женщины, рожденной, чтобы рожать сильных сыновей. Она стояла босая, и ее ноги, сильные и стройные, были покрыты легкой пылью.
В руках она держала запотевший глиняный кувшин.
– Я смотрела, как ты работаешь, – ее голос был низким, с легкой хрипотцой, бархатным, он проникал под кожу и заставлял вибрировать что-то глубоко внутри. – Сам, как твой горн, горишь. Подумала, что у тебя в горле, должно быть, пересохло. Принесла тебе холодного квасу.
Она говорила это так просто, будто заботилась о младшем брате, но во взгляде ее не было ничего сестринского. Он был тяжелым, оценивающим, почти осязаемым. Он скользнул по его обнаженному торсу, задержался на рельефных мышцах живота, прошелся по мощным рукам. Ратибор чувствовал этот взгляд как прикосновение.
Он молча отложил молот, звук удара которого, казалось, все еще дрожал в воздухе, и подошел к ней. Взял тряпку, вытер руки от сажи, хотя знал, что это бесполезно – копоть въелась в его кожу навсегда.
– Спасибо, Зоряна, – сказал он ровно, стараясь, чтобы его голос не выдал того смятения, что поднялось в его груди. Он протянул руку к кувшину.
И тут она сделала свой ход. Вместо того чтобы просто отдать кувшин, она подала его вперед так, чтобы их пальцы встретились. Его грубые, обожженные, покрытые мозолями и черной пылью пальцы коснулись ее – гладких, теплых, с аккуратными, чистыми ногтями. Он ощутил ее кожу как разряд.
Но она не отпустила. Ее пальцы, вместо того чтобы разжаться, скользнули по его руке, задержались на запястье на долю секунды дольше, чем позволяли приличия. Это было легкое, почти невесомое движение, но для Ратибора оно было громче удара молота. Он резко отдернул руку, словно обжегся, крепко сжав холодную глину кувшина.
Зоряна усмехнулась, одними уголками губ. Она видела его реакцию. Она знала, что достигла цели.
– Что с тобой, кузнец? – ее голос стал еще ниже, интимнее. – Боишься прикосновения? Или только раскаленный металл тебе не страшен?
Он поднес кувшин к губам и сделал несколько больших, жадных глотков. Холодный, кисловатый напиток обжег горло, привел мысли в порядок. Он пил долго, давая себе время, чтобы совладать с собой.
– Спасибо. Квас хороший, – сказал он, опуская кувшин и вытирая губы тыльной стороной ладони. Он намеренно не ответил на ее вопрос-укол.
– Я знаю, что хороший. Матушка моя на травах его ставит, чтобы силу мужскую крепил, – она сделала шаг ближе. Теперь запах ее тела стал еще отчетливее. Ратибор чувствовал, что задыхается, будто она вытеснила из кузницы весь воздух. – Гляжу я на тебя, Ратибор, и думаю… Столько в тебе силы, столько огня. Хватит на десятерых. Неужели ты хочешь всю ее в железо вложить? Оно же холодное, мертвое. Оно не обнимет тебя ночью, не согреет.
Она говорила медленно, обволакивая его словами, как паутиной.
– Этот огонь, Зоряна, он чистый, – ответил он, ставя кувшин на край наковальни. Он заставлял себя смотреть ей прямо в глаза, принимая ее вызов. – Он создает, а не сжигает попусту. Этот лемех будет пахать землю, и земля даст урожай. Этот топор нарубит дров, и дрова согреют дом. Этот меч защитит от врага. У моего огня есть цель. А какой прок от того огня, о котором ты говоришь? Он лишь вспыхнет на миг и оставит после себя золу и сожаление.
Зоряна рассмеялась. Негромко, но раскатисто, от души.
– Ты такой смешной, Ратибор. Ты рассуждаешь об огне, стоя по пояс в его пламени. Рассуждаешь о жизни, запершись в этой темной конуре. Разве жизнь – это только цель и прок? А где же радость? Радость просто от того, что ты живешь, что ты сильный, молодой? Что кровь твоя горячая? – она снова шагнула вперед. Теперь их разделяло не больше локтя. – Твоя сила… она дана тебе богами не для того, чтобы ты в одиночестве ее в землю зарывал. Сила должна порождать силу. Огонь должен зажигать другой огонь.
Она протянула руку и, прежде чем он успел отстраниться, коснулась его груди. Ее ладонь была прохладной на его разгоряченной коже. Он замер, как олень, увидевший охотника.
– Посмотри на себя, – прошептала она, ее пальцы медленно скользили по рельефу его мышц. – Ты как бог. Как сам Сварог у своей небесной кузни. Неужели ты думаешь, что такая красота и мощь должны пропадать даром? Мужчина неполноценен без женщины, как и женщина без мужчины. Это как замок и ключ, как земля и семя. Ты куешь замки, Ратибор. Но ты боишься ключа, который может тебя отпереть.
Ее слова были ядом и медом одновременно. Он чувствовал, как слабеют его колени, как туманится разум. Ее запах, ее голос, ее прикосновение – все это было мощным заклятием. Он видел перед собой не просто деревенскую девку. Он видел первобытную силу, равную его собственной. И эта сила звала его, манила, обещала сдаться и одновременно поглотить без остатка.
Он перехватил ее запястье. Его хватка была железной, но он старался не причинить ей боли.
– Мой замок крепок, Зоряна. И я сам выковал его таким, чтобы ни один ключ не подошел, – его голос был хриплым. – Я знаю, чего ты хочешь. Ты видишь во мне дикого зверя, которого хочешь приручить и показывать потом подругам. Но я не конь, чтобы меня запрягали, и не медведь, чтобы водить на цепи для потехи.
В ее глазах не было ни обиды, ни страха. Лишь азарт.
– А может, я не приручить хочу? – промурлыкала она, не пытаясь вырваться. – Может, я хочу выпустить зверя на волю? Побегать с ним по лесу наперегонки. Ты прав, кузнец, я хочу тебя. Так же, как ты, я уверена, хочешь меня, просто боишься в этом признаться даже себе. Я хочу твою силу, твой гнев, твою страсть. Я хочу взять все это и вернуть тебе вдвойне.
Он разжал пальцы.
– Уходи, Зоряна.
Она отступила на шаг, и на ее губах играла все та же уверенная, всезнающая улыбка. Она победила в этом поединке, и они оба это знали. Она разбудила в нем то, что он так старательно усыплял ударами молота.
– Хорошо. Я уйду. На сегодня, – она повернулась и пошла к выходу, ее бедра качались в такт шагам, приковывая взгляд. Уже в дверях она обернулась. – Думай, кузнец. Думай о том, что мертвое железо никогда не ответит на твою ласку.
И она ушла, оставив после себя в душной кузнице звенящую тишину, аромат своего тела и раскаленный след от своего прикосновения на его коже, который жег сильнее любой искры из горна. Ратибор стоял не двигаясь, тяжело дыша. А потом схватил молот и со всей дури обрушил его на наковальню.
БУМ!
Но на этот раз звук не принес облегчения. Он лишь вторил бешеному стуку его собственного сердца.
Глава 3: Пустой разговор
Прошло два дня. Два дня, в течение которых Ратибор пытался выковать из своей памяти образ Зоряны, выжечь его из мыслей так же, как он выжигал примеси из рудного железа. Он работал с остервенением, почти не выходя из кузницы, доводя свое тело до полного изнеможения в надежде, что усталость убьет желание. Но образ возвращался. В пляшущих языках пламени ему мерещился блеск ее золотых волос. В шипении остывающего металла он слышал ее шепот. И жар от горна казался прохладным по сравнению с тем огнем, что оставило на его коже ее мимолетное прикосновение.
Он как раз вытягивал изящный завиток на навершии ритуального ножа, который заказал ему волхв для грядущего праздника. Эта работа требовала не столько силы, сколько точности и чувства. Металл под его молотом изгибался, становился податливым, почти живым. В эти мгновения Ратибор чувствовал себя творцом, способным придать хаосу форму, подчинить стихию своей воле. И в этом он находил покой.
– Опять творишь красоту, которую никто, кроме старого волхва, не оценит?
Ее голос за его спиной прозвучал так неожиданно, что он едва не промахнулся молотом. Он не услышал, как она вошла. Она двигалась, как рысь – бесшумно и грациозно. Он не обернулся. Продолжил наносить легкие, точные удары, концентрируясь на узоре.
Зоряна обошла наковальню и встала напротив, прислонившись бедром к краю дубовой кадки с водой. На этот раз на ней был сарафан из неотбеленного льна, перехваченный на талии плетеным красным поясом. Простая одежда, но она лишь подчеркивала ее природную стать. Она смотрела на его работу, но он чувствовал, что ее взгляд на самом деле направлен на него.
– Он словно живой в твоих руках, – сказала она, нарушая тишину. Ее голос был тихим, задумчивым. – Я видела, как другие мужики работают. Стучат, как дятлы по сухому дереву. Грубо, без души. А у тебя… железо словно слушается тебя, само хочет стать таким, каким ты его видишь. В тебе магия, Ратибор.
Он окунул раскаленный кончик ножа в масло. Комнату наполнил густой, терпкий запах.
– Это не магия. Это ремесло, – ответил он сухо, не глядя на нее. Его пальцы крепко сжимали рукоять молота.
Её слова – как летний пух, – подумал он про себя. – Легкие, пустые, лезут в глаза и в нос, мешают дышать и работать. Она думает, что лесть – это тот ключ, что откроет любую дверь? Глупая.
– Ремесло – это когда ты делаешь плуг или скобу, – не сдавалась она, игнорируя его холодность. – А это… это песня, застывшая в металле. Ты вкладываешь в него всего себя. Всю свою силу. Я вижу это. Вижу, как ходят мышцы на твоей спине, когда ты заносишь молот. Каждая жила наливается, как тетива у лука перед выстрелом. Вся деревня это видит. Мужики завидуют, а бабы… – она сделала паузу, ее голос стал ниже, – …бабы вздыхают.
Он снова положил заготовку в горн, раздувая огонь мехами. Гудение наполнило кузницу, давая ему повод не отвечать. Он сосредоточился на пламени, на том, как металл начинает наливаться сначала багровым, а потом почти белым светом. Он пытался уйти в свою работу, построить вокруг себя стену из звуков, жара и концентрации. Но ее присутствие было слишком ощутимым. Она стояла рядом, и он чувствовал ее тепло, ее дыхание, ее запах.
– Для чего тебе такая сила, Ратибор? – продолжила она, и ее вопрос прорвался сквозь его защиту. – Ты ведь сильнее всех. Отец говорит, ты один можешь поднять на плечо бычка-двухлетку. Зачем она тебе? Чтобы ковать ножи для волхва и подковы для чужих кобыл?
– Сила нужна, чтобы делать свою работу хорошо, – ответил он, вынимая нож. Металл светился. Бум… то-ннн… бум… то-ннн. Он работал быстро, точно, вкладывая в удары сдерживаемую ярость.
– Работу… – она горько усмехнулась. – Другие мужики своей силой хвастаются на праздниках. Бревна кидают, друг с другом борются, чтобы девкам понравиться. А ты свою силу прячешь здесь, в темноте. Ты ее боишься? Или ты боишься того, на что она способна вне этой кузни? Что такое сила, если ее не с кем разделить? Если она не приносит радости ни тебе, ни другим? Она как вода в пересохшем колодце – есть, а толку нет.
Его рука дрогнула. Удар получился чуть сильнее, чем нужно, и на долю мгновения он нарушил идеальную линию завитка. Он мысленно проклял ее. Она мешала ему. Она проникала под кожу, отвлекала, заставляла его ошибаться в единственном мире, где он был безупречен.
Он с шипением опустил клинок в воду и наконец повернулся к ней. Его глаза, серые и холодные, как зимнее море, встретились с ее синими.
– Ты ничего не понимаешь в силе, Зоряна, – сказал он медленно, отчетливо выговаривая каждое слово. Его голос был низким, в нем вибрировал металл. – Сила, которой хвастаются, – это не сила, а слабость. Это крик о том, "посмотрите на меня, я чего-то стою". Сила, которую делят со всеми подряд, утекает сквозь пальцы, как вода. Настоящая сила – она внутри. Она для дела. Для того, чтобы созидать, а не для того, чтобы пускать пыль в глаза на потеху пьяной толпе.
Он ожидал, что она обидится или начнет спорить. Но она лишь склонила голову набок, и в ее глазах появилось что-то новое – не просто желание, а глубокий, почти хищный интерес.
– Значит, твоя сила – для дела… – протянула она, и ее взгляд медленно, нагло прошелся по его телу, от мокрых от пота волос до напряженных мышц на ногах. – И какое же у нее главное дело, кузнец? Какая работа для нее самая важная? Или твоя сила… она только для молота? В постели ты так же тверд и неутомим, как у наковальни?
Воздух в кузнице сгустился так, что его можно было резать ножом. Это был прямой удар, без намеков и уловок. Ее слова нарисовали в его воображении картину – яркую, бесстыдную, обжигающую. Картину их сплетенных тел, ее стонов, его силы, наконец-то нашедшей иное применение.
– Я бы хотела увидеть твою силу в настоящем деле, Ратибор, – прошептала она, делая крошечный шаг к нему. – Когда ты возьмешь меня так же крепко, как держишь свой молот. Когда войдешь в меня так же точно и глубоко, как твой клинок входит в масло. Я хочу, чтобы ты забыл про свое железо, про весь мир… Я хочу принять в себя весь твой огонь, всю твою ярость, пока ты не выгоришь дотла… А потом зажечь тебя снова.
Кровь ударила ему в голову. Он сжал кулаки так, что костяшки побелели. Дыхание сперло. Он хотел сказать ей, чтобы она замолчала, чтобы убиралась, но язык прилип к небу. Он мог согнуть стальной прут голыми руками, но против ее слов, против образов, что они породили, он был бессилен.
В ее глазах он увидел не похоть. Он увидел вызов. Она предлагала ему не просто ночь любви. Она предлагала ему поединок, битву двух равных стихий.
Он резко отвернулся, схватил еще не остывшую заготовку и снова сунул ее в огонь.
– Разговор окончен. Уходи.
Он не кричал. Его голос был почти шепотом, но в нем было столько сдерживаемого напряжения, что он прозвучал страшнее любого крика.
Зоряна постояла еще мгновение, глядя на его напряженную, дрожащую спину. Она снова улыбнулась своей тайной, победившей улыбкой.
– Язык у тебя твердый, кузнец, – сказала она ему в спину. – Посмотрим, что еще у тебя такое же твердое.
И, не сказав больше ни слова, она повернулась и вышла, оставив его одного в тишине, нарушаемой лишь гудением мехов и бешеным стуком его сердца. Он стоял перед горном, глядя на огонь, но не видя его. Внутри него все было перевернуто. Этот разговор не был пустым. Он был как капля яда в чаше с чистой водой. И яд уже начал действовать.
Глава 4: Пари
Вечер опускался на деревню медленно, как старая уставшая корова ложится на лугу. Тягучий летний воздух был густо замешан на запахах сена, дыма из очагов и кисловатого духа пролитого на землю пива. У общественного колодца, обложенного замшелыми валунами, собрался костяк деревни – мужики, закончившие свои дневные труды и теперь имевшие полное право на неспешный разговор и кружку-другую хмельного.
Солнце, красное и огромное, цеплялось за верхушки сосен на той стороне реки. Его последние лучи золотили седые бороды, выхватывали из полумрака мозолистые руки, лежащие на коленях, и заставляли тускло блестеть медные бляшки на поясах. Здесь были все: староста Демьян, грузный и степенный; охотник Фрол, жилистый, пахнущий лесом и зверем; пасечник Микула, чей тихий голос, казалось, всегда был полон жужжания его пчел. И среди них, чуть поодаль, сидел Борислав, отец Ратибора, медленно потягивая из деревянной кружки свой квас и больше слушая, чем говоря.
Тема разговора, как это часто бывало в последние недели, сама собой свернула на его сына.
– Нет, ты видал ее сегодня? – начал Фрол, почесывая шрам на щеке. – Зорянку нашу. Снова к нему в кузню ходила. Вышла – щеки горят, глаза блестят, как у рыси, что тетерку поймала. А он следом на порог вышел, черный, как леший, только пар из ноздрей не идет. Что-то она ему там такое шепчет, ох, шепчет…
Демьян, староста, степенно пригладил свою окладистую бороду.
– Шепчи не шепчи, а Ратибор – кремень. Я ему плуг заказывал, так он три дня от горна не отходил. Слово лишнего не вытянешь. Весь в железо свое ушел. Девки вокруг него вьются, как хмель вокруг тына, а ему хоть бы что. Словно и не мужик вовсе.
Микула, пасечник, мягко возразил:
– Не скажи, Демьян. Он не то чтобы не мужик. Он… другой. Силу свою в себе держит, не расплескивает. Как матка пчелиная силу роя в себе носит. Не для бахвальства она, а для дела великого. Вот и он такой. Чувствую я, девка, что его возьмет, не просто женой ему станет, а хозяйкой той силы будет. Либо направит ее во благо, либо… спалит и себя, и его дотла.
Эти слова заставили мужиков задуматься. Но Фрол, человек простой и далекий от таких высоких материй, лишь хмыкнул.
– Философия это все, Микула. Пчелиная твоя. А дело-то житейское, простое. Кровь молодая кипит, естество свое требует. И тут никаким кремнем не прикроешься. Особенно, когда такая, как Зоряна, сама в руки идет. Это ж не девка, а мечта! Грудь – два холма, бедра – хоть паши на них. Глазами так стрельнет – любой бык на колени упадет. Уж я-то знаю, у меня глаз наметан.
Он подмигнул остальным, и те одобрительно загудели. Все, кроме Борислава. Тот лишь покачал головой, глядя в свою кружку.
– Вот и я о том же! – подхватил Фрол, входя в азарт. – Этот ваш Ратибор – он, конечно, кузнец от богов. Руки золотые, спору нет. Но мужик в нем спит. И Зоряна – это та самая, что его разбудит. Она не из тех, кто отступится. Упрямая, как медведица. Возьмет измором, если приступом не получится. И возьмет ведь, помяните мое слово!
– А я не согласен, – неожиданно вмешался тихий доселе Сбыслав, молодой плотник. – Зоряна слишком прямо бьет. Нахрапом берет. А Ратибор, он такого не любит. Он парень с гонором. Ему хитрость нужна. Вот Милава, дочка пасечника, та поумнее будет. Она вокруг да около ходит, паутину плетет. Словом ласковым, взглядом хитрым. Такая, как она, любого в свои сети заманит. Он и не заметит, как женатым окажется.
Спор разгорался. Мужики разделились на два лагеря. Одни ставили на прямолинейную, страстную красоту Зоряны, другие – на расчетливый ум и скрытую соблазнительность Милавы. Про Ладу почти не вспоминали – слишком юна, слишком проста для такого твердого орешка, как Ратибор.
– А давай-ка на спор, Фрол! – выкрикнул Сбыслав, вскочив на ноги. Его молодое лицо раскраснелось от пива и азарта.
Фрол прищурился.
– На спор? А что поставишь, щенок? Стружку свою древесную?
– Поставлю топор новый! Который мне твой же зятек и выковал, – не растерялся Сбыслав. – Топор против твоей лучшей молодой овцы, что с ягненком! Ставлю на то, что Милава его охмурит до первых снегов!
Фрол расхохотался, хлопнув себя по колену.
– Топор, говоришь? Добро! Идет! Только ставка моя другая будет. Ставлю свою овцу на то, что Зоряна! Именно Зоряна! – Он поднял палец вверх. – До Покрова! До Покрова уже будет в его постели! Не женой, так полюбовницей. Но будет! Этот огонь не удержать!
Все это время Борислав сидел молча. Он слушал эти разговоры, и на сердце у него было тяжело. Его сына, его кровь, обсуждали, как призового жеребца на ярмарке. Делили, ставили ставки. Он понимал, что такова деревенская жизнь – простая, грубая, где все на виду. Но отцовское сердце болело. Он видел глубже, чем они. Он видел не просто упрямство сына, а его боль, его одиночество, его страх перед миром, который он не мог понять и принять.
– А ты что скажешь, Борислав? – повернулся к нему староста Демьян. – Сын-то твой. Чью возьмет, по-твоему? Или так и останется бобылем при твоей юбке?
Борислав медленно поднял глаза. Его взгляд был тяжелым и мудрым.
– Мой сын – не бычок на привязи, чтобы на него ставки делать, – тихо, но твердо сказал он. – И сердце у него не из железа, хоть он и пытается всех в этом убедить. Оно у него живое. И болит.
Мужики притихли, немного смутившись.
– Да ладно тебе, Борислав, не обижайся, – примирительно проговорил Фрол. – Мы ж не со зла. Парень он видный. Вот и чешем языками. Всем интересно, кому такое сокровище достанется.
– Сокровище, говоришь… – Борислав горько усмехнулся. – А вы не думали, что сокровищу этому хозяйка нужна под стать? Не та, что ярче блестит, и не та, что хитрее спрятана. А та, что душу его поймет. Та, что увидит за силой – ранимость. За молчанием – слова, которые он сказать не может. Та, что не сломать его захочет и не приручить, а просто… рядом встанет. И даст ему быть самим собой.
Он замолчал, обведя всех взглядом. В наступившей тишине было слышно, как скрипит ворот колодца и где-то вдалеке мычит корова.
– Только вот, – продолжил он еще тише, словно говоря сам с собой, – боюсь я, что нет такой девки в нашей деревне. А может, и во всем белом свете… Может, и суждено ему весь свой век одному простоять у своей наковальни. И будет он самым лучшим кузнецом на всю округу… и самым несчастным человеком.
Он поднялся, грузно опираясь на палку.
– Пойду я. Дела.
Борислав медленно побрел в сторону своего дома, оставив мужиков в задумчивом молчании. Его слова, полные отцовской тоски, немного остудили их азарт. Но лишь на мгновение.
– Ну, что, Фрол? – нарушил тишину Сбыслав, когда Борислав скрылся за поворотом. – Пари в силе?
Фрол хищно улыбнулся, и его глаза снова загорелись азартом.
– В силе, плотник. В силе. Готовь свой топор. Потому что я уже слышу, как блеет моя новая овечка.
И они ударили по рукам, скрепив свое пари. Над деревней сгущалась синяя южная ночь, а в воздухе повисло ожидание. Ожидание битвы, в которой главным призом был не топор и не овца, а сердце и тело лучшего парня на деревне, который и не подозревал, что стал главным действующим лицом в чужой игре.
Глава 5: Милава
Если Зоряна была лесным пожаром – ярким, всепоглощающим и очевидным, – то Милава была глубоким лесным омутом. Снаружи – тихая, темная вода, подернутая ряской. Но стоило заглянуть поглубже, и можно было почувствовать холодное течение, скрытые коряги и бездонную глубину, способную затянуть любого, кто неосторожно подойдет слишком близко.
Она была дочерью Еремея, самого богатого бортника в округе. Её красота не била в глаза, как у Зоряны. В ней не было золота спелой пшеницы и лазури летнего неба. Природа одарила её более приглушенными, но не менее чарующими красками. Волосы её были цвета темного лесного ореха, густые и тяжелые, всегда аккуратно уложенные в две тугие косы, что обрамляли её спокойное, немного бледное лицо. Губы не были вызывающе-пухлыми, но их изгиб хранил тень лукавой улыбки. А глаза… Глаза у неё были болотного, зелено-карего цвета, с золотистыми крапинками. В них редко отражались бурные чувства; чаще всего они были внимательными, изучающими, словно она постоянно взвешивала и оценивала всё, что видела.
Но если лицо её было сдержанным, то фигура говорила о другом. Милава была невысокого роста, но сложена на диво ладно. Под скромным, закрытым платьем угадывались мягкие, округлые линии. Не по-деревенски тонкая талия, которую она всегда подчеркивала широким поясом, плавно переходила в полные, женственные бедра, а грудь была не такой вызывающей, как у Зоряны, но высокой и упругой, колыхавшейся при каждом шаге. Она двигалась плавно, без резких движений, как кошка, которая знает цену своей грации и никогда не тратит лишней энергии.
Милава наблюдала. Это было её главным талантом. Пока Зоряна летела на Ратибора, как мотылек на огонь, в надежде либо обжечься, либо погасить пламя, Милава сидела в тени и изучала. Она видела, как Зоряна подходит к кузнице, видела, с каким лицом выходит. Она слышала обрывки мужских разговоров у колодца и тихонько усмехалась в кулак, когда слышала о пари. «Глупцы, – думала она, – они пытаются таранить дубовые ворота лбом, когда нужно всего лишь найти щеколду».
Она наблюдала за Ратибором не один месяц. Видела его за работой, когда ходила мимо по своим делам. Видела, как он рубит дрова у сарая – мощно, ритмично, всем телом отдаваясь делу. Видела, как он возвращается с реки после умывания – с влажными волосами, обнаженным торсом, на котором блестят капли воды, похожие на алмазы. И в отличие от других девок, которые при виде него лишь томно вздыхали, Милава анализировала.
Она видела его силу. Но не она привлекала её в первую очередь. Сильных мужиков в деревне хватало. Её отец, хоть и стар, мог один завалить медведя. Нет, в Ратиборе она видела иное. Она видела его одержимость своим делом. Его стремление к совершенству. Он не просто ковал подковы, он создавал их. Она видела его отстраненность от деревенской суеты, его молчаливую гордость. И понимала: этот мужчина не просто сильный самец. Он – будущий крепкий хозяин. Основа. Камень, на котором можно построить не просто семью, а целое состояние.
Её отец был богат, но стар. Братьев у неё не было. Всё, что Еремей собрал за свою жизнь – пасеки, борти в лесу, запасы меда и воска, – должно было перейти к её будущему мужу. И Милава не собиралась отдавать это наследство какому-нибудь пьянице или лентяю. Ей нужен был лучший. Тот, кто не промотает, а приумножит. Тот, чьи дети будут такими же сильными и умными. И она выбрала Ратибора. Не сердцем, как глупая Лада. Не похотью, как прямолинейная Зоряна. А холодным, ясным умом.
В один из дней она сидела на крыльце своего дома, перебирая сухие травы, и смотрела на кузницу, из трубы которой валил густой дым. Её отец, кряхтя, вышел из дома.
– Опять на кузнеца глядишь, дочка? – пробасил он, прищурив умные, выцветшие глаза. – Что, приглянулся парень?
Милава не смутилась. Она подняла на отца спокойный взгляд.
– Приглянулся, батюшка. А разве плох?
Еремей хмыкнул в бороду, сел рядом на ступеньку.
– Плох? Нет, парень не плох. Рукастый. Сильный. Не пьет, языком попусту не мелет. Хороший корень. Только дикий он. Как лесной яблоко. С виду румяное, а на вкус – кислое, рот вяжет. Зорянка-то, вишь, уже зуб об него обломала.
– Зоряна – дура, – ровным голосом ответила Милава, откладывая пучок зверобоя. – Она пытается это яблоко с ветки силой сорвать. А его не рвать надо. Надо, чтобы оно само в руки упало, когда созреет.
Отец посмотрел на неё с удивлением и гордостью.
– Ишь ты, какая мудрая у меня. И как же ты его созреть заставишь?
– Лаской, батюшка. И хитростью. Мужчины, даже самые сильные, они как дети. Любят, когда их хвалят, когда видят в них то, чего другие не замечают. Зоряна видит в нем только мускулы и упрямство. А я вижу… художника. И хозяина. Надо просто дать ему это понять. Показать ему, что я ценю не то, что снаружи, а то, что внутри. И что я могу быть ему не просто бабой в постели, а помощницей в деле.
Еремей пожевал губами, обдумывая её слова.
– И что же ты удумала?
– Удумала, – Милава загадочно улыбнулась. – У тебя ведь старый медовый нож совсем затупился? И ручка у него треснула.
– Ну, есть такое дело, – согласился отец. – Собирался к Ратибору нести, да все ноги не доходят.
– А я сама схожу, – сказала она. – Только не просто так. Я посижу, посмотрю, как он работает. Спрошу совета. Дам ему почувствовать себя самым умным, самым умелым. Мужчины это любят. Они любят учить. Особенно, когда ученица красивая и смотрит на них с восхищением.
– Хитра ты у меня, дочка. Как лиса, – с уважением проговорил Еремей.
– А без хитрости в нашем мире, батюшка, и гриба в лесу не найдешь, – ответила Милава, поднимаясь. – Надо знать, когда молчать, а когда говорить. Когда просить, а когда требовать. А главное, надо знать, на какую наживку твоя рыба клюет.
Она пошла в дом, чтобы найти старый нож, и её походка была плавной и уверенной. Она не торопилась. Она знала, что её время ещё придет. Она даст Зоряне наиграться в свою страсть, вымотать себя, разозлить Ратибора. А потом, когда поле боя будет свободно, на него выйдет она. Не с огненным мечом, а с шелковой сетью. И она была уверена, что её сеть окажется куда прочнее самой лучшей стали, которую только мог выковать этот угрюмый и такой желанный кузнец.
«Ты будешь моим, Ратибор, – думала она, её зелено-карие глаза потемнели от решимости. – Ты ещё не знаешь этого, но ты уже в моей сети. Просто я ещё не начала её затягивать».
Глава 6: Починка для отца
Ратибор выбивал стержень из ступицы тележного колеса, когда тень в дверном проеме заставила его поднять голову. После визитов Зоряны он научился чувствовать женское присутствие издалека – менялся сам воздух, становился гуще, наполнялся тонкими ароматами и невысказанным ожиданием. Но на этот раз он ошибся. Это была не Зоряна.
На пороге стояла Милава.
Она не врывалась в его мир, как это делала дочь старосты. Она остановилась на границе света и тени, словно прося разрешения войти. На ней был темно-зеленый сарафан, который делал её похожей на лесную мавку, а волосы были убраны под простой тканевый обруч. В руках она держала сверток из грубой холстины.
Она не начала говорить сразу, давая ему время закончить удар. Этот простой жест уважения к его работе сразу же настроил Ратибора на иной лад. Он выбил стержень, отложил молот и, вытерев руки о ветошь, кивнул ей.
– С чем пожаловала, Милава?
– Доброго дня, Ратибор, – её голос был спокойным и мелодичным, без бархатных ноток Зоряны, но приятным, как журчание ручья. – Не помешаю? Я с просьбой от батюшки.
– Если дело по моей части, то не помешаешь, – ответил он, оставаясь на месте и не сокращая дистанцию. – Заходи.
Она вошла, ступая осторожно, и остановилась у верстака, почтительно оглядывая инструменты, разложенные в строгом, известном лишь ему одному порядке. В её взгляде не было того хищного оценивания, что он привык видеть у Зоряны. Было живое, неподдельное любопытство.
– Батюшка просил починить, – она развернула сверток. На ткани лежал старый нож для резки сот – с длинным, тонким лезвием и деревянной рукоятью, треснувшей в нескольких местах. – Говорит, верный был помощник, да износился. Лезвие затупилось, а рукоять совсем в руке не держится. Думали новый заказать, да отец говорит: «Лучше старого друга подлечить, чем нового заводить».
Ратибор взял нож. Он повертел его в руках, оценивая состояние. Металл был хорошим, старой закалки, но время и кислота меда сделали свое дело.
– Друга подлечить можно, – проговорил он, проводя большим пальцем по зазубренному лезвию. – Сталь здесь добрая. Наточу, будет острее бритвы. А рукоять… рукоять новую надо делать. Эта уже свое отжила.
– А какую лучше? – тут же спросила она, и в её вопросе не было кокетства, лишь деловой интерес. – Батюшка жаловался, что эта в руке скользит, когда медом измажется. Может, есть какое дерево особое? Или форма?
Вопрос застал Ратибора врасплох. Обычно заказчики говорили: "Сделай, как надо". Никто не вникал в детали. А она спрашивала. Она интересовалась сутью его работы.
– Есть, – ответил он, чувствуя, как внутри тает ледок настороженности. Ему впервые было приятно говорить о своем ремесле с женщиной. – Лучше всего ясень или клен. Они плотные, не разбухают. А чтобы не скользила, можно насечки сделать, под пальцы. И форму самой рукояти сделать не круглой, а овальной, под хват. И чуть утолщить к концу, чтобы упор был.
Пока он говорил, он заметил, как внимательно она слушает, кивая. Ее зелено-карие глаза смотрели не на его мускулы, а на его руки, держащие нож.
– Вот оно что… – задумчиво протянула она. – А я-то думала, рукоять – она и есть рукоять. А тут целая наука. Это ж надо всё учесть: и руку, и работу, и свойство дерева. У тебя, Ратибор, не просто руки золотые, у тебя голова светлая. Ты не только делаешь, ты – думаешь.
Комплимент был точным и тонким. Она хвалила не его животную силу, а его ум, его мастерство. Это было ново. И приятно.
– Это моя работа, – буркнул он, но уже не так холодно, как прежде. – Знать такие вещи.
– Нет, – мягко возразила она. – Твоя работа – стучать молотом. А думать о том, как сделать лучше, – это уже дар. Таких, как ты, мало. Большинство делает, как научили, как привыкли. А ты ищешь лучший путь. Как мой отец ищет лучшее место для нового бортя или лучший сбор трав для медовухи. Вы с ним похожи. Оба – хозяева своего дела. Настоящие.
Она говорила об обязанностях, о будущем, о том, что было ему по-настоящему близко. Она нащупала ту самую струну, которая в нем никогда не звучала в разговорах с другими.
– Отец у тебя – знатный бортник, – согласился Ратибор. – Такого меда, как у него, во всей округе не сыскать.
– Потому что он любит свое дело больше жизни, – кивнула Милава. – Он говорит: "Земля и лес – это не то, что ты берешь. Это то, что ты должен сохранить и приумножить для своих детей". А я смотрю на тебя и думаю… ты, наверное, так же к своему ремеслу относишься? Что каждая вещь, вышедшая из твоих рук, – она как дитя. Должна быть крепкой, надежной, служить долго и честно. Чтобы и внуки ею пользовались и добрым словом поминали.
Она говорила, и перед Ратибором вставала картина… Картина его собственной, неосознанной мечты. Крепкое хозяйство. Дело, которое живет после тебя. Дети, которые продолжат твой путь. Она озвучивала его самые сокровенные мысли, которые он сам боялся себе сформулировать.
– Женщина должна быть под стать такому хозяину, – продолжила она, словно размышляя вслух, ее взгляд был устремлен куда-то в полумрак кузницы. – Не просто красивая кукла для ночных утех и продолжения рода. А помощница. Правая рука. Та, что дом в порядке будет держать, детей правильно воспитает, и мужу совет дельный даст, когда он нужен. Та, что поймет его молчание и не будет лезть с глупыми вопросами, когда он устал. Ведь мужская сила, она не бесконечна. Ее беречь надо. А женщина – она как тихая гавань, куда мужчина-корабль после бури возвращается, чтобы раны залечить и снова в плавание отправиться.
Он молчал, полностью обезоруженный. Каждое ее слово било точно в цель. Она рисовала образ идеальной жены – не любовницы, не игрушки, а соратницы. Той самой, которой ему не хватало, хотя он и не знал об этом. Она не пыталась его соблазнить своим телом. Она соблазняла его пониманием.
– Много ты думаешь, Милава. Для девки, – наконец хрипло проговорил он.
Она повернулась к нему, и в ее глазах он впервые увидел не хитрость, а что-то похожее на искреннюю теплоту.
– А как же не думать? Время мое подходит. Отец все чаще о сватах поговаривает. А мне не хочется свою жизнь абы кому доверять. Хочется найти такого, с кем не страшно будет в одну упряжку встать и телегу жизни нашей тянуть. Чтобы и в гору, и под гору – вместе. Чтобы он знал, что спина его прикрыта, а я знала, что за его спиной – как за каменной стеной.
Она сделала паузу, а потом, чуть улыбнувшись, добавила:
– Прости, Ратибор. Заболтала я тебя. Я вот что хотела спросить… Может, покажешь мне, как ты насечки делать будешь? Мне для себя интересно. Я люблю смотреть, как настоящее дело делается. Может, и я чему научусь.
Это был гениальный ход. Она не просила свидания. Она не навязывалась. Она просила научить, стать его ученицей на час. И отказать ей было бы просто глупо и грубо.
Ратибор помедлил лишь мгновение.
– Почему нет? Приходи через пару дней. Как рукоять вырежу. Покажу.
– Спасибо, – просто сказала она. Взяла свой пустой сверток и, кивнув ему на прощание, так же тихо, как и вошла, вышла из кузницы.
Ратибор остался один. В руке он держал старый нож, а в голове у него был полный сумбур. Зоряна заставляла кипеть его кровь, будила в нем зверя. Это было просто и понятно, как удар молота. Но Милава… она сделала нечто иное. Она залезла ему прямо в душу, нашла там потайную дверь и тихонько в нее постучала. Она не пыталась сломать его стены. Она предлагала вместе построить за этими стенами новый дом.
Он посмотрел на нож в своей руке. Он сделает для ее отца лучшую рукоять, какую только мог. И он знал, что будет ждать того дня, когда она вернется. Не с тревогой и раздражением, как ждал Зоряну, а с непонятным, доселе не испытанным интересом.
Лиса начала расставлять свои силки. И охотник этого даже не заметил.
Глава 7: Отцовский совет
Вечер окутал дом Борислава тишиной, плотной и уютной, как старое шерстяное одеяло. В очаге догорали поленья, бросая пляшущие оранжевые блики на бревенчатые стены и грубо сколоченную мебель. За окном стрекотали сверчки, и этот монотонный звук лишь подчеркивал спокойствие, царившее внутри.
Ратибор сидел на лавке у стола и чистил охотничий нож. Он делал это медленно, сосредоточенно, водя бруском по лезвию под выверенным углом. Эта монотонная работа помогала ему разогнать мысли, которые роились в голове после визита Милавы. Её слова, такие разумные и правильные, пустили в его душе глубокие корни и теперь прорастали сомнениями.
Борислав, его отец, сидел напротив, расправляя новую рыболовную сеть. Его загрубевшие, иссеченные морщинами пальцы двигались ловко и привычно, сплетая из льняной нити хитрый узор. Некоторое время они работали молча, каждый погруженный в свое дело. Но Ратибор чувствовал, что молчание это – лишь затишье перед разговором. Отец ждал.
– Сегодня Милава, дочь Еремея, заходила, – наконец нарушил тишину Борислав, не поднимая головы от своей работы. Голос его был ровным, без всякого выражения.
– Заходила, – коротко подтвердил Ратибор. – Нож отцу просила починить.
– Хорошая девка, – так же ровно продолжил отец. – Спокойная. Рассудительная. Вся в отца. Тот из гнилого пня мед добудет. И она, видать, такая же. Хозяйка будет справная. Дом, как полная чаша, держать станет.
Ратибор промолчал, лишь чуть сильнее сжал рукоять ножа. Он знал, к чему клонит отец. Это была старая, как мир, отцовская уловка: начать издалека, похвалить товар, а потом предложить его купить.
– И Зоряна, старосты дочь, тоже к тебе захаживает, – не унимался Борислав. – Яркая, как заря. Кровь с молоком. Такая родит тебе десяток сыновей-богатырей, один другого крепче. Да и староста в обиде не оставит, приданое даст хорошее.
Ратибор отложил нож и брусок. Он посмотрел на отца. В свете очага лицо старика казалось вырезанным из темного дерева – морщины были глубокими бороздами, а глаза под нависшими бровями светились мудростью и застарелой усталостью.
– К чему ты клонишь, отче?
Борислав наконец поднял голову. Он отложил сеть и сцепил пальцы в замок.
– К тому, сын, что век мой уже на исходе. Смотрю на тебя и радуюсь. Сын вырос – плечи шире, чем у меня в лучшие годы, в руках сила, в голове – ум. Дело свое знаешь так, что и мне, старому кузнецу, впору у тебя учиться. Все в тебе есть, чем гордиться можно. Одного нет – продолжения.
Он подался вперед, его голос стал ниже, проникновеннее.
– Что такое мужчина без жены и детей, Ратибор? Что такое дерево, которое цветет, но не дает плодов? Оно радует глаз, но проку от него нет. Оно умрет, и никто не вспомнит о нем. Так и сила твоя, и умение твое. Все это уйдет в землю вместе с тобой. Сила без продолжения – что река, ушедшая в песок. Была – и нет её. Посмотри на девок, сын. Они же как созревшие ягоды, сами в руки просятся. Выбери любую. Каждая счастлива будет постель с тобой делить и детей твоих растить.
Слова отца были тяжелыми, как удар молота. В них была вековая мудрость рода, логика жизни, против которой, казалось, нечего было возразить. Долг перед предками. Долг перед будущим. Ратибор чувствовал, как эта правота давит ему на плечи, сгибает спину.
– Ты думаешь, я не знаю этого? – глухо ответил он, глядя на тлеющие угли. – Ты думаешь, я не чувствую, как кровь стучит в висках, когда Зоряна рядом стоит? Как сжимается все внутри от её запаха, от её взгляда? Думаешь, не представляю себе её, нагую, под моей рукой? Её стоны в ночной тишине? – его голос стал хриплым от сдерживаемых чувств. – Или ты думаешь, я не понимаю, о чем говорит Милава? Не вижу в её глазах обещание покоя, сытого дома, послушных детей? Не понимаю, что она – самая правильная жена, которую только можно желать? Я все это знаю и все это чувствую, отче.
Он вскочил на ноги и заходил по комнате, как зверь в клетке.
– Но всякий раз, как я думаю об этом, мне кажется, что на мою шею надевают хомут. Крепкий, ладный, хорошо смазанный. Но все-таки хомут. Они все чего-то хотят. Зоряне нужна моя сила, чтобы хвастаться. Милаве – мой ум и трудолюбие, чтобы приумножить добро. Они смотрят на меня и видят… быка. Племенного быка, которого нужно пригнать в своё стойло, чтобы он дал хорошее потомство и пахал поле. Они видят мужа, хозяина, отца. Но никто из них не видит меня.
– А кто ты, если не это? – тихо спросил Борислав.
Ратибор остановился и резко повернулся к отцу.
– Я не знаю! – выкрикнул он, и в его голосе прорвалась вся его внутренняя боль. – Может быть, я просто кузнец, которому дороже всего на свете песня молота. Может быть, я бродяга, которому суждено уйти за дальние леса и не найти себе места. А может, я просто хочу одного – свободы! Свободы решать самому. Свободы не быть чьей-то собственностью, чьим-то мужем, чьим-то планом на будущее. Разве я не имею на это права?
Борислав смотрел на сына долго, и во взгляде его была бесконечная отцовская жалость.
– Свобода… – медленно проговорил он. – Какое громкое слово. А что это такое, по-твоему? Бродить по свету, как перекати-поле? Не иметь ни дома, ни корней? Быть одному? Это, сын, не свобода. Это – одиночество. Самое страшное проклятие, какое боги могут послать человеку. Настоящая свобода не в том, чтобы не иметь пут. А в том, чтобы самому выбрать свои путы. Выбрать женщину, которая будет твоей пристанью. Выбрать дело, которое будет твоей сутью. Родить детей, которые будут твоим бессмертием. Вот это свобода, Ратибор. Все остальное – лишь бегство от самого себя.
– Может, ты и прав, – устало сказал Ратибор и снова сел. – Может, я просто бегу. Но я не чувствую в себе сил остановиться и выбрать. Мне кажется, что любой выбор будет ошибкой. Что выбрав одну, я предам что-то важное в себе. Выбрав Зоряну, я сгорю в ее огне и от меня ничего не останется, кроме пепла. Выбрав Милаву, я утону в ее тихом омуте и превращусь в добротного, скучного хозяина, забыв о том, кем я мог бы стать.
– А кем ты мог бы стать? – мягко спросил отец.
Ратибор долго молчал. Он смотрел в огонь, и в его серых глазах отражались умирающие угли.
– Я не знаю, отче. Я не знаю. И это пугает меня больше всего.
Наступила тишина. Отец понял, что больше ничего говорить не нужно. Он дал сыну пищу для размышлений, подкинул дров в огонь его сомнений. Теперь Ратибор должен был сам найти ответ.
Борислав поднялся, подошел к сыну и положил свою тяжелую руку ему на плечо.
– Сердце – лучший советчик, Ратибор. Не голова. Не то, что ниже пояса. Слушай сердце. Оно, в отличие от ума, не умеет врать. Когда придет твоя женщина, ты не будешь думать о хомуте или свободе. Ты просто поймешь, что без нее – ты половина человека. Просто половина. А теперь ложись спать. Утро вечера мудренее.
Он потрепал сына по плечу и ушел в свою каморку.
Ратибор остался сидеть один в затихающем доме. Слова отца гулким эхом отдавались в его голове. "Ты просто поймешь, что без нее – ты половина человека". Он пытался представить себе это чувство, но не мог. Пока что он чувствовал себя цельным лишь здесь, в одиночестве. Или там, в кузнице, наедине со своим огнем. Любая женщина, входившая в его мир, казалось, не дополняла его, а пыталась отколоть от него кусок, чтобы вставить на его место свой. И он этому противился. Всей своей упрямой, непокорной кузнечной душой.
Глава 8: Лада
Если Зоряна была полуденным солнцем, а Милава – сумеречным лесом, то Лада была утренней росой. Чистой, прохладной и дрожащей от каждого дуновения ветерка. Она появлялась и исчезала почти незаметно, оставляя после себя лишь мимолетное ощущение свежести и необъяснимой грусти.
Ей едва исполнилось семнадцать зим, и она всё ещё находилась на той хрупкой грани, где девочка превращается в девушку. В ней не было ни вызывающей зрелости Зоряны, ни скрытой силы Милавы. Её красота была тихой, нежной, как цветок подснежника, пробившийся сквозь тающий снег.
Волосы у неё были цвета светлого меда, тонкие и мягкие, вечно выбивающиеся из простой косы и создающие вокруг её лица пушистый ореол. Кожа казалась почти прозрачной, и на щеках от волнения или смущения легко проступал нежный, как лепесток шиповника, румянец. Фигурка её была ещё не оформившейся, по-девичьи угловатой: тонкие запястья, узкие плечи, едва наметившаяся грудь и длинные, стройные ноги. Она была похожа на молодое деревце, гибкое и трепетное, которое ещё только набирает силу, чтобы расцвести.
Но главной в ней были глаза. Огромные, цвета весенней фиалки, обрамленные густыми темными ресницами. В этих глазах, казалось, отражалось все небо. И почти всегда в них стояло выражение легкого испуга и удивления, словно она только что родилась на свет и ещё не привыкла к его яркости и шуму. Она смотрела на мир широко распахнутыми глазами, впитывая всё, но, казалось, боясь сделать неосторожный шаг.
Лада была влюблена в Ратибора. Не так, как другие. Её любовь не была желанием обладать, не была холодным расчетом. Это было чистое, почти религиозное поклонение. Для неё он не был ни "племенным быком", ни "крепким хозяином". Он был божеством из мира огня и силы, сошедшим на землю. Существом из другой, высшей реальности. Она видела, как он работает, затаив дыхание из-за плетня соседского двора. Звук его молота был для неё самой прекрасной музыкой. Его хмурое, сосредоточенное лицо казалось ей самым красивым на свете. А его сила вызывала в ней не похоть, а священный трепет.
Она боялась его. Боялась его мощи, его молчания, его пронзительного взгляда, который, как ей казалось, видел её насквозь, со всем её детским обожанием и тайными мечтами. Она никогда бы не решилась заговорить с ним первой, как Зоряна, или придумать предлог, как Милава. При одной мысли об этом у неё холодели руки и начинало колотиться сердце. Она предпочитала любить его издалека, молча, всем своим существом, не требуя ничего взамен. Это было сладко и мучительно одновременно.
Однажды вечером Ратибор возвращался с дальней делянки, где помогал отцу валить сухостой. Он нес на плече огромную вязанку хвороста и тяжелую секиру. Усталость приятно гудела во всем теле. Мысли его были далеко – он размышлял о новой конструкции мехов для горна, когда вдруг увидел её.
Лада стояла у своего двора и пыталась дотянуться до высокого сука старой яблони, на котором застрял её цветастый платок. Ветер играл с яркой тканью, дразня её, то подбрасывая вверх, то опуская ниже. Она подпрыгивала, смешно вытягивая тонкие руки, но ей не хватало совсем чуть-чуть. При каждом прыжке её легкий сарафан задирался, открывая взгляду её стройные, белые ноги почти до самых колен. Она так увлеклась, что не заметила его приближения.
Ратибор остановился. Он мог бы пройти мимо, но что-то в её отчаянной и трогательной борьбе с непослушным платком заставило его остановиться. Она была похожа на птенца, выпавшего из гнезда и пытающегося взлететь. Такая беззащитная и хрупкая.
– Помочь? – его голос прозвучал в вечерней тишине неожиданно громко.
Лада вздрогнула, как пойманная лань, и резко обернулась. Увидев его, она вся вспыхнула, от кончиков пальцев на ногах до корней волос. Румянец залил её щеки, шею, даже уши. Она опустила глаза и свела руки на груди, теребя край сарафана.
– Я… он… ветер… – пролепетала она, не в силах связать и двух слов.
Ратибор усмехнулся про себя. Перед этой он не чувствовал ни раздражения, ни настороженности. Лишь какое-то непонятное желание защитить. Он молча сбросил вязанку хвороста на землю, подошел к яблоне и, даже не подпрыгивая, просто вытянул свою длинную руку и снял платок с ветки.
Он протянул его ей. Платок был из тонкой, почти невесомой ткани, расписанный полевыми цветами. Он пах ветром и яблоневыми листьями.
– Держи.
Лада подняла на него свои огромные, полные благодарности и обожания глаза. Её пальцы дрожали, когда она брала платок из его большой, покрытой сажей и мозолями руки. Их руки на мгновение соприкоснулись. Его кожа была грубой и горячей, её – прохладной и гладкой. Лада отдернула руку, словно её ударило током.
– Спасибо… – прошептала она так тихо, что он едва расслышал. – Большое спасибо, Ратибор.
Она прижала платок к груди и уже хотела убежать, спрятаться в спасительной тени своего дома, но он остановил её.
– Постой.
Она замерла, не смея поднять на него взгляд.
– Ты чего так боишься меня, Лада? – спросил он неожиданно мягко. – Я что, похож на лешего или водяного? Я тебя не съем.
Вопрос был простой, но он поверг её в ещё большее смятение. Как она могла объяснить ему, что боится не его, а того урагана чувств, который он вызывал в ней? Что боится своей собственной слабости, своей глупой, безответной любви?
– Нет… – прошептала она, глядя себе под ноги. – Ты… ты не страшный. Ты… очень… – она запнулась, не находя слов, – …сильный.
Это было единственное слово, которое она смогла подобрать. Но в её устах оно звучало не как оценка физических данных, а как констатация его божественной сущности.
Ратибор вздохнул. С Зоряной можно было спорить. С Милавой – вести умные беседы. А с этой девочкой… с ней хотелось просто молчать, чтобы ненароком не спугнуть, не сломать что-то хрупкое в её душе грубым словом. Он понимал, что она смотрит на него не как на мужчину, а как на идола, которого сама себе измыслила. И это пугало его едва ли не больше, чем агрессивная страсть Зоряны. Та хотела его тело. А эта, казалось, хотела отдать ему свою душу. И такая ответственность была для него непосильной ношей.
– Сила – это еще не все, – сказал он тихо. – Иди домой, Лада. Уже поздно.
Он намеренно оборвал разговор, чувствуя, что ещё немного – и он утонет в этих фиалковых глазах, полных немого обожания.
Она кивнула, так и не подняв головы, и юркнула в калитку своего двора.
Ратибор остался стоять один посреди улицы. Он поднял свою вязанку хвороста, закинул на плечо. Но когда он шел домой, ему казалось, что на кончиках его пальцев до сих пор осталось ощущение её прохладной, нежной кожи. И ему было strangely, почти болезненно жаль эту девочку. Потому что он знал, что никогда не сможет ответить на её чистый, испуганный взгляд тем, чего она так ждала. Он был огнем и сталью. А она – утренней росой. И он боялся, что, приблизившись, просто-напросто испарит её, не оставив и следа.
Глава 9: Сломанный серп
Мир Лады состоял из маленьких ритуалов, страхов и одной большой, всепоглощающей тайны, имя которой было Ратибор. Одним из таких ритуалов был сбор трав на Медовом лугу за деревней. Её матушка была знатной травницей, и Лада с раннего детства знала, какой листок лечит хворь в животе, а какой корень унимает зубную боль.
В тот день она собирала донник. Солнце стояло высоко, пчелы гудели в сладком дурмане клевера, и воздух был напоен ароматами тысяч цветов. Лада работала своим маленьким, легким серпом, который ей подарил отец. Она любила его; рукоять из старой вишни была гладкой и теплой, идеально ложилась в её тонкую ладонь.
Мысли её, как всегда, были далеко. Она представляла себе Ратибора. Не того, что видели все – хмурого, покрытого сажей гиганта, а своего, выдуманного. Она видела его улыбку, которую никто никогда не видел, слышала его нежные слова, которых он никому не говорил. В её мечтах он был не божеством, а защитником. Сильным и добрым, как богатырь из старых сказок, которых ей в детстве рассказывала бабушка.
Увлекшись своими грезами, она не заметила толстый, скрытый в траве корень дикого терновника. Лезвие серпа с силой ударилось о него. Раздался сухой, трескучий звук. Лада вскрикнула и посмотрела на свою руку. Серп был сломан. Деревянная рукоять треснула ровно пополам, а стальное лезвие, выскочив из паза, отлетело в траву.
Для кого-то другого это было бы досадной мелочью. Но для Лады это была катастрофа. Этот серп был подарком отца. Отец у неё был строгим и неласковым, и любая поломанная вещь вызывала его гнев. Она представила его нахмуренные брови, его тяжелый, укоризненный взгляд, и ужас ледяными пальцами сжал её сердце. Слезы, горячие и горькие, сами брызнули из её глаз.
Она сидела на лугу, обхватив колени руками, и плакала. Не от боли, а от страха и отчаяния. Она подобрала две половинки рукояти и лезвие. Всё, её любимый серп был погублен. Что теперь делать?
И тут в её заплаканном сознании вспыхнула мысль. Страшная, дерзкая, но единственно верная. Кузница. Ратибор. Он чинит всё. Он может спасти её.
Эта мысль была так ужасна, что на мгновение она даже перестала плакать. Добровольно пойти к нему? Заговорить? Попросить о чем-то? Это было сродни подвигу, на который она была не способна. Но образ гневного отца был страшнее. Сцепив зубы, Лада встала, вытерла слезы краем сарафана и, бережно завернув обломки в платок, пошла в деревню.
Каждый шаг давался ей с трудом. Чем ближе она подходила к кузнице, тем громче стучало её сердце, заглушая все остальные звуки. Вот и знакомый сруб, из трубы которого, как всегда, вился дымок. Она остановилась у приоткрытой двери, не решаясь войти. Изнутри доносились знакомые звуки – гудение мехов и редкие, точные удары молота.
Собрав всю свою волю в кулак, она сделала шаг через порог.
Ратибор стоял спиной к ней, работая над чем-то мелким у наковальни. Услышав шаги, он обернулся. Его лицо было, как всегда, сосредоточенным и строгим. Увидев Ладу, его брови чуть сошлись на переносице. Он увидел её покрасневшие, заплаканные глаза, дрожащие губы. Она стояла, вцепившись в свой узелок, словно это был её единственный спасательный круг в бушующем море.
– Что стряслось? – спросил он, и его голос, хоть и был ровным, прозвучал для неё как раскат грома.
Она не смогла ответить. Вместо слов из её груди вырвался новый всхлип. Она протянула ему свой узелок, не в силах поднять на него взгляд.
Ратибор взял платок и развернул его. Увидев сломанный серп, он всё понял.
– Поломала, значит, – констатировал он.
Лада судорожно кивнула, шмыгнув носом.
– Я… я нечаянно… – пролепетала она сквозь слезы. – Там корень был… Батюшка… он так рассердится… Он меня убьет…
Слово "убьет" прозвучало так по-детски трагично и искренне, что в сердце Ратибора, привыкшего к женским хитростям и уловкам, что-то дрогнуло. Он посмотрел на её трясущиеся плечи, на её тонкую шею, и впервые за долгое время ощутил не раздражение или похоть, а чистое, простое сочувствие. Она была не соблазнительницей и не интриганкой. Она была просто напуганным ребенком.
– Не убьет, – сказал он неожиданно мягко. – Дела-то житейские. Любая вещь сломаться может.
Он взял в руки обломки. Рукоять была безнадежна, но лезвие – лезвие было в полном порядке, лишь немного затупилось.
– Ну-ка, не реви. Слезами горю не поможешь.
Он подошел к ней и сделал то, чего сам от себя не ожидал. Он неуклюже, почти грубо, но все же нежно провел тыльной стороной своей большой ладони по её мокрой щеке, стирая слезы. Его прикосновение было как прикосновение горячего, шершавого камня. Лада вздрогнула от неожиданности, но не отстранилась. Она замерла, подняв на него свои огромные, фиалковые глаза, в которых сквозь влагу пробивалось удивление.
– Садись вон там, на колоду, – кивнул он в угол. – И жди. Поглядим, что можно сделать.
Лада послушно села, не сводя с него взгляда. А он… он отложил всю свою важную работу. Он взял кусок хорошо просушенного клена, зажал его в тисках и начал вырезать новую рукоять. Он работал быстро, уверенно. Нож и рашпиль в его руках, казалось, творили волшебство. Из грубого полена на глазах у Лады рождалась изящная, гладкая рукоять.
Он делал её чуть тоньше, чем прежнюю, подгоняя под её маленькую руку. Потом он проделал паз, раскалил в горне лезвие, наточил его на круге до остроты бритвы, а затем, нагрев хвостовик, всадил его в новую рукоять. Дерево зашипело, запахло паленым. Несколько точных ударов, и лезвие село намертво. Он остудил его и напоследок заклепал хвостовик с обратной стороны.
Все это заняло не больше часа. Все это время Лада сидела не шелохнувшись, наблюдая за ним, как завороженная. Она видела не просто работу. Она видела сотворение чуда. Она видела, как этот могучий, грозный человек тратит свое время и силы, чтобы спасти её от отцовского гнева. И в её сердце обожание смешивалось с такой безграничной благодарностью, что ей хотелось плакать снова, но уже от счастья.
– Ну вот, – сказал он, протягивая ей починенный серп. – Держи. Лучше нового стал. Рукоять теперь не сломается, даже если на медведя с ним пойдешь.
Лада взяла серп. Новая кленовая рукоять была светлой, гладкой и удивительно теплой. Она идеально легла ей в руку, словно была сделана по мерке. Она провела пальцем по лезвию – оно было острым, как жало осы.
Она подняла на него сияющие глаза. Слезы высохли, оставив лишь влажный блеск.
– Сколько… сколько я должна, Ратибор? – прошептала она, понимая, что у неё нет ни гроша.
Ратибор посмотрел на её сияющее лицо, на робкую, благодарную улыбку, которая появилась на её губах. И впервые в жизни он почувствовал, что награда за его труд может быть не в монетах.
– Нисколько, – сказал он. – Считай, что ты сегодня платой за работу были твои слезы. Я их не люблю. Так что постарайся больше по пустякам не реветь. И отцу скажи, что в корень попала. Он поймет, он сам мужик. А теперь иди, а то у меня работа стоит.
Он нарочито грубо отвернулся к наковальне, давая понять, что разговор окончен.
Лада прижала серп к груди так, словно это было величайшее сокровище.
– Спасибо… – выдохнула она. – Спасибо тебе.
И она выскользнула из кузницы, унося с собой не просто починенный серп. Она уносила в своем сердце тепло его неожиданной доброты и ощущение шершавого прикосновения его руки к её щеке.
А Ратибор стоял спиной к двери и долго не мог заставить себя взяться за молот. В его груди было странное чувство. Легкое и теплое. Он спас её от отцовского гнева. Защитил слабого. И это простое действие принесло ему больше удовлетворения, чем самый сложный и искусно выкованный заказ. Он вдруг понял, что сила нужна не только для того, чтобы гнуть железо, но и для того, чтобы вытирать девичьи слезы. И эта мысль была для него новой и пугающей.
Глава 10: Напряжение нарастает
По деревне слухи распространялись быстрее лесного пожара. Новость о том, что угрюмый Ратибор не просто починил Ладе сломанный серп, но и денег за это не взял, да еще и утешал заплаканную девчонку, облетела все дворы еще до заката. Мужики у колодца чесали бороды, пересматривая свои ставки. Бабы на завалинках судачили, качая головами: «Ишь ты, тихоня-то наша! В тихом омуте, видать, не только черти, но и кузнецы водятся!»
Эта новость, разумеется, дошла и до ушей Зоряны и Милавы. И обеих она уязвила, хоть и по-разному.
Зоряна восприняла это как личное оскорбление. Она, первая красавица, умница, дочь старосты, предлагала себя Ратибору открыто и страстно, а он ее отвергал. А эту бесцветную мышку, эту пугливую пигалицу, он жалел и утешал! Ярость кипела в ней, смешиваясь с ревностью и уязвленной гордостью. Она решила, что пора поставить эту выскочку на место.
Милава же отнеслась к новости с холодной рассудительностью. Она увидела в этом поступке Ратибора подтверждение своей теории: его можно было взять не телом, а душой. Он откликался на слабость и искренность. И Лада, сама того не желая, нащупала правильный путь. Это было опасно. Милава поняла, что пора переходить от выжидания к более активным действиям и закрепить свое преимущество, которое она, как ей казалось, получила во время своего «делового» визита.
Судьба, или, может, какая-то насмешливая лесная богиня, распорядилась так, что все три сошлись в одном месте и в одно время – у кузницы Ратибора.
Это случилось на следующий день после истории с серпом. День был душным, предгрозовым. Тяжелые сизые тучи ползли с юга, и в воздухе пахло пылью и озоном.
Ратибор, не обращая внимания на погоду, работал. Он готовил партию железных ободов для новых тележных колес, и вся кузница была наполнена жаром, лязгом и гудением. Он был полностью поглощен процессом, отгородившись от всего мира стеной огня и звука.
Первой пришла Лада. Она несла небольшой узелок. Со вчерашнего дня она пребывала в состоянии светлой эйфории. Её робость никуда не делась, но теперь к ней примешивалась безграничная благодарность. Она всю ночь не спала, а утром напекла маленьких медовых лепешек – лучшее, что она умела готовить. Она хотела отблагодарить его. Просто отдать и убежать. Она робко остановилась у порога, не решаясь войти и нарушить его работу.
Почти сразу за ней подошла Милава. Она тоже несла сверток. Внутри была новая рукоять для ножа, которую обещал показать ей Ратибор. Она пришла, как договорились, – деловая, спокойная, уверенная в своем праве здесь находиться. Увидев Ладу, она лишь слегка приподняла бровь.
– И ты здесь, пташка? – её голос был ровным, но Лада почувствовала в нем холодок. – Что, опять что-то сломала?
Лада густо покраснела и вжала голову в плечи.
– Н-нет… я просто… отблагодарить…
Она не успела договорить, потому что с другой стороны улицы, покачивая бедрами, подошла третья – Зоряна. Она была в ярко-алом сарафане, который горел, как маков цвет, на фоне серого предгрозового неба. В руках у неё ничего не было. Ей не нужны были предлоги. Она пришла взять то, что считала своим по праву.
Увидев у кузницы сразу двух соперниц, она остановилась. Ее синие глаза метали молнии, которые были похлеще небесных.
– Ну, надо же! Слетелись, вороны, на падаль, – прошипела она, её голос был низким и ядовитым. Она окинула презрительным взглядом Ладу, задержала на мгновение холодный взор на Милаве. – Что тут у вас? Ярмарка невест? Или очередь к нашему жеребцу на случку?
От её слов Лада побледнела и, кажется, стала еще меньше ростом. Милава же даже не дрогнула.
– У кого что болит, тот о том и говорит, Зоряна, – спокойно парировала она. – У меня, в отличие от некоторых, есть деловое поручение от отца. А ты с чем пожаловала? Опять себя предлагать? Смотри, товар-то залежалый, портиться начинает.
Это был точный удар. Лицо Зоряны исказила злость.
– Ах ты, змея подколодная! – выплюнула она. – Думаешь, если ты хитростью да лестью действуешь, так умнее всех? Он твою лживую натуру за версту чует! Мужику, как Ратибор, нужна настоящая женщина! Страстная, горячая! А не тихая мышь, – она метнула яростный взгляд на Ладу, – и не расчетливая торгашка! – это уже было в адрес Милавы.
– Страсть без ума – это пожар в стогу сена, – невозмутимо ответила Милава. – Ярко горит, да быстро гаснет, оставляя после себя лишь черные головни. А настоящая женщина – это очаг, который греет дом долгие годы. Но тебе, видать, этого не понять. Твоего жара хватает только на то, чтобы сарафаны прожигать.
Всё это время Ратибор находился внутри. Он слышал их голоса, но делал вид, что не слышит. Он стоял у мехов и с силой, с какой-то яростной методичностью, раздувал огонь. Гу-у-ух! Гу-у-ух! – ревели мехи, словно огромные легкие, пытаясь перекрыть, заглушить эти женские голоса, от которых у него сводило скулы.
Он чувствовал их всех троих за своей спиной. Чувствовал трепетный страх Лады, холодную, как сталь, уверенность Милавы и обжигающую, как пламя, ярость Зоряны. Они делили его шкуру, даже не спросив его самого. Он был для них вещью, призом, целью. Их чувства, их желания, их борьба создавали вокруг кузницы такое напряжение, что, казалось, воздух вот-вот взорвется.
– Хватит!
Его рык прозвучал так неожиданно и мощно, что все три девушки вздрогнули и замолчали. Он резко обернулся и встал в дверном проеме. Огромный, черный от сажи, с голым, блестящим от пота торсом. В его серых глазах полыхал холодный огонь. Он был похож на разгневанного бога-громовержца.
Он переводил свой тяжелый взгляд с одной на другую. На испуганное, заплаканное лицо Лады. На поджатые губы и вызывающе-дерзкий взгляд Зоряны. На внешне спокойное, но напряженное лицо Милавы.
– Это кузница. Место для работы, – процедил он сквозь зубы. – А не базарная площадь для бабских пересудов. У меня здесь железо раскаленное, а не пироги пекутся. Если у кого-то есть дело – говорите. Если нет – убирайтесь все прочь. И не смейте превращать порог моего дома в собачью свадьбу.
Его слова, грубые и резкие, хлестнули их, как кнутом. Лада, окончательно перепугавшись, выронила свой узелок с лепешками и, всхлипнув, бросилась бежать. Зоряна, бросив на Ратибора последний испепеляющий взгляд, полный обиды и невысказанной угрозы, резко развернулась и зашагала прочь, гордо вскинув голову.
Осталась одна Милава. Она выдержала его взгляд, не дрогнув.
– Я принесла рукоять, как мы и договаривались, – спокойно сказала она, протягивая ему сверток.
Ратибор выхватил сверток из её рук.
– Оставь. Я посмотрю позже. А сейчас уходи и ты.
Он не стал дожидаться ответа, развернулся и вошел в спасительную темноту кузницы. Он схватил молот и с силой, вкладывая в удар всю свою злость и смятение, обрушил его на раскаленный обод.
БУМ!
А снаружи, под первыми тяжелыми каплями долгожданного дождя, на земле остался лежать маленький узелок, из которого выкатились и рассыпались по пыли никому не нужные медовые лепешки.
Глава 11: Ночь на Купалу
Приближался Купала – самый короткий, самый жаркий и самый пьянящий праздник в году. Сама ночь, когда граница между миром людей и миром духов истончалась, когда огонь очищал, а вода дарила силу, когда самые строгие запреты ослабевали под покровом темноты.
Атмосфера в деревне изменилась. Она наполнилась тайным предвкушением, стала плотной и наэлектризованной, как воздух перед грозой. Дни стали длиннее, ночи – короче, и казалось, само солнце не хотело уходить, подглядывая за приготовлениями.
Девушки с утра до вечера бродили по лугам и опушкам леса, собирая травы. Они пели тихие, тягучие песни, в которых переплетались просьбы о суженом, о плодородии и о защите от злых сил. Их корзины наполнялись горькой полынью, которую развешивали над дверями домов, чтобы отпугнуть нечисть; пахучим зверобоем, чьи желтые цветы, как говорили, хранили в себе частичку солнечного света; дурманящей сонной травой и таинственным иван-да-марьей. Воздух в избах пропитался терпким, пряным ароматом этих трав.
Парни и молодые мужики, в свою очередь, готовились к главной ночи. Они уходили в лес и валили самые большие сухие деревья, тащили их на холм у реки, складывая огромный костер, который должен был гореть до самого рассвета. Их смех и зычные крики разносились по всей округе. Работа эта была тяжелой, но радостной, и в их взглядах, которыми они обменивались с девушками, уже плясали предвкушающие, шальные огоньки.
Все знали, что будет этой ночью. Будут хороводы у костра, песни до хрипоты, прыжки через очищающее пламя, часто – взявшись за руки, парами. Будут венки, которые девушки, загадав желание, пустят по реке: чей венок уплывет далеко – та скоро выйдет замуж, чей прибьется к берегу – той сидеть в девках, а чей утонет – быть беде.
И все знали, что после полуночи, когда старые и малые разойдутся по домам, начнется самое главное. Молодежь разобьется на пары и разбредется по темному лесу. Искать мифический цветок папоротника. Все понимали, что цветок этот – лишь предлог. Предлог для того, что запрещалось в любую другую ночь в году. Предлог для горячих объятий на мягком мху, для жадных поцелуев под кронами деревьев, для первого, робкого или страстного, познания тайны слияния двух тел. Это была ночь вседозволенности, ночь, когда боги отворачивались и позволяли природе взять свое. Дети, зачатые в Купальскую ночь, считались самыми счастливыми и здоровыми.
И, конечно, в центре этого невидимого урагана страстей и ожиданий стоял Ратибор. Для трех девушек эта ночь должна была стать решающей.
Зоряна готовилась к ней, как к битве. Она выткала себе новую, тончайшую льняную рубаху, которая почти ничего не скрывала. Она знала, что в свете костра её тело будет выглядеть как изваяние богини. Она пойдет напролом. Она затащит его в хоровод, заставит прыгнуть с ней через костер и уведет в лес. Силой, страстью, обещанием такого наслаждения, от которого он потеряет свою хваленую волю.
Милава готовилась, как к шахматной партии. Она не собиралась кидаться ему на шею. Она сплела самый красивый венок, вплетая в него травы, которые, по поверьям, привораживали и туманили разум. Её план был тоньше. Она создаст ситуацию, где он сам подойдет к ней, где её спокойствие и загадочность на фоне всеобщего буйства покажутся ему спасительной гаванью.
Лада готовилась со страхом и надеждой. Она ничего не планировала. Она лишь молила всех известных ей богов, чтобы он хотя бы посмотрел в её сторону. Чтобы, когда она пустит свой венок по воде, он случайно поймал его. И может быть… может быть, когда все будут прыгать через костер, он подаст ей руку. Большего она и не смела желать.
Деревня замерла в ожидании. Воздух гудел, как натянутая тетива. И все чувствовали: грядущая Купальская ночь будет жаркой не только от костра.
Глава 12: Хоровод
Когда последний багряный отсвет заката растворился в чернильной воде реки, на высоком холме вспыхнул Купалец. Сначала робкий огонек, лизнувший сухие нижние ветки, а затем, с ревом и треском, вверх ударил огромный, яростный столб пламени, устремляясь прямо в бархатное, усыпанное звездами небо. Искры, словно тысячи огненных пчел, взвились в темноту, смешиваясь со звездами.
На холм стекалась вся деревня. Музыка – дикая, быстрая, завораживающая – лилась из нескольких рожков и трещоток, задавая рваный, первобытный ритм сердцам. Воздух стал плотным, пропитанным запахами дыма, смолы, полыни и разгоряченных человеческих тел.
Ратибор не хотел идти. Такие сборища он презирал, считая их пустой тратой времени и сил. Но отец настоял: «Это праздник рода. Нельзя отрываться от корней, сын. Даже самое крепкое дерево без корней – просто бревно». И он пошел, встав поодаль от всех, у старой сосны, откуда было видно и костер, и людей, но где он мог оставаться в спасительной тени. Он скрестил свои могучие руки на груди, превратившись в молчаливого, хмурого наблюдателя.
А зрелище разворачивалось завораживающее. Когда огонь разгорелся в полную силу, начались хороводы. И тогда он увидел их.
Девушки, как и положено по обычаю, сняли свои сарафаны и пояса. Они остались в одних длинных, до пят, рубахах из тонкого, почти прозрачного льна. Эта простая одежда не скрывала, а лишь дразняще подчеркивала все изгибы их юных, полных жизни тел.
Взявшись за руки, они закружились в медленном, тягучем хороводе вокруг костра. Их босые ноги ступали по траве, уже влажной от ночной росы. Длинные, распущенные волосы летали в такт движению, то скрывая лица, то открывая их пламени. Их песня, сначала тихая и плавная, становилась все громче и быстрее, сливаясь с треском огня и музыкой.
Отсветы пламени выхватывали из полумрака то одно, то другое тело, превращая их в живые, дышащие изваяния. Ратибор смотрел, и в его крови медленно поднималась тяжелая, горячая волна, против которой он был бессилен.
Вот в огненном круге света проплыла Зоряна. Ее новая, тончайшая рубаха от жара и пота стала почти прозрачной и облепила её тело, как вторая кожа. Огонь просвечивал сквозь ткань, очерчивая каждый изгиб её зрелой, совершенной фигуры. Высокая, упругая грудь с темными кругами сосков, которые затвердели от ночной прохлады и волнения, вызывающе колыхалась в такт хороводу. Упругий живот, округлые, мощные бедра и длинные, сильные ноги богини плодородия. Её лицо было запрокинуто вверх, к звездам, губы полуоткрыты, а в синих глазах, отражавших пламя, плясало дикое, неприкрытое желание. Она не просто танцевала. Она совершала ритуал соблазнения, и Ратибор чувствовал, что этот ритуал посвящен ему. Каждый ее поворот, каждый взмах волос был безмолвным, страстным призывом.
За ней двигалась Милава. Она была не так откровенно-соблазнительна, как Зоряна, но её прелесть была глубже, тоньше. Рубаха на ней была из более плотного льна, но и она намокла от росы и прилипла к телу, выдавая его мягкие, округлые линии. Ее грудь была не такой большой, но высокой и крепкой. Ее главная притягательность была в движении – бедра ее покачивались плавно, завораживающе, как у змеи, готовящейся к броску. Лицо её было спокойным, почти отрешенным, но в уголках губ играла едва заметная, всезнающая улыбка. Время от времени она бросала в его сторону быстрый, изучающий взгляд из-под полуопущенных ресниц. Она не кричала о своем желании, она нашептывала о нем, обещая не бурю, а тихий, глубокий омут наслаждений.
И среди них, почти теряясь в этом буйстве плоти, кружилась Лада. Она казалась прозрачным, трепетным мотыльком, случайно залетевшим в это царство огня. Её тонкая, ещё по-девичьи угловатая фигурка под влажной рубахой выглядела невероятно хрупкой и беззащитной. Простые очертания маленькой груди, узких бедер… В ней не было обещания греха. В ней было обещание чистоты. Она танцевала неуверенно, сбиваясь с ритма, и её огромные васильковые глаза были полны испуга и восторга одновременно. Она не смотрела на него. Она боялась. Но всё её существо, каждый её робкий шаг, каждый испуганный вздох были безмолвной молитвой, обращенной к нему.
Хоровод становился всё быстрее. Песня превратилась в громкий, экстатический клич. Девичьи тела, разгоряченные танцем, покрылись потом, который блестел в свете костра, как драгоценное масло. Мокрая ткань полностью перестала что-либо скрывать, превратив танец в откровенное, языческое празднество плоти. Парни, стоявшие вокруг, кричали, хлопали в ладоши, их глаза горели голодным огнем. Воздух звенел от необузданной энергии, от первобытного зова природы, от древнего, как мир, ритуала, где мужчина и женщина праздновали жизнь и продолжение рода.
Ратибор стоял, вцепившись пальцами в ствол сосны, и тяжело дышал. Стена, которую он так старательно выстраивал вокруг себя, давала трещину за трещиной. Он больше не был просто наблюдателем. Этот хоровод, этот огонь, эти полуобнаженные, манящие тела втягивали его в свой водоворот. Он чувствовал, как внизу живота сворачивается тугой, горячий узел. Его кровь, густая и горячая, как расплавленный металл, шумела в ушах, заглушая музыку.
Он видел перед собой не просто трех девок. Он видел три судьбы, три обещания, три пути.
Огонь Зоряны, который обещал сжечь его дотла, но подарить мгновения высшего, звериного наслаждения.
Омут Милавы, который сулил покой и сытую жизнь, но грозил поглотить его свободу.
И робкий трепет Лады, который взывал к его защите и доброте, но грозил наложить на него путы ответственности, возможно, самые крепкие из всех.
Хоровод распался. Тяжело дыша, смеясь, девушки разбежались по поляне. Ночь на Купалу только начиналась. И Ратибор понял с пугающей ясностью – сегодня ему не укрыться в своей тени. Сегодня огонь доберется и до него.
Глава 13: Прыжок через костер
Когда хороводы закончились, началось самое веселое и опасное игрище ночи – прыжки через Купалец. Огромный костер уже немного прогорел и осел, превратившись в широкую, полыхающую жаром гору углей, над которой плясали низкие, яростные языки пламени.
Старые и женатые прыгали в одиночку, очищаясь от хворей и сглаза. Но вся суть обряда была в прыжке парном. Парень и девушка, крепко взявшись за руки, должны были с разбега перелететь через огненную преграду. Если в полете их руки не расцепятся – быть им вместе, жить в любви и согласии. Если же руки разойдутся – разойдутся и их пути. Это было и игрой, и гаданием, и публичным заявлением о своих чувствах.
Вокруг костра стоял возбужденный гул. Молодые парни, раззадоренные пивом и зрелищем полуобнаженных девичьих тел, хватали понравившихся им девушек и с громкими криками и смехом неслись к огню. Кто-то перелетал легко, как птица, вызывая всеобщие одобрительные крики. Кто-то, не рассчитав разбег, падал на той стороне, вызывая взрыв хохота.
Ратибор по-прежнему стоял у своей сосны, чувствуя себя чужим на этом празднике жизни. Он смотрел на это буйство с привычным хмурым неодобрением, но внутри у него всё клокотало. Вид разгоряченных, смеющихся пар, их переплетенные руки, блестящие глаза – все это будило в нем глухую, почти болезненную тоску по тому, чего он сам себя лишал.
И в этот момент он почувствовал на себе её взгляд. Зоряна стояла на другой стороне огненного круга, и её синие, как ночное небо, глаза горели недобрым, решительным огнем. Она искала его, нашла и теперь не сводила с него взгляда. Это был не призыв, а вызов. Безмолвный приказ.
Она начала двигаться. Неспешно, уверенно, она обошла полыхающий костер, и толпа расступалась перед ней, как вода перед носом ладьи. Она шла прямо к нему. Её влажная рубаха облепляла тело, не скрывая ничего. Распущенные волосы, растрепанные после хоровода, огненной волной разметались по плечам. Она была похожа на валькирию, спустившуюся на поле битвы, чтобы выбрать себе лучшего воина.
Ратибор напрягся. Он понял, что сейчас произойдет, и всё его существо восстало против этого. Против этого публичного насилия над его волей.
– Что стоишь в тени, кузнец, как нелюдь лесной? – её голос прозвучал низко и хрипло, перекрывая шум толпы. Она остановилась прямо перед ним, так близко, что он чувствовал жар её тела и сладкий, дурманящий запах трав в её волосах. – Или боишься огня? Странно для того, кто с ним каждый день живет.
– Я не боюсь огня. Я не люблю пустых игрищ, – отрезал он, не двигаясь с места. Его руки оставались скрещенными на груди, создавая барьер.
– Пустых? – она рассмеялась, запрокинув голову. Её смех был дерзким и соблазнительным. – Очистить душу от скверны, погадать на судьбу, показать свою удаль – это, по-твоему, пустое? Нет, Ратибор. Пустое – это стоять в стороне от жизни, пока она проходит мимо.
Не дожидаясь ответа, она сделала то, чего он ожидал и боялся больше всего. Она шагнула вперед и властно, сильно схватила его за руку. Её пальцы были горячими и цепкими.
– Пойдем!
Это была не просьба. Это был приказ. Она потянула его за собой, к костру.
Вокруг них на мгновение стих шум. Все повернулись в их сторону. Первая красавица деревни и самый сильный, самый неприступный парень. Все затаили дыхание в ожидании развязки. Для Зоряны это был момент триумфа. Она публично заявляла на него свои права. Еще немного – и он будет её.
Но Ратибор не сдвинулся с места. Его ноги будто вросли в землю. Её силы, силы крепкой деревенской девушки, не хватило, чтобы сдвинуть его с места. Он стоял, как скала.
– Я не пойду, – сказал он тихо, но в ночной тишине его слова прозвучали, как удар молота.
Её рука, державшая его, дрогнула.
– Что? – переспросила она, не веря своим ушам.
– Я сказал, я не пойду, – повторил он громче, глядя ей прямо в глаза. И в его взгляде была холодная, непреклонная ярость.
Он попытался высвободить свою руку, но она вцепилась в него с отчаянной силой.
– Ты пойдешь! – прошипела она, её красивое лицо исказилось от злости и унижения. Она понимала, что проигрывает. На глазах у всей деревни. – Все прыгают! Ты что, лучше других? Или ты боишься, что руки наши в полете разойдутся? Боишься правды?
Это был последний, отчаянный удар. Она пыталась уязвить его, выставить трусом.
Но он лишь качнул головой. И тогда он сделал то, что окончательно уничтожило её.
Он спокойно, без рывка, второй рукой взял её запястье и медленно, палец за пальцем, разжал её хватку на своей руке. Он сделал это с такой неотвратимой силой, что всякое сопротивление было бессмысленно. Он освободился.
– Кто-то должен следить за костром, чтобы такие, как ты, не свалились в него по глупости, – сказал он холодно и громко, чтобы слышали все. – Это дело поважнее ваших прыжков.
Это было публичное унижение. Худшее из всех возможных. Он не просто отказал ей. Он назвал её глупой, а её действия – ребячеством, и противопоставил этому свою взрослую, мужскую ответственность. Он выставил её пустышкой.
На её лице сменялись эмоции – от неверия и ярости до глубочайшей, смертельной обиды. Вокруг послышались смешки. Кто-то из мужиков, ставивших на неё, разочарованно сплюнул.
Она стояла перед ним, поверженная. Её план рухнул. Её гордость была растоптана на глазах у всех. Она ничего не сказала. Она лишь бросила на него взгляд, полный такой ненависти, что, если бы взгляды могли убивать, он бы упал замертво.
А потом она резко развернулась и, расталкивая толпу, почти побежала прочь с холма, в спасительную темноту леса.
Ратибор остался стоять у сосны. Он победил. Но победа не принесла ему радости. Он чувствовал лишь опустошение и неприятный привкус во рту. Он не хотел её унижать. Он лишь защищал свою свободу. Но, защищая её, он, возможно, сломал что-то важное в этой гордой, огненной девушке.
Он повернулся и подошел к костру. Взял длинный шест и начал ворошить угли, подгребая их к центру. Он и впрямь стал хранителем огня. Одиноким хранителем посреди чужого, бурного веселья.
Глава 14: Венок для суженого
После публичного унижения Зоряны шум на поляне немного поутих. Прыжки через костер продолжались, но в них уже не было прежнего безудержного веселья. В воздухе повисло неловкое напряжение, словно прохладный ветерок пробежал по разгоряченным телам. Ратибор, как и обещал, занялся костром, вороша бревна вместе с другими мужиками, и его мощная спина, обращенная к толпе, была красноречивее любых слов. Он отгородился от них стеной огня и работы.
Настало время другого обряда, более тихого и таинственного – гадания на венках. Девушки, собравшись на берегу реки, стали опускать на темную, мерцающую в свете звезд воду свои творения. Река, медленная и ленивая, подхватывала их, и цветочные круги, подталкиваемые едва заметным течением, плыли, унося с собой девичьи мечты и тайные надежды.
Милава опустила свой венок – искусно сплетенный, плотный, – и он уверенно поплыл к середине реки, обгоняя другие. Она смотрела ему вслед со спокойной, чуть загадочной улыбкой, словно точно зная, куда и зачем он плывет. Она сделала всё правильно, прошептав нужные заговоры и вплетя нужные травы. Её судьба, как она верила, была в её собственных руках.
Последней к воде подошла Лада. Сердце её колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. В руках она держала свой венок. Он не был таким пышным, как у Милавы, или таким ярким, как у других девок. Он был скромным, сплетенным из простых полевых васильков, ромашек и нескольких веточек горькой полыни, чтобы отогнать злых духов от её мечты. А в центре, как маленькое сердечко, она вплела цветок дикой гвоздики, найденный у самой кузницы Ратибора.
Она закрыла глаза, её длинные темные ресницы легли на бледные щеки. Она не шептала заговоров. Она просто молилась. Всем своим существом, всей своей чистой, юной душой она просила реку, богов, саму ночь об одном – чтобы он обернулся. Чтобы он её заметил. Чтобы судьба дала ей хотя бы крошечный знак.
Наклонившись над водой, она увидела в темном зеркале реки свое отражение – испуганное бледное лицо и огромные, полные мольбы глаза. Её пальцы дрожали, когда она бережно, словно опуская в колыбель младенца, положила венок на воду.
В этот момент Ратибор, уставший от жара костра и людских пересудов, отошел от огня и спустился к самой кромке воды, чтобы умыть лицо и остудить пылающую кожу. Он не смотрел на девушек, не интересовался их гаданиями. Он просто хотел на мгновение побыть в тишине, послушать плеск воды.
Ладин венок качнулся на волне и, вместо того чтобы поплыть по течению вслед за остальными, попал в небольшое обратное завихрение у самого берега. Медленно кружась, он отклонился от общего потока и, словно живой, целеустремленно поплыл прямо к тому месту, где стоял Ратибор. Легко ткнувшись в его сапог, он остановился.
На берегу на мгновение воцарилась тишина. Все, кто видел это, затаили дыхание. Это было больше чем совпадение. Это был знак. Сама река, сама судьба указала на него.
Ратибор опустил взгляд и увидел у своих ног маленький, скромный венок. Он поднял глаза и встретился взглядом с Ладой.
Она стояла на том же месте, не в силах сдвинуться, прижав руки к груди. Всё её существо превратилось в один-единственный взгляд. Огромные, полные надежды и страха глаза были прикованы к его лицу. В них плескалось столько невысказанной мольбы, столько отчаянной, робкой любви, что Ратибору стало не по себе. В этом взгляде не было игры, не было вызова. В нем была вся её беззащитная, открытая душа, которую она протягивала ему на ладонях. Она ждала. Ждала, что он сейчас улыбнется, возьмет венок и подойдет к ней. Это был бы ответ богов, исполнение всех её желаний.
Он видел, как трепещет её ресницы, как дрожат её губы. И сердце его, жесткое и закаленное, на миг дрогнуло от жалости. Он не хотел причинять ей боль. Она была единственной, кто не вызывал в нем раздражения этой ночью. Но дать ей надежду, которой не было, было бы еще большей жестокостью.
Он медленно наклонился и поднял венок с воды. Цветы пахли полем и речной прохладой. Несколько мгновений он держал его в своих огромных, покрытых сажей руках. Венок казался в них хрупким, нереальным.
А потом он сделал несколько шагов к ней. Лада замерла, её сердце перестало биться. Неужели?..
Он остановился перед ней и протянул ей венок.
– Это твое, Лада. Ты его уронила, – его голос был тихим и, как ему казалось, добрым. Но для нее эти слова прозвучали как удар грома. Он не принял знак. Он вернул ей её судьбу.
Она не двигалась, не в силах взять венок.
Он мягко вложил его в её безвольно опущенные руки.
– Твоя судьба еще найдет тебя, – добавил он, пытаясь её утешить. – Но она поплывет по течению, а не против него. Не теряй свой венок зря.
Он смотрел на неё, ожидая, что она что-то ответит. Но она молчала. Он видел, как медленно гаснет свет в её огромных глазах, словно кто-то задул две свечи. Надежда умерла, и на её место пришла бездонная, холодная пустота. Он видел, как по её щеке медленно поползла одна-единственная слеза.
Ратибору стало невыносимо тяжело. Он хотел что-то еще сказать, но понял, что любые слова будут фальшивыми. Он просто кивнул и, развернувшись, пошел прочь от реки, обратно, в тень деревьев, подальше от этих взглядов, от этих чужих надежд и разочарований.
А Лада осталась стоять на берегу, держа в руках свой мокрый, ненужный венок. Мир сузился до этого маленького, пахнущего травой круга. Он не утонул. Он не уплыл. Он вернулся к ней. Самый страшный знак из всех. Она посмотрела на темную, равнодушную воду, и её хрупкие плечи затряслись от беззвучных рыданий. Её сердце было разбито. Окончательно и бесповоротно. И эта боль была намного страшнее и глубже, чем унижение, которое испытала Зоряна. Потому что у Зоряны отняли победу. А у Лады отняли мечту.
Глава 15: Ночной лес
Ночь перевалила за полночь. Большой костер на холме прогорел и теперь тлел огромным, дышащим жаром красным сердцем. Старики и дети давно разошлись по домам, унеся с собой в сон отголоски песен и запах дыма. На поляне остались только молодые – те, чья кровь была горячее углей, а желания – острее крапивы.
Праздник перешел в свою самую тайную, самую дикую фазу. То тут, то там из общего круга выделялись пары и, смеясь шепотом, исчезали в манящей, пахнущей влажной землей и хвоей темноте леса. Они шли "искать цветок папоротника". Искать свое короткое, на одну ночь, счастье, свою языческую магию.
Ратибор покинул свое убежище в тени деревьев. Оставаться там было невыносимо. Воздух стал плотным от несдерживаемого желания, пьяного шепота и обещаний. Он чувствовал себя чужим на этом празднике плоти, одиноким волком в центре шумной, празднующей деревни. Он решил уйти домой, обойдя поляну по самой кромке леса, чтобы ни с кем не столкнуться.
Он уже почти миновал последнее скопление людей, когда тихий голос окликнул его из темноты.
– Уходишь, кузнец? Неужели самая волшебная ночь в году прошла для тебя впустую?
Из тени старого дуба шагнула Милава. Она была одна. На её голове остался венок, который, как говорили, успешно проплыл своё гадание. Она смотрела на него спокойно, её зелено-карие глаза в полумраке казались почти черными, и в их глубине таилась усмешка.
– Эта ночь для других, Милава, – ответил он, останавливаясь. – Моя магия осталась в кузнице.
Она тихо рассмеялась. Её смех не был ни дерзким, как у Зоряны, ни счастливым, как у других девушек. Он был умным и понимающим.
– Ты не прав, Ратибор. Самая сильная магия творится не в кузнице, а здесь, сегодня. Магия жизни. Продолжения рода. Когда мужчина и женщина становятся чем-то большим, чем просто двое. Когда они на миг сливаются с богами. Неужели тебе совсем не любопытно её познать?
Она подошла ближе. Она не пыталась его коснуться. Её оружием были слова, и она владела им мастерски.
– Посмотри, – она обвела рукой темный, полный шорохов и вздохов лес. – Все ищут цветок папоротника. Глупцы. Они думают, что он принесет им богатство или удачу. А ведь настоящий цветок папоротника – это то, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они остаются одни под звездами. Это миг, когда мир исчезает, и остаются только двое.
– Красиво говоришь, – усмехнулся Ратибор. – Словно песни, что гусляры поют. Только в песнях этих часто больше лжи, чем правды.
– А что, если я предложу тебе не ложь, а правду? – она сделала ещё один шаг, и теперь он мог разглядеть блеск её глаз. – Пойдём со мной, Ратибор. Я не Зоряна, я не потащу тебя силой. Я не Лада, я не буду плакать у твоих ног. Я просто предлагаю тебе… сделку. Ты покажешь мне свою силу, ту, которую ты прячешь ото всех. А я покажу тебе магию. Не ту, что длится одну ночь, а ту, что может изменить всю жизнь. Я покажу тебе, что такое настоящая женщина-помощница, а не просто самка для утех.
Её предложение было соблазнительным в своей разумности. Она не обещала ему бездну страсти. Она обещала партнерство. Понимание. То самое, о чем говорила ему в кузнице. Она играла на его уме, а не на его инстинктах.
Он смотрел на неё, на её спокойное, умное лицо. Он почти поддался. Почти сделал шаг навстречу. В её словах была логика, была притягательная сила зрелости, которой не было у других. Но что-то внутри него сопротивлялось. Что-то честное, упрямое, выкованное в огне.
– Твоя магия, Милава, пахнет расчётом, – сказал он наконец, и его голос прозвучал жестко и трезво, как холодная вода на разгоряченную кожу. – Ты говоришь о слиянии, а я слышу о сделке. Ты говоришь о магии, а я вижу, как ты взвешиваешь на весах мое ремесло и отцовское приданое. Ты предлагаешь мне показать тебе мою силу, но не для того, чтобы разделить её со мной, а для того, чтобы использовать её в своих целях.
На её лице впервые за всё время мелькнула тень – обида или удивление от его проницательности. Она не ожидала такого прямого удара.
– Ты самый умный кузнец, которого я встречала, – тихо проговорила она, скрывая свою досаду за комплиментом. – Но и самые умные мужчины порой хотят простого тепла. Холодная постель одинока, Ратибор. А ночь сегодня длинная. И я могу быть очень, очень теплой.
Она всё-таки сделала последний ход – протянула руку и коснулась его предплечья. Её ладонь была прохладной и гладкой. Прикосновение было легким, вопрошающим. Но в нем не было огня Зоряны. Не было трепета Лады. В нем была лишь продуманная ласка.
Ратибор мягко, но настойчиво убрал её руку. Он посмотрел ей прямо в глаза, и его взгляд был серьезным и немного печальным.
– Я не ищу магии, которая длится одну ночь, Милава.
Она замерла, её рука повисла в воздухе.
– А какую же магию ты ищешь, упрямый ты человек?
Он на мгновение задумался, глядя на тлеющие угли костра, словно ища там ответ.
– Я ищу ту, которую не нужно искать в лесу под покровом ночи. Ту, которая не боится дневного света. Ту, что не измеряется выгодой и не покупается за красивые слова. Ту, что просто… есть. Или её нет. И пока я её не нашел, я лучше останусь со своим холодным железом. Оно, по крайней мере, честнее.
Сказав это, он кивнул ей, прощаясь, и, развернувшись, твердым шагом пошел прочь, к своей темной, тихой избе на краю деревни.
Милава осталась одна. Она смотрела ему вслед, и на её лице застыло сложное выражение – смесь разочарования, злости и… уважения. Он снова отказал. Отверг и огонь, и воду, и хитрость. Он был еще тверже, еще неприступнее, чем она думала.
«Хорошо, кузнец, – подумала она, сжимая кулаки. – Ночь – это только начало. Впереди еще много дней. И моя сеть, в отличие от твоей магии, боится дневного света ничуть не больше, чем ночной темноты».
Она повернулась и медленно пошла домой, одна. Купальская ночь, ночь магии и желаний, закончилась для всех трех девушек одинаково. Поражением.
Глава 16: Отчаянный шаг
Ратибор вернулся домой оглушенный. Тишина избы после дикого гомона праздника давила на уши. Он не стал зажигать лучину, оставшись в полумраке, освещаемом лишь тусклым светом звезд из маленького оконца. Он снял рубаху и плеснул в лицо холодной воды из кадки. Вода немного привела его в чувство, но внутри всё гудело, как растревоженный улей. Образы этой ночи стояли перед глазами: полуобнаженные тела в свете костра, умоляющие глаза Лады, умный взгляд Милавы и, самое главное, лицо Зоряны, искаженное ненавистью и унижением.
Он сел на лавку, провел руками по волосам. Он чувствовал себя выжатым, опустошенным. Он отстоял свою свободу, отбился от всех. Но победа эта была горькой.
Он думал, что ночь для него кончена. Он ошибался.
Дверь его избы отворилась без стука, рывком. На пороге, шатаясь, стояла Зоряна. Лунный свет, пробившийся в проем, выхватил её из темноты, и вид её заставил Ратибора замереть.
Она была растрепана, дика и прекрасна в своей ярости. Венок слетел с её головы, и волосы огненной гривой разметались по плечам. Рубаха из тонкого льна в нескольких местах была порвана, обнажая участки белой кожи. Её щеки горели лихорадочным румянцем, а глаза, обычно синие и ясные, стали темными, почти черными, и в их глубине плескалось безумие – смесь хмеля, обиды и животного желания. От неё сильно пахло медовухой и раздавленными травами.
– Так вот ты где спрятался, великий кузнец, – её голос был низким и хриплым, каждое слово давалось ей с трудом. – Сбежал… от меня сбежал…
Она сделала несколько неуверенных шагов в избу и захлопнула за собой дверь, погрузив их обоих в почти полную темноту. Ратибор молча поднялся.
– Ты пьяна, Зоряна, – сказал он спокойно, но напряженно. – Иди домой. Проспись.
– Пьяна… – она горько рассмеялась. – Да, я пьяна! От медовухи… от унижения… от тебя! Ты думаешь, можно вот так растоптать меня на глазах у всех и уйти? Думаешь, я позволю тебе это? Нет. Ты ответишь. Сегодня. Сейчас.
Она подошла к нему вплотную. Жар, исходивший от её тела, был почти осязаем. Она пахла женщиной, хмелем и яростью.
– Ты отверг меня там, при всех… потому что ты трус! – прошипела она, тыча ему пальцем в грудь. – Ты боишься! Боишься моей силы, боишься своей! Боишься того, что я с тобой сделаю, когда мы останемся одни!
Он молчал, понимая, что любые слова сейчас бесполезны. Он был как кузнец перед раскаленным добела металлом, который вышел из-под контроля, – одно неверное движение, и он обожжет, покалечит.
– Но сейчас здесь никого нет, Ратибор, – её голос упал до соблазнительного, пьяного шепота. – Только ты, я и эта ночь. И сейчас ты не сможешь от меня убежать. Я покажу тебе, чего ты себя лишил. Я возьму тебя. Силой, если понадобится.
И прежде чем он успел отреагировать, она сделала свой отчаянный шаг. С рычанием, полным отчаяния и похоти, она схватилась за ворот своей тонкой рубахи и одним резким движением рванула её сверху вниз. Ткань затрещала и разошлась, открывая его взору всё.
В тусклом свете звезд её обнаженное тело казалось вылитым из лунного серебра. Её полная, высокая грудь тяжело дышала, соски были темными и твердыми. Плоский живот, округлая линия бедер, темный треугольник волос внизу… Она стояла перед ним, полностью нагая, открытая, уязвимая и в то же время невероятно агрессивная. Она предлагала себя не как дар, а как вызов. Как поле битвы.
– Ну?! – выдохнула она, глядя ему в глаза снизу вверх, её взгляд был мутным и требовательным. – Чего ты ждешь?! Разве не этого ты хотел? Разве не на это ты смотрел весь вечер, прячась, как вор? Бери! Бери меня, чертов ты истукан! Я твоя!
Она шагнула вперед и прижалась к нему всем телом. Её горячая, гладкая кожа обожгла его. Она обвила его шею руками, пытаясь впиться в его губы поцелуем. Её бедра терлись о его, её руки блуждали по его спине, царапая кожу ногтями.
Кровь ударила Ратибору в голову. Первобытный инстинкт, тот самый зверь, которого он так долго держал на цепи, взревел и рванулся на свободу. Его тело отреагировало мгновенно, против его воли. Он чувствовал её грудь, прижатую к его груди, её мягкий живот, её тепло внизу живота. Он вдыхал её запах, и разум его мутился. Еще мгновение, и он бы поддался. Он бы схватил её, швырнул на лавку или прямо на земляной пол, взял бы её грубо, яростно, так, как она того и хотела, – чтобы утолить этот животный голод, эту ярость, что кипела в них обоих.
Но сквозь пьянящий туман желания он увидел её лицо. Увидел мокрые дорожки от слёз на щеках, которые она пыталась скрыть за гневом. Увидел отчаяние в её глазах. И понял. Это был не акт страсти. Это был крик о помощи. Акт самоуничтожения, на который она пошла от безысходности и унижения. Она не хотела любви. Она хотела забыться, стереть свою боль, растворить её в боли и наслаждении.
И его собственная ярость уступила место чему-то иному. Жалости. Той самой жалости, которую он испытывал к Ладе, но теперь – в стократ более острой и горькой.
Он твердо, но без жестокости, взял её за плечи и отстранил от себя.
– Нет, Зоряна, – сказал он тихо, но так, что его слова прорезали пьяный угар.
– Что «нет»?! – она в отчаянии снова попыталась прижаться к нему. – Я некрасива? Я нежеланна?
– Ты красива, – ответил он, крепко держа её на расстоянии вытянутых рук, чтобы она не упала. – Ты желаннее любой женщины, которую я когда-либо видел. И именно поэтому – нет.
Она замерла, не понимая.
– Ты пришла сюда не ко мне, – продолжил он, глядя ей прямо в глаза, пытаясь достучаться до остатков её разума. – Ты пришла сюда, чтобы наказать себя. Чтобы доказать себе, что ты ничего не стоишь, раз готова отдаться силой тому, кто тебя унизил. Но я не буду твоим палачом, Зоряна. Я не возьму то, что ты предлагаешь в гневе и пьяном угаре. Твое тело… оно заслуживает большего. Оно заслуживает, чтобы его брали с любовью и страстью, а не со злостью и жалостью.
Его слова были как ушат холодной воды. Вся её пьяная бравада схлынула, оставив после себя лишь дрожь и горькое, отрезвляющее осознание того, что она сделала. Она посмотрела на себя – нагую, растрепанную, жалкую. И вдруг закрыла лицо руками и зарыдала. Некрасиво, надрывно, по-бабьи, сотрясаясь всем телом.
Ратибор отпустил её. Не говоря ни слова, он подошел к лавке, взял грубую мешковину – рогожу, которой укрывался холодными ночами, – и накинул ей на плечи, укутывая, скрывая её наготу и стыд.
– Поплачь, – сказал он тихо. – А потом я отведу тебя домой.
Он стоял рядом, большой и молчаливый, пока она плакала, выплескивая всю боль, обиду и хмель. Он не утешал её. Он просто был рядом. И это молчаливое, сильное присутствие было для неё в тот момент спасительнее любых слов. Когда она немного успокоилась, он вывел её через заднюю дверь, чтобы никто не видел, и, как тень, проводил до самого её дома, убедившись, что она тихо проскользнула внутрь.
Вернувшись в свою пустую избу, Ратибор рухнул на лавку. Он был опустошен. Ночь на Купалу наконец-то закончилась. Он выстоял. Он не поддался. Но он чувствовал, что эта ночь изменила всё. Он отверг их всех троих – каждую по-своему. И он понимал, что после этой ночи пути назад, к прежней, спокойной жизни, у него больше нет.
Глава 17: Последствия ночи
Рассвет нового дня пришел в деревню не как чистое, обновленное начало, а как похмельное, стыдливое утро. Солнце, такое же яркое, как и вчера, казалось неуместным и излишне громким. Его лучи безжалостно высвечивали следы ночного безумства: примятую траву на холме, еще дымящиеся остатки костра, брошенные кем-то венки, растерянную обувь. Воздух, еще вчера густой от магии и желаний, теперь был застоявшимся, пахнущим вчерашним дымом и прокисшей медовухой.
Но главный туман стоял не над рекой, а в головах. И гуще всего он был от шепота.
Шепот начался у колодца, куда женщины с первыми лучами солнца пришли за водой. Он выползал из полуоткрытых дверей, просачивался через плетни заборов, перелетал с одного конца деревни на другой быстрее воробья. К тому времени, как мужики вышли из домов, чтобы заняться скотиной, новость уже стала главной темой дня, заслонив собой и будущий урожай, и сплетни о соседях.
Сначала это были обрывки.
– …слыхала, Демьяновна-то наша под утро явилась…
– …вся в грязи, рубаха рваная, сама не своя…
– …а плотник Сбыслав видел, как она от кузни шатаясь шла…
– …говорят, ломилась к нему в дом, кричала…
– …выставил её, стервец! Закутал в рогожу, как щенка бродячего, и за дверь!
Каждый добавлял свою деталь, свою догадку, свое злорадное предположение. К середине утра история обросла такими подробностями, что уже мало походила на правду, но была куда более захватывающей. Одни говорили, что Ратибор избил её. Другие – что он, наоборот, воспользовался её пьяным состоянием. Третьи, знавшие характер кузнеца, качали головами и утверждали самое унизительное для Зоряны – что он просто брезгливо вышвырнул её вон, не пожелав даже прикоснуться.
Именно эта версия прижилась больше всего. Она была самой жестокой и самой правдоподобной.
Зоряна не выходила из дома. Дверь в избу старосты была плотно закрыта. Изнутри не доносилось ни звука, но все знали, какая буря там сейчас бушует. Староста Демьян был человеком гордым, и такой позор для его дочери был для него хуже пощечины, нанесенной на миру. Никто не видел Зоряну, но все представляли её: растоптанную, униженную, запертую в своей каморке, кусающую подушку от бессильной ярости и жгучего, всепоглощающего стыда. Она, первая красавица, гордая и недоступная, поставила всё на кон в эту ночь – и проиграла. Проиграла не просто мужчину. Она проиграла свою репутацию, свою гордость, своё лицо перед всей деревней.
Мужики, собравшись на завалинке у кузни (куда же еще!), пересматривали ставки. Атмосфера была совершенно иной, чем во время заключения пари. Уже не было веселого азарта. Теперь это была серьезная оценка ситуации.
Фрол, охотник, поставивший на Зоряну свою лучшую овцу, сидел мрачнее тучи.
– Да чтоб этому медведю-шатуну пусто было, – цедил он сквозь зубы, имея в виду Ратибора. – Какая кровь в нём течет? Водяная, что ли? Девка сама пришла! Нагая, пьяная, горячая! Любой бы мужик… любой! А этот… Он что, из камня высечен?
– Похоже, что из железа, – хмыкнул плотник Сбыслав, который, наоборот, был на седьмом небе от счастья. Его топор был спасен, а впереди маячила призовая овечка. – Я ж говорил, нахрапом его не взять. Он не из тех, кто на яркую тряпку кидается. Он себе цену знает. Зорянка-то наша думала, что раз ноги раскинет – так все к ней и приползут. А он показал ей, что её красота – товар дешевый, если за ней ни ума, ни уважения.
– Уважения… – пробурчал один из мужиков. – Какое уж тут уважение, когда девка пьяная сама себя предлагает? Он, может, и правильно поступил, по-честному. Не воспользовался.
– Правильно-то правильно, да не по-людски как-то, – возразил другой. – Мог бы и по-тихому все сделать. А то – рогожа, порог… Всю деревню на смех поднял. Унизил девку хуже некуда.
– А она его унизить не пыталась? – вмешался Микула, пасечник, который до этого молча слушал. – Втащить силой в свою постель на глазах у всех? Он лишь ответил ей её же монетой. Грубой силе противопоставил свою, холодную. Он, может, и жесток, да справедлив.
Фрол зло сплюнул.
– Справедлив… Овцу мою он зажал, вот что! – он повернулся к Сбыславу. – Ладно, твоя взяла. Но спор-то был не только на Зоряну. Я теперь на твою Милаву ставлю. Та, может, хитростью возьмет.
– Не возьмет, – покачал головой Сбыслав. – Я слышал, как он и её отшил в лесу. Отверг всех. Ладу-то с её венком вообще в слезы вогнал. Нет. Не берет его ни одна наживка. Парень, видать, себе на уме. Может, и впрямь больной какой?
И тут мужики впервые всерьез задумались над этим. Может, с Ратибором и правда что-то не так? Может, он не просто упрямый, а… не способен к женской ласке? Эта мысль была новой и немного пугающей. Она ставила всё с ног на голову. И если это было так, то их спор, их азарт, страдания девок – всё это было бессмысленно и жестоко.
Они посмотрели на закрытую дверь кузницы, откуда не доносилось ни звука. Ратибор сегодня еще не начинал работать. В этой тишине было что-то зловещее. И никому уже не хотелось ни шутить, ни спорить. Купальская ночь закончилась. Веселье сменилось неуютным, гнетущим затишьем. Деревня гудела, как растревоженный улей, но в центре этого улья, в двух домах – старосты и кузнеца – царила мертвая тишина. И все понимали, что последствия этой ночи будут аукаться еще очень и очень долго.
Глава 18: Внутренний монолог Ратибора
Кузница встретила его холодом и запахом остывшего угля. Дневной свет, пробивавшийся сквозь щели в стенах, рисовал на полу пыльные золотые полосы. Было тихо. Слишком тихо. Даже звуки деревни, обычно доносившиеся сюда приглушенным гулом, казалось, обходили это место стороной. Словно все знали, что здесь, в своей крепости, её хозяин ведет безмолвную битву.
Ратибор не начинал работу. Он просто стоял посреди кузни, у своей верной наковальни, и положил на неё широкие ладони. Холодный металл не принес обычного успокоения. Наоборот, сегодня он казался чужим, мертвым. Как и всё вокруг.
Он закрыл глаза. Но образы прошедшей ночи не исчезли, а стали лишь ярче, назойливее.
Вот лицо Зоряны, искаженное пьяной похотью и отчаянием, её распахнутая рубаха, обнаженная белая грудь… Он ощутил фантомный прилив крови, животный инстинкт, который ему пришлось душить в себе вчера с невероятным усилием. Он почти поддался. Почти позволил этому первобытному голоду взять верх. И сейчас, в утренней тишине, он содрогнулся не от её вида, а от того зверя, которого она едва не выпустила из его собственной души. Зверя бездумного, яростного, слепого. Он оттолкнул не её – он оттолкнул эту свою темную часть.
Вот глаза Лады, огромные, полные надежды, которая на его глазах превратилась в пепел. Этот образ был болезненнее. Жестокость по отношению к Зоряне была самозащитой. Но жестокость к Ладе… она была невольной, но оттого не менее горькой. Он раздавил её мечту, как неосторожный путник давит сапогом нежный лесной цветок. И теперь это воспоминание саднило в его груди, как незаживающая рана. Он поступил правильно, но от этой правоты было тошно.
А вот – умный, расчётливый взгляд Милавы, её спокойный голос, предлагающий сделку, партнерство, будущее. Её соблазн был самым тонким. Она не взывала к его похоти или жалости. Она взывала к его разуму. И именно поэтому её было сложнее всего отвергнуть. Она предлагала ему ту самую жизнь, которую ждал от него отец, которую ждала от него вся деревня. Правильную. Устроенную. Понятную. И именно от этой понятности ему хотелось выть.
Он открыл глаза и обвел взглядом свою кузницу. Инструменты, лежащие на своих местах. Заготовки у стены. Горн. Наковальня. Всё, что он любил. Всё, что составляло его мир.
Но сегодня этот мир показался ему тесным. Удушающе тесным. Как склеп.
«Они правы, – пронеслось у него в голове. – Отец, Милава, вся деревня. Они правы в своей правде. Мужчина должен иметь жену. Растить детей. Умножать добро. Это закон жизни, такой же древний, как земля, на которой мы стоим. Но почему тогда… почему этот закон ощущается на моей шее, как веревка висельника?»
Он провел рукой по лицу, чувствуя щетину и смертельную усталость, которая была глубже бессонной ночи.
«Женское внимание… они называют это вниманием. А я называю это клеткой. Мягкой, теплой, удушающей клеткой. Каждая из них приготовила для меня свою. Зоряна – клетку из страсти, где я должен быть ненасытным зверем, потешающим её самолюбие. Лада – клетку из обожания, где я должен быть каменным идолом, которому она будет вечно молиться. Милава – клетку из порядка и выгоды, где я должен быть тягловой лошадью, везущей наш общий воз в светлое будущее».
Он сжал кулаки так, что костяшки побелели.
«Но никто из них не спросил, хочу ли я в клетку. Никто из них не видит, что я задыхаюсь. Я стою у своей наковальни и не могу дышать. Этот воздух – он больше не мой. Он пропитан их желаниями, их ожиданиями, их обидами. Каждый удар моего молота теперь будет отдаваться эхом их имен. Каждый кусок железа, который я возьму, будет напоминать мне об их взглядах».
Он подошел к горну. Вчерашние угли почернели, превратились в труху. Вчерашний огонь умер. И Ратибору показалось, что это умер огонь и в его собственной душе.
«Сила… они все говорят о моей силе. Отец говорит, она должна иметь продолжение. Зоряна хочет её подчинить. Милава – использовать. А я… я чувствую, что она гниет во мне. Как стоячая вода в болоте. Я трачу её на подковы и лемехи, на то, чтобы отбиваться от бабьих юбок. А для чего она дана мне на самом деле? Неужели боги сделали меня таким сильным только для этого? Чтобы я до конца своих дней слушал, как мужики делают на меня ставки?»
Внезапно в его памяти всплыли образы, никак не связанные с деревней. Рассказы заезжих купцов о дальних землях. Слухи о набегах печенегов на южных границах. Смутные предания о походах киевских князей. Мир был огромен, полон опасностей и настоящих дел. Там, за лесами и полями, кипела совсем другая жизнь. Там силу мужчины измеряли не тем, какую девку он себе выбрал, а тем, как крепко он держит в руках меч или копье. Там удар его молота мог выковать не плуг, а щит для боевого товарища. Там его жизнь и смерть имели бы реальную цену, реальный смысл.
И в этот момент, в этой холодной, тихой кузнице, всё встало на свои места. Мысль, до этого бывшая смутным желанием, превратилась в отточенный, острый, как клинок, план.
Решение.
«Я должен уйти, – понял он с оглушительной ясностью. – Немедленно. Это больше не мой дом. Эта деревня, эти женщины, эти ожидания – это всё болото. И если я останусь, оно засосет меня. Я стану одним из тех мужиков у колодца, что чешут языками и делают ставки на чужую жизнь. Нет. Моя сила не для этого. Она для чего-то большего. Я должен найти настоящее дело. Настоящий огонь, который не будет коптить и душить, а будет гореть ясным, высоким пламенем. Даже если этот огонь сожжет меня дотла».
Он больше не чувствовал ни сомнений, ни жалости. Лишь холодную, звенящую пустоту на месте прежней сумятицы. И эту пустоту заполняла решимость.
Он подошел к мехам. Взялся за рукоять.
ВУХХХ…
Первый вдох нового огня.
Он бросил в горн свежий уголь. Он будет работать сегодня. Он выкует себе хороший дорожный топор. И, может быть, меч. А потом, когда ночь снова укроет деревню, он уйдет. Тихо. Без прощаний.
Впервые за много дней он почувствовал, что может дышать. Воздух в кузнице больше не казался спертым. Он пах свободой.
Глава 19: Тихий гул наковальни
Ночь почти не принесла сна. Ратибор проваливался в короткие, тревожные сны, где переплетались крики печенегов, глаза Зоряны, полные ненависти, и безмолвные слезы Лады. Но под утро, задолго до того, как первый петух прокричал о рассвете, он поднялся. В его душе больше не было смятения. Была лишь холодная, тяжелая, как чугунный слиток, решимость.
Он вошел в свою кузницу, когда мир еще был окутан серым, предрассветным туманом. Это было его царство, его святилище. И сегодня он пришел в него не как ремесленник, а как жрец, готовящийся к тайному обряду.
Он не стал раздувать огонь сильно. Ему не нужен был яростный жар для ковки плуга. Ему нужно было ровное, глубокое, концентрированное тепло, способное проникнуть в самую душу металла. Звук мехов был тихим, похожим на дыхание спящего гиганта.
Сегодня он работал не на заказ. Он работал на себя.
Из потайного места под наковальней, где он хранил свои сокровища, он извлек его. Кусок болотного железа, который он нашел много лет назад, еще мальчишкой. Он был не таким, как обычная руда. Плотный, тяжелый, почти без примесей. Он чувствовал, что в этом невзрачном на вид камне живет душа настоящего оружия. Он берег его, ждал своего часа.
Он бросил его в горн.
И когда металл начал раскаляться, наливаясь сначала багровым, а потом ослепительно-желтым светом, Ратибор взялся за молот. Но звук, который родился под сводами кузницы сегодня, был иным.
Это не был громогласный, яростный БУМ, от которого дрожали стены. Это был тихий, частый, почти музыкальный перестук. Тук-тук-тук-тук. Легкие, но невероятно точные и сильные удары. Он не просто плющил металл. Он очищал его. Сваривал, складывал пополам и проковывал снова и снова. Этот процесс, называемый рафинированием, требовал не столько силы, сколько чутья и терпения. С каждым ударом, с каждым складыванием из металла выходили шлаки, он становился чище, однороднее, прочнее.
Это был долгий, медитативный процесс. Его лицо, освещенное пляшущими отсветами горна, было абсолютно сосредоточенным, отрешенным от всего мира. Он был не здесь. Он был там, в сердце раскаленной стали. Он вкладывал в эту заготовку всё. Свою тоску по другой, настоящей жизни. Свою злость на тесные рамки деревенского быта. Свою надежду на свободу. Этот кусок металла становился воплощением его бунта, его побега.
В какой-то момент скрипнула дверь, и тихий ритуал был нарушен. На пороге, переминаясь с ноги на ногу, стоял Прохор, их сосед. Мужик немолодой, тихий, вечно озабоченный своим скудным хозяйством. В руках он держал сломанную мотыгу. Он выглядел неловко, чувствуя, что пришел не вовремя. Вся деревня уже гудела, как растревоженный улей, обсуждая события прошлой ночи. И прийти с мелкой бытовой нуждой к главному герою этих слухов было… неудобно.
– Ратибор… здрав будь, – промямлил Прохор, не решаясь войти. – Я это… не хотел беспокоить… Знаю, у тебя… свои заботы. Да вот, беда… мотыга… в самый сенокос…
Прохор попытался было завести разговор о погоде, о вчерашнем, как-то сгладить неловкость, но Ратибор прервал его, не дав даже закончить фразу.
– Что сломалось? – спросил он, и его голос был глухим, лишенным всяких эмоций. Он даже не повернулся, продолжая смотреть, как разогревается в горне его сокровище.
– Да вот, черенок рассохся, лезвие и выпало, – виновато ответил Прохор.
Ратибор молча отошел от горна. Взял из рук соседа мотыгу. Осмотрел её. Работа была пустяковой, на несколько минут.
– Подожди, – бросил он и принялся за дело.
Прохор стоял и смотрел, как работают руки кузнеца. В них не было лишних движений. Четко, быстро, почти механически. Он вынул остатки старого черенка, подогнал лезвие, закрепил его новым, прочным железным клином, который он выковал, казалось, из воздуха, за несколько ударов. Он работал молча. Его тело было здесь, в кузнице, починяя эту несчастную мотыгу. Но его мысли, его душа – были далеко.
– Вот. Держи, – он протянул починенный инструмент соседу. – Крепче новой будет. Не выпадет.
Прохор с благодарностью взял мотыгу и полез было за пазуху за монетой.
– Ратибор, я тебе…
– Потом, – оборвал его Ратибор, уже поворачиваясь обратно к горну. – Потом занесешь.
Прохор понял, что разговор окончен. Пробормотав еще раз спасибо, он попятился к выходу и исчез.
Ратибор смотрел на пустой дверной проем, сквозь который пробивался серый утренний свет. Он смотрел на спину уходящего Прохора.
«Они приходят и уходят, – подумал он, и в этой мысли была вся горечь его существования. – Мотыги, плуги, скобы, серпы… Вся моя жизнь здесь – это починка их мелких, бесконечных поломок. Я латаю их мир, чтобы он не развалился. А кто починит мой? Я выковываю им инструменты, чтобы они еще глубже вросли в эту землю, в эту рутину, в этот бесконечный круг. А сам хочу вырвать себя из нее с корнем».
Он снова повернулся к горну. Его заготовка уже пылала белым, яростным светом. Он взял её клещами. Положил на наковальню.
Он вернулся к своему тайному делу. Работа над этим оружием была не починкой. Она была сотворением. Он создавал не вещь. Он создавал ключ. Ключ, который должен был отпереть его клетку. И пусть даже этот ключ был выкован в форме смертоносного боевого топора. Сейчас для него это был единственный путь на свободу.
Глава 20: Горечь жатвы
Через несколько дней после Купалы жара стала невыносимой, и рожь на полях дозрела, склонив тяжелые, налитые золотом колосья. Староста Демьян объявил начало общей жатвы. В такой момент личные обиды и деревенские склоки отступали на второй план перед лицом вековой необходимости. Хлеб – это жизнь. И убирать его нужно было всем миром, быстро, пока не налетели дожди.
Ратибор не мог отказаться. Это был неписаный закон, кровный долг перед общиной. Уклониться от общей работы означало стать изгоем, отрезанным ломтем. А он, несмотря на свое внутреннее решение, еще был частью этого мира. С тяжелым сердцем он взял в руки косу, отбитую и наточенную им же до остроты бритвы, и вышел в поле вместе со всеми.
Мужики выстроились в одну длинную цепь, и по команде старосты работа началась.
Вж-ж-жих… вж-ж-жих…
Десятки кос в одном, мерном ритме ложились в рожь. Этот звук был похож на глубокий, усталый вздох самой земли. Позади мужчин шли женщины, которые собирали срезанные колосья в снопы и связывали их.
Ратибор работал молча, полностью отдаваясь ритму. Он шел вторым в цепи, сразу за самым опытным косцом. Его движения были мощными, широкими и в то же время удивительно легкими. Коса в его руках, казалось, пела. Он не рубил, а срезал рожь, и за ним оставалась идеально ровная, гладкая стерня. Его огромная сила, помноженная на привычку к тяжелому труду, делала его лучшим работником.
Другие мужики, пыхтя и обливаясь потом, с завистью и уважением косились на него. Он не уставал. Он был машиной. Совершенным инструментом для этой работы. Он был частью этого слаженного механизма, этого коллективного тела, единым порывом склонившегося над землей под безжалостно палящим солнцем. Он был среди них. Плечом к плечу.
Но он не был с ними.
Он чувствовал это каждой клеточкой своей кожи. Он чувствовал это по тому, как замолкали разговоры, когда он подходил. Он чувствовал это по взглядам. Особенно по одному взгляду.
На соседней полосе, возглавляя другую цепь косцов, работал староста Демьян. Он был уже немолод, и работа давалась ему тяжело. Но он упорно не отставал, показывая пример. И всё утро Ратибор чувствовал на своей спине его взгляд. Тяжелый, полный немой, удушающей ненависти. Взгляд человека, чью дочь, чью гордость, чью честь он растоптал. Демьян не говорил с ним ни слова, но его молчание кричало громче любого проклятия.
В полдень, когда солнце начало жечь немилосердно, объявили перерыв. Косцы с облегчением побросали косы и сгрудились в тени одинокого дуба на краю поля. Женщины принесли им квас, хлеб, вареные яйца.
Ратибор сел чуть поодаль, прислонившись к стволу. Он не хотел быть в центре, не хотел слушать их разговоры. Но от них было не скрыться.
Демьян, выпив залпом кружку кваса, нарочито громко, чтобы слышали все и, в первую очередь, Ратибор, обратился к сидящему рядом мужику.
– Да-а, – протянул он, вытирая усы. – Гляжу я на молодежь… Силы-то в них, может, и много. Больше, чем в нас было. А вот чести… Чести-то – ни на грош.
Мужики, услышав это, неловко замолчали. Все поняли, в чей огород брошен камень.
– Нынче мужчинами себя кличут те, кто способен лишь девок позорить да от настоящих дел по темным углам прятаться, – продолжал Демьян, его голос был полон яда. – Вместо того чтобы семью создавать, род продолжать, они, как жеребцы бездомные, по деревне носятся, по чужим лугам скачут, а потом – в кусты. Не мужики, а срам один.
Ратибор сидел, уставившись в одну точку. Он делал вид, что не слышит. Но каждое слово впивалось в него, как заноза. Его скулы окаменели, а пальцы сжались в кулаки так, что побелели костяшки. Унижение было публичным. Он не мог ответить – Демьян был старостой, стариком, отцом опозоренной девушки. Любой ответ был бы нарушением всех правил. Он мог только молчать и терпеть.
А напротив него, словно в насмешку, сидел отец Лады, щуплый, робкий мужичок. Он, поймав взгляд Ратибора, испуганно-благодарно кивнул ему. Он помнил про починенный серп. Он видел в Ратиборе не обидчика, а почти благодетеля.
И этот контраст был невыносим. С одной стороны – испепепеляющая ненависть. С другой – заискивающая, унизительная благодарность. Одни его ненавидели, другие боялись, третьи жалели. Но никто. Никто не видел в нем просто человека. Он был отщепенцем. Чужим. Даже здесь, в общем поле, выполняя общий долг, он был один.
Он поднял глаза и посмотрел на бесконечное, колышущееся под ветром море ржи.
«Они срезают колосья, чтобы испечь хлеб и пережить эту зиму, – пронеслось в его голове. – Чтобы следующей весной снова бросить зерно в землю. И снова ждать. И снова жать. И так – год за годом. Круг. Один и тот же, нескончаемый, предсказуемый круг. Они все – его часть».
Он почувствовал, как к горлу подступает тошнота.
«А я… я чувствую, что срезаю не рожь, а свои собственные дни. Каждый взмах моей косы – это еще один шаг к той жизни, от которой я бегу. Каждый срезанный колос – это еще один день, украденный у моей настоящей судьбы. Эта земля кормит их. Дает им жизнь. А меня она душит. Закапывает живьем».
– Перерыв окончен! – прокричал староста, с вызовом глядя в сторону Ратибора. – За работу!
Ратибор медленно поднялся. Он взял свою косу. Руки его были тверды. Но внутри все дрожало от сдерживаемой ярости и глухого отчаяния. Он вернулся в строй. Снова стал частью этого слаженного механизма.
Вж-ж-жих… вж-ж-жих…
Косы снова запели свою монотонную песню. Но теперь для Ратибора это была не песня жизни. Это была погребальная песнь по его собственной свободе. И он знал, что должен вырваться. Как можно скорее. Иначе эта земля, такая плодородная и щедрая, станет его могилой.
Глава 21: Взгляд из чащи
После унизительного дня в поле Ратибор не мог оставаться в деревне. Стены избы, тихие укоры в глазах матери, даже привычный гул пустой кузницы – всё давило, душило. Ему нужен был воздух. Ему нужен был лес.
На рассвете, когда деревня еще спала, он взял свой большой тисовый лук, колчан со стрелами, которые сам же и делал, длинный охотничий нож и ушел. Лес встретил его влажной, прохладной тишиной. Здесь, под сенью вековых сосен и елей, он наконец смог дышать полной грудью. Лес был его второй кузницей. Местом силы, где всё было по-настоящему. Здесь не было лжи, интриг, осуждающих взглядов. Здесь были только простые и вечные законы: выживает сильнейший, умнейший, терпеливейший. Здесь он был дома.
Он двигался по лесу бесшумно, как тень, ступая по мягкому мху и прошлогодней хвое. Каждый звук, каждый запах был для него понятным языком. Треск ветки под лапой рыси. Острый, мускусный запах лисьей норы. Шелест крыльев вспорхнувшего рябчика. Он читал эти знаки, как волхв читает свои руны.
Вскоре он нашел то, что искал. Свежие следы. Глубоко вдавленные в сырую землю отпечатки раздвоенных копыт и характерные борозды от клыков. Крупный вепрь-секач. Одиночка. Старый, хитрый и невероятно опасный зверь.
И Ратибор пошел по следу.
Охота началась.
И это был почти чувственный, эротический акт. Всё его существо сконцентрировалось на одной цели. Он перестал быть человеком, отягощенным мыслями и сомнениями. Он стал хищником. Его слух обострился, ловя малейший шорох. Его зрение отмечало каждую сломанную веточку, каждый примятый листок. Он втягивал носом влажный воздух, пытаясь уловить густой, тяжелый запах зверя.
Он слился с лесом. Стал его частью. Он чувствовал, как под кожей просыпаются древние, забытые инстинкты. Это было чистое, первобытное состояние. Полное погружение в "сейчас".
Несколько часов он шел по следу, и напряжение в нем нарастало. Это была не тревога. Это было предвкушение. Возбуждение, куда более сильное и чистое, чем то, что будили в нём женщины. Женское желание было мутным, полным уловок, требований, ожиданий. А это было просто. Честно. Жизнь против жизни.
Он настиг его в густом овраге, где вепрь рыл землю в поисках корней. Огромный, темный, покрытый свалявшейся щетиной, с желтыми, как старая кость, клыками, торчащими из пасти. Услышав хруст ветки, зверь резко вскинул голову и уставился на Ратибора маленькими, злыми, налитыми кровью глазками.
Мгновение они смотрели друг на друга. Охотник и добыча. Два самца, два хозяина этого леса.
Ратибор медленно, без резких движений, поднял лук. Положил стрелу на тетиву. Его дыхание стало ровным и глубоким. Сердце перестало бешено колотиться, его удары стали медленными, тяжелыми, как удары молота.
Он начал натягивать тетиву. Мощные мышцы на его спине и плечах напряглись. Лук изгибался, сопротивлялся, стонал. Это было как объятие. Он обнимал силу дерева, вбирал её в себя, чтобы через мгновение выпустить наружу. Наконечник стрелы, острый, трехгранный, выкованный им же, смотрел точно в цель – в убойное место под лопаткой зверя.
Вдох.
Он задержал дыхание. Мир замер. Остались только он, натянутая до предела тетива и злой, красный глаз зверя.
Выдох.
И вместе с выдохом он отпустил.
Т-сс-с-у-ухх…
Сухой, змеиный шелест стрелы, разрезающей воздух.
И глухой, влажный звук удара.
Вепрь взревел. Это был не рёв боли, а рёв ярости. Стрела вошла глубоко, но не убила его наповал. Он мотнул головой и, взрывая копытами землю, бросился на своего врага. На своего любовника в этой смертельной игре.
Ратибор отбросил лук и выхватил нож. Он не отступил. Он ждал.
В последний момент, когда огромная, несущаяся на него туша была уже в шаге, он отскочил в сторону, как танцор, пропуская её мимо себя. И в тот же миг, развернувшись, он нанес удар. Он всадил свой длинный охотничий нож зверю под ребра, снизу вверх, целясь прямо в сердце.
Он почувствовал, как горячая, густая кровь хлынула ему на руку.
Вепрь пробежал еще несколько шагов по инерции, потом споткнулся, закружился на месте и с грохотом рухнул на бок. Несколько мгновений он еще судорожно дрыгал ногами, а потом его предсмертный хрип затих в лесной тишине.
Всё.
Ратибор стоял над поверженным зверем, тяжело дыша. Его грудь вздымалась. Он был весь в грязи, в листьях, его рука по локоть была в чужой крови. И он чувствовал не жалость. А первобытный, чистый восторг. Восторг победы. Он забрал жизнь, чтобы утвердить свою собственную. Эта страсть, эта близость к смерти была созидательной. Она очищала его, смывала с него всю деревенскую грязь, все унижения.
Он взвалил тяжелую тушу на плечи и пошел обратно.
Солнце уже стояло высоко, когда он вышел на большую поляну, где обычно собирали ягоды. И увидел их. Несколько девушек, в том числе и Лада, с туесками в руках. Увидев его, они замерли.
Он остановился. Огромный, дикий, с окровавленной тушей кабана на плечах. Его волосы были спутаны, лицо – измазано кровью и грязью, в глазах еще горел хищный огонь охотника. Он пах лесом, потом и смертью. Он был не человеком из их деревни. Он был существом из другого мира. Духом леса. Лешим.
Их взгляды встретились. Его – тяжелый, спокойный, ничего не выражающий взгляд хищника. И её – огромные, испуганные глаза лани.
На мгновение она замерла, её лицо стало белым как полотно. В её глазах он увидел всё – и прежнее, детское обожание, и новый, животный страх. Она видела не удачливого охотника. Она видела дикое, первобытное существо, которому не место рядом с ней.
Она не выдержала его взгляда. Тоненько вскрикнув, она выронила свой туесок, из которого по траве рассыпались красные ягоды. И, подхватив юбки, бросилась бежать в чащу, прочь от него, словно спасаясь от зверя.
Ратибор смотрел ей вслед. Другие девушки, испуганно перешептываясь, тоже поспешили скрыться. Он остался один посреди поляны, рядом с рассыпанными ягодами.
И в груди у него было ледяное, абсолютное спокойствие.
«Вот кто я для них на самом деле, – подумал он. – Не кузнец, не пахарь. Зверь. И они боятся меня. И правильно делают. Потому что зверю не место в человеческом стойле».
Он поправил тушу на плечах, ощущая её мертвый, тяжелый вес, и, не взглянув больше на рассыпанные ягоды, пошел дальше, в деревню. Нести им свою добычу. И свое проклятие.
Глава 22: Чужой на пиру
Когда Ратибор, весь в крови и грязи, ввалился в деревню с огромной тушей вепря на плечах, его встретило ошеломленное молчание. Люди, видевшие это, застывали на месте. Это был не просто удачливый охотник, вернувшийся с добычей. Это было зрелище из древних преданий – первобытный герой, победивший лесное чудовище.
Новость разлетелась мгновенно. Вепрь-секач, в одиночку! Такого старики не помнили. Такой зверь мог завалить и двух, и трех охотников. А этот… этот принес его на плечах, будто мешок с мукой.
Вечером деревня гудела. Повод для общего праздника был слишком хорош, чтобы его упустить. Огромный костер зажгли прямо на площади, и тушу вепря, разделанную и выпотрошенную, водрузили на вертел. Жир шипел и капал в огонь, распространяя по всей округе головокружительный, дразнящий запах жареного мяса.
Женщины вынесли столы, накрыли их тем, что было в домах. Мужики выкатили бочонок с пивом, оставшийся с недавнего праздника. Атмосфера была почти праздничной, она на время смыла и горечь Купальской ночи, и тревожное ожидание, висевшее в воздухе.
Ратибор был в центре этого праздника. Герой дня.
Он смыл с себя кровь и грязь, надел чистую рубаху, но ему казалось, что запах леса и сырого мяса въелся в его кожу навсегда. Его усадили на самое почетное место, рядом со старостой. Ему наливали лучшую брагу, ему подкладывали самые сочные, дымящиеся куски мяса. Ему жали руку, хлопали по плечу.
– Ну, Ратибор! Ну, богатырь!
– Такого зверя завалить! Это ж сила какая нужна!
– Да не только сила, тут умение! И храбрость!
Он принимал похвалы молча, лишь изредка кивая. Он ел мясо, которое сам добыл. Он пил пиво, которое подносили ему с уважением. Он сидел среди них, в центре всеобщего внимания. И никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким.
Даже староста Демьян, его заклятый враг, был вынужден отдать ему должное. Добыча была общей, она накормила всю деревню, и проигнорировать это староста не мог.
– Благодарим тебя, Ратибор, – процедил он сквозь зубы, поднимая свою кружку. – Накормил общину. Доброе дело сделал.
Это была не похвала, а констатация факта. Но и за это Демьяну пришлось переступить через свою гордость.
Ратибор лишь кивнул в ответ. Он видел, как в стороне, в тени дома, стоит Зоряна и смотрит на него. В её взгляде больше не было ненависти. Было что-то другое, сложное: восхищение, смешанное с горькой обидой. Обидой на то, что этот герой мог бы быть её.
Когда пир был в самом разгаре, к нему на лавку подсел Еремей, отец Милавы. Старый бортник был трезв, и глаза его, как всегда, смотрели хитро и проницательно.
– Хороший кабан, – сказал он, отрезая себе кусок мяса. – Крепкий. Старый, видать. С таким справиться – дорогого стоит. С таким охотником, да хозяином, никакая зима не страшна. Хозяйству такой мужик – опора.
Ратибор продолжал молча есть. Он знал, что это не просто разговор.
Еремей хитро прищурился, пожевал мясо.
– Моя Милава намедни говорила… – как бы невзначай начал он. – Говорила мне, мол, Ратибор – он не просто сильный, как другие думают. Он, говорит, надежный. Как старый дуб – и в грозу укроет, и дом из него крепкий построить можно. Глубоко смотрит девка-то. Понимает суть.
Ратибор молча кивнул, отпивая пиво. Он понимал всё. Старый лис не сдавался. Он делал последний, самый тонкий ход. Он не сватался в открытую. Он показывал "товар" с лучшей стороны – через ум и проницательность своей дочери. Он пытался взять его не страстью, а логикой, обещанием надежного будущего.
– У вас, бортников, всегда дел много, – сказал Ратибор, намеренно переводя разговор. – Пчелы, поди, роятся уже? Погода жаркая.
Еремей понял намек. Он не стал настаивать. Он был умным игроком и видел, что эта партия проиграна.
– Роятся, – вздохнул он. – Дел всегда хватает. Были бы руки работящие да голова светлая рядом.
Он доел свой кусок, крякнул и, пожелав доброго вечера, отошел, оставив Ратибора одного с его мыслями.
Он сидел среди них. Он был сыт, пьян, увенчан славой героя-охотника. Но он чувствовал себя так, словно смотрит на всё со стороны, через толстое, мутное стекло. Он видел их лица, слышал их смех, но не мог разделить их радости.
«Они хвалят меня, потому что я принес им еду, – думал он, глядя на пляшущий огонь. – Потому что я выполнил свою функцию. Завтра у кого-то сломается телега, и они снова придут ко мне. И снова будут хвалить. Они видят во мне пользу. Как в хорошем топоре или в дойной корове. Я для них – полезная вещь. Надежный инструмент».
Он посмотрел на свои руки. Сильные, мозолистые. Руки, которые могли созидать и убивать.
«И этот пир – не в мою честь. Это пир в честь хорошего инструмента, который еще послужит общине. В честь вола, который хорошо пашет и способен защитить стадо. Но никто из них не спросил, чего хочет сам вол. Может, он не хочет пахать. Может, он хочет быть диким туром и носиться по лесу на свободе».
Он почувствовал, как к горлу подкатывает горечь, еще более сильная, чем горечь пива.
«А я больше не хочу быть инструментом. Ни для них. Ни для их дочерей. Ни для кого».
Он поднялся. Пир был ему не в радость. Шум стал невыносим.
– Устал я, – бросил он сидевшему рядом Прохору. – Пойду.
И, не прощаясь больше ни с кем, он ушел с площади, оставив за спиной костер, смех и запах жареного мяса. Ушел в темноту, в тишину. К себе. В свое спасительное, глухое одиночество.
Глава 23: Разговор вполголоса
Пир отгремел. Деревня, сытая и пьяная, погрузилась в тяжелый, беспокойный сон. Лишь собаки лениво перелаивались во дворах, да тусклый месяц одиноко висел в беззвездном небе.
Но Ратибору было не до сна. Чужое веселье лишь обострило его внутреннюю боль, сделало его решение еще более твердым. Он не пошел в избу. Как всегда, когда ему было особенно тяжело, он пошел в свое единственное убежище. В кузницу.
Внутри пахло остывшим металлом и углем. Он не стал зажигать лучину, ему хватало света из горна, который он начал потихоньку раздувать. Ему нужно было работать. Ему нужно было говорить со своим единственным настоящим другом – с металлом.
Он достал из тайника свою заготовку. Будущий боевой топор. За последние дни она уже начала обретать форму – хищную, смертоносную.
Он сунул её в разгорающийся огонь, и звук мехов, ровный и глубокий, наполнил ночную тишину, как дыхание шамана.
Он был так поглощен своей работой, своим ритуалом, что не услышал тихих шагов.
– Топор куешь?
Голос отца, Борислава, раздался из темноты, и Ратибор вздрогнул от неожиданности. Старик стоял на пороге, его кряжистая фигура черным силуэтом вырисовывалась на фоне бледного ночного неба.
Ратибор не ответил. Он вынул из горна раскаленную добела заготовку, положил на наковальню, и по кузне разнесся тихий, мелодичный перестук. Он пытался уйти от разговора в свою работу.
Борислав медленно вошел, прикрыл за собой дверь и присел на старую колоду в углу, где не мешал свет. Он молча смотрел, как сын работает.
– Добротный получается, – снова сказал он, и голос его был спокойным, почти безразличным. – Только узор на нем не для дров. И лезвие не для того, чтобы ветки рубить. – Он сделал паузу, а потом спросил прямо, без обиняков. – Боевой топор, сын. Скажи мне, с кем ты здесь собрался воевать?
Ратибор продолжал наносить удары, но они стали короче, злее.
– Не молчи, – голос отца стал тверже. – Я не слепой. И не глухой. Я вижу, как ты маешься. Вижу, как на пиру на тебя смотрели, как на героя, а ты – как волк затравленный. Вижу, как смотришь ты на всех, будто ты уже не здесь. Будто тело твое еще ходит по этой земле, а душа уже улетела далеко-далеко. – Он снова помолчал, давая словам впитаться. – Ты уйти хочешь.
Последние слова упали в тишину. Ратибор прекратил стучать. Он опустил молот. Положил клещи. Он медленно повернулся к отцу. Его лицо, освещенное снизу отсветами горна, казалось лицом статуи – с резкими тенями и застывшей болью в глазах.
– Да, – просто сказал он. И в этом одном слове была вся его правда.
Отец ожидал этого ответа. Но все равно вздрогнул, будто его коснулись холодным железом.
– Куда? – спросил он тихо. – Зачем? От девок бежишь? От позора Зорянки, от слёз Лады? Думаешь, убежишь, и всё само забудется?
– Не от них, отче. От себя, – Ратибор шагнул в тень, подальше от огня, и прислонился к стене. Он чувствовал смертельную усталость. – От того, кем я здесь стану. От того, кем вы все хотите меня видеть. Я… я задыхаюсь.
Он говорил, и это было похоже на исповедь. Впервые в жизни он пытался облечь в слова то, что мучило его, что скреблось у него на душе.
– Понимаешь, вы все видите во мне силу. И каждый хочет эту силу использовать. Девушки – чтобы получить сильного мужа и красивых детей. Мужики – чтобы я ковал им плуги и добывал кабанов. Ты – чтобы я продолжил наш род. Вы все правы. По-своему. Но никто из вас не спросил, чего хочу я сам. А я… я не хочу быть просто быком-производителем. Не хочу быть просто полезным инструментом. Это… клетка, отче. Сытая, теплая, правильная, но клетка. И стены её с каждым днем сжимаются всё сильнее.
Он умолк. Борислав сидел, опустив голову, и слушал. Он слушал не только слова сына. Он слушал его боль.
– Моя сила, – продолжил Ратибор глухо. – Она здесь, как река, запруженная плотиной. Она бродит, гниет, ищет выхода. Я выплескиваю её на железо, на зверей в лесу. А она должна… она должна делать что-то настоящее! Понимаешь? А не латать дыры в этом вашем тихом, сонном болоте.
Он закончил. Он сказал всё. Или почти всё. И теперь ждал. Ждал отцовского гнева, упреков, приказа.
Но Борислав долго молчал. В кузне было слышно лишь, как потрескивают угли в остывающем горне.
– Я знал, что так будет, – сказал он наконец, не поднимая головы. Голос его был хриплым и уставшим. – Знал, еще когда ты мальчишкой был. Ты всегда был другим. Не таким, как все. Смотрел не под ноги, а за горизонт. Спрашивал не "как", а "зачем". Таким… не место на этой земле. Наша земля любит тех, кто смотрит в неё, а не на облака.
Он медленно поднял голову и посмотрел на сына. И в его старых, выцветших глазах не было гнева. Лишь глубокое, всепрощающее понимание и бесконечная отцовская печаль.
– Я не буду тебя держать. У отца нет права ломать сыну крылья. Даже если от этого у него самого разорвется сердце.
Он встал и подошел к Ратибору. Положил свои тяжелые, мозолистые руки ему на плечи.
– Но знай, – сказал он, глядя ему прямо в глаза. – Мир за околицей жесток и холоден. Он не похож на наш лес. Там волчьи законы. И если там тебя сломают, если чужое железо окажется крепче твоего… Знай, что здесь, в этой деревне, есть дом, где старый отец всегда будет тебя ждать. Даже если ты вернешься без рук и без ног. Даже если от тебя останется лишь тень. Понял?
Слёзы навернулись на глаза Ратибора – впервые за много лет.
Он ничего не ответил. Он просто шагнул вперед и обнял отца.
Они стояли так, посреди темной, остывающей кузницы. Два сильных, молчаливых мужчины. Огромный молодой медведь и старый, но все еще могучий. Их объятие было неуклюжим, крепким, почти болезненным.
Это было их прощание. И молчаливое благословение. Борислав отпускал сына. Он отпускал своё будущее, свою надежду, свою последнюю радость. Отпускал в неизвестность, навстречу ветру. Потому что такова была воля богов. И воля его сына.
Глава 24: Прощание взглядом
Следующий день был ясным и спокойным. Солнце светило мягко, уже по-осеннему, теряя свою летнюю ярость. После ночного разговора с отцом Ратибору стало легче. Неопределенность исчезла. Его путь был ясен, и он получил на него благословение. Это придавало сил.
Утром ему понадобилась свежая глина для обмазки горна. Лучшая глина была у реки, в небольшом овражке. Взяв ведро, он пошел знакомой тропинкой.
Река в этом месте делала крутой изгиб, образуя тихую заводь, где женщины обычно полоскали белье. И он увидел её издалека. Милаву.
Она стояла на коленях на деревянных мостках, окуная в холодную, прозрачную воду тяжелую мокрую простыню. Она была одна. На ней был простой рабочий сарафан, её темные, цвета лесного ореха волосы были туго стянуты на затылке. Она была полностью поглощена своей работой, её движения были ритмичными, сильными, хозяйскими.
Ратибор на мгновение замешкался, думая, не повернуть ли обратно. После их последнего разговора у кузницы ему не хотелось новых встреч. Но глина была нужна, и он решил не прятаться. Он молча подошел к овражку, стоявшему в нескольких шагах от мостков, и начал накладывать в ведро жирную, синеватую глину.
Она заметила его. Она не вскрикнула, не обернулась резко. Она просто закончила выжимать простыню, аккуратно сложила её в корзину и лишь потом медленно поднялась и повернулась к нему. В этом простом движении было столько спокойного достоинства.
Она смотрела на него своим привычным, умным, проницательным взглядом, в котором никогда нельзя было прочитать её истинных мыслей. Он молча кивнул ей, приветствуя, и продолжил свою работу.
– Батюшка сказал, что ты вчера на пиру был молчаливее камня, – сказала она, и её голос был ровным и спокойным, без всякого упрёка. – Хотя, казалось бы, тебе радоваться надо было. Герой дня.
Ратибор выпрямился, отряхивая с рук глину. Он посмотрел на нее. На фоне сияющей реки и ясного неба она казалась очень чёткой, реальной. Воплощением той самой земной, понятной жизни, от которой он бежал.
– Работа тревожит, Милава. Всегда, – ушел он от ответа, используя привычную для него отговорку.
Она чуть склонила голову набок, и в её зелено-карих глазах мелькнула лукавая искорка. Она не купилась на его уловку.
– Работа? Или её отсутствие? – спросила она прямо, глядя ему в глаза. – Иногда, знаешь ли, самый крепкий клинок, выкованный лучшим мастером, начинает ржаветь, если просто лежит без дела в ножнах. Ему нужна кровь врага, или хотя бы сок срубленного дерева. Иначе, со временем, он превращается в просто кусок бесполезного железа. Красивый, но бесполезный.
Он замер, сжимая в руке деревянную лопатку. Это было не просто замечание. Это был вызов. И невероятно точная метафора, бьющая точно в цель. Она всё поняла. И про его беспокойство, и про его силу, которой нет применения. Она читала его, как открытую книгу.
Он встретил её взгляд. Впервые он говорил с ней не как с назойливой девкой, а как с равным по уму противником.
– Иногда клинок должен просто ждать своего часа, Милава, – ответил он так же метафорично. – Ждать настоящей битвы. И лучше ему покрыться легкой ржавчиной в ожидании, чем затупиться, рубая гнилую солому.
Они замолчали.
И в этой тишине, нарушаемой лишь плеском воды и криком чайки, было всё. Больше не нужны были ни слова, ни объяснения. Она – умная, прагматичная – поняла его окончательно. Она увидела в его глазах, что он уже не здесь. Что его "настоящая битва" не в этой деревне. Она поняла, что проиграла. Проиграла не другой женщине. А его мечте. Его судьбе. Чему-то, с чем она, со всем своим умом и отцовским приданым, не могла соперничать.
В её глазах не было ни слёз, ни обиды. Лишь тень глубокой, взрослой печали. Печали об упущенной возможности. Об уходящем корабле, на который она так и не смогла купить билет. Она приняла его решение. Она была слишком горда, чтобы умолять или скандалить.
Она коротко, почти по-мужски, кивнула, словно соглашаясь с его доводами.
– Что ж… – сказала она тихо. – Удачи тебе в твоей работе, кузнец. Надеюсь, твоя битва будет стоить того, чтобы её ждать.
Это было их прощание. Спокойное, достойное. Без слёз, обвинений и разбитых сердец. Прощание двух сильных людей, которые могли бы стать идеальной парой в другом мире, но в этом их пути расходились.
Она подхватила свою тяжелую корзину с бельем и, не оглядываясь, пошла по тропинке в деревню.
Ратибор долго смотрел ей вслед. На её прямую спину, на её уверенную, хозяйскую походку. Он чувствовал к ней огромное, внезапное уважение. И ещё – укол сожаления. Он только что отказался от умной, сильной женщины, которая, возможно, единственная во всей деревне была способна его понять. Но он знал, что поступил правильно. Его путь лежал в другую сторону.
Он снова наклонился к своему ведру и с какой-то яростью начал набивать его глиной. Работа. Вот что у него осталось. Всегда.
Глава 25: Клинок готов
Эта ночь была последней. Ратибор чувствовал это всем своим существом. Он не знал, когда и как уйдет, но знал, что до следующего рассвета его оружие должно быть готово. Это была не просто работа. Это был его прощальный обряд, его посвящение в новую жизнь.
Кузница была погружена в полумрак. Лишь горн дышал яростным, белым жаром, бросая на стены и на обнаженный по пояс торс Ратибора дикие, пляшущие тени. Он был один. Вся деревня спала, и лишь он один бодрствовал, совершая свое таинство.
На наковальне лежала заготовка, уже обретшая форму. Это был будущий топор – с широким, чуть изогнутым лезвием, оттянутой вниз "бородой" для зацепа и массивным обухом. Все предыдущие ночи он очищал и проковывал сталь, добиваясь идеальной структуры. Теперь наступал самый ответственный, самый сакральный момент. Закалка.
Он взял заготовку длинными клещами. Металл светился почти нестерпимо, он казался живым, жидким, как сгусток солнечного света. В нем была вся сила огня, вся его разрушительная и созидательная мощь. Металл в этот момент был как душа – мягкий, податливый, готовый принять любую форму, но также и уязвимый.
Ратибор замер над кадкой, стоявшей в углу. Но в ней была не вода. Для своего лучшего творения он приготовил специальный состав – густое, темное масло, смешанное с отваром волчьих ягод и другими травами, секрет которых передавался в их роду от отца к сыну. Такой состав давал стали особую твердость и упругость.
Он занес раскаленный топор над кадкой. И на одно долгое мгновение посмотрел то на огонь, то на темную, холодную жидкость. Огонь и холод. Жизнь и смерть. Рождение и забвение.
«Вот она, – подумал он, и эта мысль была острой и ясной, как лезвие. – Вот она, настоящая закалка. Не прыжки через костер на потеху толпе. Не бабьи слезы, которые делают душу слабой и рыхлой. А вот это. Когда раскаленная добела суть встречается с ледяной пустотой. Жизнь и смерть в одном мгновении. Так закаляют сталь. Так должны закалять и мужчину».
Он сделал глубокий вдох. И резко, одним выверенным движением, опустил пылающее лезвие в масло.
П-ш-ш-ш-Ш-Ш-Ш-И-И-И…
Раздался оглушительный, пронзительный визг. Клубы черного, едкого дыма взметнулись к потолку, заполнив всю кузницу. В этом звуке было всё: агония металла, сопротивление стихий, боль и рождение чего-то нового. Ратибор держал топор в масле, считая удары собственного сердца, пока визг не прекратился.
Он медленно вынул его.
Преображение было разительным. Металл, только что бывший ослепительно-белым, стал иссиня-черным, цвета грозовой тучи. Он казался мертвым, но Ратибор знал, что это не так. Внутри него теперь жила пойманная и укрощенная ярость огня. Душа клинка была рождена.
Оставалась отделка. Он долго отпускал металл на медленном огне, чтобы снять хрупкость. Затем, взяв в руки точильные бруски, начал выводить лезвие. Движение за движением, час за часом. Ш-ширк… ш-ширк… Этот звук был как шепот, как медитация. Он снимал с металла тончайшие слои, пока кромка лезвия не засверкала ослепительной, серебряной нитью на фоне черной стали.
Потом он насадил его на заранее подготовленное топорище из сердцевины молодого ясеня, пропитанное воском. Рукоять идеально легла в руку. Для лучшего хвата он обмотал её узкими полосками сыромятной кожи.
К тому времени, как первые, бледные лучи рассвета начали пробиваться сквозь щели, работа была окончена.
Ратибор взял свое творение в руки.
Это был идеальный инструмент для войны. Он чувствовал его вес, его баланс. Он был не просто куском дерева и металла. Он был живым. Он был продолжением его руки, его воли, его ярости.
Он поднял его перед собой. В зеркально отполированной кромке лезвия, узкой, как лунный серп, он увидел свое отражение. Искаженное, вытянутое. И тот, кто смотрел на него из глубины черной стали, был ему незнаком.
Это был уже не деревенский кузнец с тоской в глазах. Не растерянный парень, отбивающийся от женского внимания. На него смотрел мужчина. С жесткими, холодными глазами. С твердо сжатыми губами. Лицо воина.
Он опустил топор. Он был готов.
Он больше ничего не ждал от этой деревни. Он больше не собирался терпеть. Он сам решал свою судьбу. Он уйдет. Может, этой ночью. Может, следующей. Как только появится удобный случай.
Он был спокоен. Он выковал себе не только оружие. Он выковал себя заново.
Он стоял в своей тихой, предрассветной кузнице, готовый ко всему. Он не знал, что судьба уже сделала свой ход. И что она сама, уже завтра, постучится в его дверь.
Глава 26: Пыльная дорога
Лето перевалило за середину, оставив позади и буйство Купалы, и зной жатвы. Дни стали короче, в воздухе по утрам появилась прохладная, острая нотка приближающейся осени. И вместе с этой прохладой в деревню начали просачиваться тревожные, леденящие душу слухи.
Они приходили по пыльной дороге, вместе с редкими купцами, бредущими со своими обозами с южных ярмарок, или с бродячими скоморохами, знавшими все новости. Сначала это были неясные, обрывочные сведения, больше похожие на байки для растопки страха. Говорили, что на юге, в бескрайних степях, где земля русичей граничила с Диким Полем, стало неспокойно. Что степняки-печенеги, всегда бывшие беспокойными, но предсказуемыми соседями, этой весной осмелели, как волки в голодную зиму. Собираются в большие орды, налетают на приграничные села, угоняют скот, уводят людей в полон.
Поначалу мужики, собиравшиеся по вечерам у колодца, лишь отмахивались от этих разговоров с пренебрежительной усмешкой.
– Брешут купцы, – басил староста Демьян, раскуривая трубку. – Всегда брешут, чтобы страху нагнать да цены на соль набить. Напуганный мужик за мешок соли последнюю корову отдаст.
– Печенеги? – вторил ему мельник. – Да сколько их было, тех набегов. Пограбят пару хуторов, получат от княжеской дружины по шее и ускачут обратно в свою степь зализывать раны. Князь в Киеве не дремлет, его рука длинная, погонит их поганой метлой до самого синего моря.
Но с каждым новым путником слухи становились всё настойчивее, обрастая страшными, кровавыми подробностями. Говорили уже не о мелких набегах, а о настоящей войне. Говорили, что печенеги больше не боятся княжеских гридней. Что у них появился новый, молодой и дерзкий хан, который, в отличие от прежних, сумел объединить разрозненные, вечно враждующие племена в один огромный, кулак. Что они больше не просто грабят, а жгут. Жгут дотла, не оставляя камня на камне, вырезая всё живое.
Деревенское спокойствие начало давать трещину. Тревога, как болотная сырость, проникала в дома. Женщины стали со страхом прислушиваться к ночным звукам, а мужчины, проходя мимо своих сараев, поглядывали на дедовские рогатины и охотничьи топоры.
Ратибор в это время был спокоен. Он выковал свой топор, и теперь это оружие, тщательно завернутое в промасленную тряпицу, лежало в его тайнике, ожидая своего часа. Его решение уйти было твердым. Он просто ждал. Ждал удобного момента, длинной, темной ночи. А днем, чтобы не вызывать подозрений и чем-то занять свои руки, он вернулся к обычной работе в кузнице. Он, почти механически, выполнял накопившиеся заказы, его молот снова стучал в привычном ритме. Но все, кто приходил к нему, замечали перемену. Он стал еще молчаливее, а в его глазах появилось что-то новое – холодная, отрешенная глубина, которая пугала.
Однажды в кузницу, тяжело ступая, вошел охотник Фрол. Он не стал мешкать у порога, а прошел прямо к наковальне и с глухим стуком бросил на нее сломанный наконечник тяжелого охотничьего копья.
– Готовь железо, кузнец, – мрачно сказал он, и в его голосе не было и тени прежней развязной удали. – Чует мое сердце, скоро твои топоры понадобятся не только для дров.
Ратибор поднял на него глаза.
– Что так? – спросил он.
– Вчера в лесу был, на дальнем кордоне, белку бил, – Фрол присел на колоду и вытер потный лоб. – Повстречал там скомороха одного, с гуслями. Бежал с юга, от самого Переяславля. Запуганный, как заяц, говорить сначала боялся. А потом, как выпил водицы, рассказал… Говорит, села по реке Суле, что на самой границе со степью, горят, как купальские костры. Как свечки. Он сам видел. Говорит, дымом от тех пожаров небо заволокло на три дня пути. Говорит, земля стонет.
Фрол замолчал, уставившись в пол. Он, человек, не боявшийся ни волка, ни медведя, был по-настояшему напуган.
Ратибор молчал. Он смотрел на сломанный наконечник копья, лежавший на его наковальне. На этот маленький, беспомощный кусок железа, не выдержавший встречи с реальностью. И он слушал не столько слова Фрола, сколько тот гул, то предчувствие большой беды, которое нарастало с каждым днем.
И он не чувствовал страха.
«Они боятся, – думал он, раздувая огонь в горне. – Их мир, такой прочный и незыблемый, их вечный круг жатвы и сева начал трещать по швам. Их пугают эти слухи, как детей пугают сказками про лешего. А я… я жду их. Я пью их, как жаждущий пьет воду. Для них это – предвестники конца. А для меня – знаки. Начало».
Он взял клещами наконечник и сунул его в огонь.
«Это не просто набег. Это – зов. Ветер перемен, что дует с юга. Зов, который я так долго ждал. Судьба сама дает мне путь, указывает дорогу. Мне больше не нужно будет бежать, как вору, под покровом ночи. Мой уход будет честным и праведным».
Пламя с ревом охватило металл. Ратибор смотрел на него, и в его серых глазах отражался яростный, голодный огонь. Страха не было. Было лишь глухое, тяжелое, почти мучительное нетерпение. Он был готов. И теперь ждал, когда мир вокруг наконец догонит его в этой готовности.
Глава 27: Первые ласточки
Слухи перестали быть просто слухами под конец недели. Они обрели плоть, кровь и запах гари.
Это случилось под вечер, когда солнце уже окрасило небо в цвета раскаленного металла, а от реки потянул сырой, прохладный туман. Собаки во дворах вдруг разом залаяли – не ленивым вечерним брехом, а зло, тревожно, надрывно. Люди высыпали из домов, вглядываясь в сторону тракта.
На околице деревни медленно, словно нехотя, появилась телега. Её тащила изможденная, вся в репьях и струпьях, кляча, которая едва переставляла ноги. В телеге, на грязной соломе, сидела женщина. Она была не стара, но волосы её были спутаны и тронуты сединой, а лицо казалось маской – неподвижной, серой, с огромными, пустыми, выжженными изнутри глазами. Она механически покачивала на руках двоих детей, чумазых, одетых в рванье, которые жались к ней, как испуганные зверьки, и не плакали, а лишь тихо, судорожно всхлипывали.
Рядом с телегой, опираясь на неё, ковылял мужчина. Его рука была обмотана грязной, пропитанной кровью и гноем тряпкой. Борода – всклокочена, на щеке – запекшаяся рана. Но страшнее всего был его взгляд. Дикий, затравленный, полный такого ужаса, какой бывает только у зверя, чудом вырвавшегося из капкана.
Это были первые ласточки. Ласточки Апокалипсиса. Первые беженцы.
Деревенские мужики молча подхватили под уздцы клячу, помогли мужчине дойти до скамьи. Кто-то принес воды, хлеба. Староста Демьян вышел на площадь, и вскоре вокруг этой несчастной семьи собралась вся деревня. Люди стояли плотным, молчаливым кольцом. Все их мелкие дрязги, обиды, слухи о Купальской ночи – всё это мгновенно стало неважным, стерлось перед лицом этой настоящей, живой беды.
Ратибор тоже был там. Он не лез вперед, а стоял в стороне, прислонившись к стене своей кузницы, откуда было все видно и слышно. Он смотрел на этих людей, на их пустые глаза, на их дрожащие руки, и чувствовал, как внутри него что-то сжимается в ледяной, тяжелый ком.
Когда мужчина немного пришел в себя, утолив первую жажду, Демьян спросил его:
– Откуда вы, люди добрые? Что стряслось?
И мужчина начал рассказывать. Говорил он хриплым, срывающимся голосом. И каждое его слово падало в наступившую мертвую тишину, как тяжелый камень в глубокий, темный колодец.
– Из Поречья мы… что на Суле-реке… Была у нас деревня… богатая, большая… – он замолчал, сглотнул, и по его грязной щеке медленно поползла слеза. – Больше нет деревни.
Он поднял на толпу свои безумные глаза.
– Они налетели на рассвете. С криком, со свистом… Как саранча из степи. Их была тьма. Мы… мы даже оружия взять не успели. Они не грабили, нет… Они… они уничтожали.
Его голос сорвался на шепот.
– Дома… дома жгли вместе с теми, кто внутри заперся. Стариков, детей… Скот резали прямо во дворах, просто так, ради забавы… Кровь… крови было по щиколотку… Девчат молодых… – он снова замолчал, и его плечи затряслись от беззвучных рыданий. – …они их хватали… вязали и бросали поперек седел… Сестру мою… Машку… ей семнадцать было… на моих глазах… трое… а потом…
Он не смог договорить. Он просто закрыл лицо здоровой рукой и закачался из стороны в сторону.
– А кто сопротивлялся, – продолжил он глухо, сквозь пальцы, – тому стрела в горло или сабля по шее. Мы… мы с Марьей да детьми в погребе спрятались. Завалили ляду. Сидели там… и слышали… Слышали, как кричат наши соседи, как плачут дети… а потом стало тихо. И запахло паленым. Когда мы вылезли… деревни уже не было. Одни угли да трупы, обгорелые.
Его жена в этот момент, услышав это, начала раскачиваться из стороны в сторону и тихо, беззвучно плакать, глядя в пустоту.
– Мы пошли на север. По лесам, по болотам. Чтобы на большую дорогу не выходить. Потому что на дороге хозяйничают они. Печенеги.
Он замолчал. И вся деревня молчала, парализованная этим простым, бесхитростным, но оттого еще более страшным рассказом. Каждый представлял на месте Поречья свою деревню. На месте тех криков – крики своих детей и жен. Ужас стал осязаемым. Он стоял сейчас посреди их площади.
Ратибор смотрел на эту семью – сломленную, растоптанную, потерявшую всё, кроме жизни. И к своему удивлению, он не чувствовал жалости. Жалость – удел слабых. Он не чувствовал и страха. Страх был бесполезен.
Он чувствовал ярость.
Холодную, чистую, черную, как сталь после закалки. Ярость, которая выжигала из его души все остальное – и тоску, и сомнения, и обиды.
«Вот оно, – думал он, и его пальцы сами собой сжимались в кулаки. – Не абстрактные слухи, не пьяные байки. Вот оно. Настоящее дело. Лицом к лицу».
Ему больше не нужно было оправдывать свой побег желанием свободы. Теперь всё было просто и ясно.
«Это не просто угроза моей деревне. Это – оскорбление. Оскорбление моей земле, моему роду, моим богам. Моё желание уйти перестало быть побегом. Оно становится долгом. Единственным возможным путем».
Он перевел взгляд с беженцев на лица своих односельчан – растерянные, напуганные.
«Они приходят на нашу землю, – стучало у него в висках, в такт его сердцу. – Они жгут наши дома. Они насилуют наших женщин. А я здесь?! Я здесь чиню мотыги и отбиваюсь от бабьих юбок?!»
«Нет, – прорычал он про себя, и это было клятвой. – Хватит».
В этот вечер он не пошел в кузницу. Он пошел домой, достал из тайника свой боевой топор, развернул его и положил на лавку рядом с собой. Он сел и стал ждать. Он больше не собирался никуда бежать. Он ждал зова. И знал, что теперь он прозвучит очень скоро.
Глава 28: Бессонная ночь
Рассказ беженца не просто всколыхнул деревню. Он расколол её привычный мир, как топор раскалывает полено. Уютное, сонное озеро деревенской жизни превратилось в ледяную, черную прорубь, в которую заглянул каждый – и увидел там отражение своей собственной возможной смерти.
Беззаботность, даже та показная, что царила на недавнем пиру, ушла безвозвратно. На смену ей пришел страх. Не тот, что от сказок про лешего, а животный, липкий страх за свою семью, за свой дом, за свою жизнь.
Эта ночь была бессонной.
Во многих домах так и не погасили огонь. Тусклый, желтый свет лучин пробивался сквозь маленькие оконца, словно десятки испуганных глаз, вглядывающихся в темноту. Мужики, которые еще неделю назад смеялись над "купеческими байками", теперь сидели за столами, не раздеваясь. Они молча теребили в руках то, что могли назвать оружием, – рукояти охотничьих ножей, отполированные древки топоров, старые рогатины. Их мысли были тяжелыми. Они прикидывали свои шансы. И понимали, что их почти нет.
Женщины не спали, прислушиваясь к каждому шороху за окном. Лай собаки, уханье совы, скрип старой яблони на ветру – всё теперь казалось предвестием беды, далеким конским топотом, зловещим свистом. Они то и дело подходили к спящим детям, поправляли на них одеяла, смотрели на их безмятежные лица и беззвучно плакали.
Впервые за много-много лет, за целые поколения, деревня почувствовала себя такой, какой она была на самом деле. Не центром вселенной. А крошечной, беззащитной точкой света на краю огромного, темного, враждебного мира. Островом в бушующем океане, чьи волны уже лизали его берега.
Ратибор тоже не спал.
Но его бессонница была иного рода. Это была не тревога, а напряженное, сосредоточенное бодрствование. Он сидел в доме, и его боевой топор лежал на столе перед ним. Он смотрел на него, и в полированной стали отражалось пламя лучины.
Тишина избы давила. Он встал, накинул на плечи теплую свитку и тихо вышел на улицу.
Деревня была ему незнакома. Та же улица, те же дома, но всё другое. Напряженное. Он медленно пошел по ней, как дозорный, обходящий свой пост. Он видел свет в окнах. Слышал приглушенные, тревожные разговоры. Видел силуэты мужчин, стоявших у своих ворот, всматривавшихся в темноту.
Он видел, как его односельчане впервые в жизни по-настоящему осознали хрупкость своего мира. Того самого мира, который он так презирал за его сонную предсказуемость. Он понял, что презирал его лишь потому, что никогда не боялся его потерять.
Он обошел всю деревню и вернулся к своему дому. И, подходя, увидел, что и в их окне горит свет. За столом сидел его отец, Борислав. Он не пил, не занимался никаким делом. Он просто сидел, прямой, как ствол старого дуба, и смотрел в окно, на ночную улицу. Он тоже был на своем посту. Отец, охраняющий свой дом.
Он заметил Ратибора. Их взгляды встретились через мутное стекло оконца. Отца и сына. Старого воина и молодого.
И в этом молчаливом обмене взглядами было всё. Вся тяжесть бессонной ночи, вся тревога за будущее, и… полное, безоговорочное понимание. Борислав видел, куда ходил его сын. Видел его решимость. И больше не сомневался. Он знал, что Ратибор уйдет. И теперь он не просто не будет его останавливать. В его взгляде читалось то, чего Ратибор ждал и боялся больше всего. Благословение.
Ратибор отвел глаза и пошел дальше, в темноту, за околицу. Он остановился в поле, под высоким, холодным, усыпанным звездами небом. Вдохнул полной грудью острый, ночной воздух.
«Они боятся, – подумал он. – Их трясет от страха. И я, наверное, должен был бы бояться вместе с ними. Но я чувствую другое».
Он прислушался к себе. И понял, что чувствует… облегчение.
«Словно долгое, мучительное ожидание наконец-то закончилось. Словно нарыв, который зрел во мне, наконец прорвался. Мир сам показал мне мой путь. Четкий, ясный, не терпящий сомнений».
Он посмотрел в сторону своей деревни, на эти редкие, дрожащие огоньки.
«Мне не нужно больше бежать от этой деревни, как вору. Теперь я должен уйти, чтобы защитить её. Защитить всё, что я презирал, и всё, что я любил, сам того не зная. Защитить могилы предков за околицей. Эту реку, где я ловил рыбу пацаном. Этот лес, где я убил своего первого зверя. Защитить даже этих баб, что довели меня до белого каления своей глупостью. И старого Демьяна с его ненавистью. И Прохора с его ломаными мотыгами. Потому что все это – моё».
Он сжал кулак, в котором, казалось, держал весь этот маленький, хрупкий мир.
«Моё. И никто. Никто не смеет это трогать».
Он простоял так еще долго, один на один со звездами и со своей новообретенной, страшной и ясной целью. Он больше не был беглецом. Он становился защитником. И от этой мысли ему было легко и страшно одновременно. Он знал, что грядущий день изменит всё. И он был к этому готов.
Глава 29: Призрак на пороге
Наступило утро, но оно не принесло облегчения. Наоборот, при свете дня страх, ночью казавшийся размытым и бесформенным, обрел четкие очертания. Деревня гудела, как растревоженный улей. Мужики сбивались в кучки, обсуждая новости, женщины опасливо поглядывали на своих сыновей и мужей. Все понимали: спокойная жизнь кончилась.
Ратибор с утра пошел в кузницу. Но не работать. Он просто сидел там, в полумраке, перебирая свои инструменты. Он ждал.
К обеду в доме кончилась вода. Мать, измученная бессонной ночью, попросила его сходить к реке. Взяв два тяжелых дубовых ведра на коромысле, он молча вышел.
Возвращаясь обратно, тяжело ступая под весом воды, он увидел её.
У калитки их двора стояла Зоряна.
Ратибор остановился. Прошло много недель с той страшной Купальской ночи. С тех пор он её не видел, словно она испарилась, стерлась из жизни деревни. И теперь, увидев её, он на мгновение её не узнал.
Это была не та Зоряна.
Пропала её яркая, вызывающая, почти агрессивная красота. Та, что бросалась в глаза, заставляла мужиков оборачиваться, а девок – завистливо вздыхать. Она сильно похудела, высокие скулы на её лице стали острее, а под синими глазами залегли темные, усталые тени. Она была одета в простой, некрашеный сарафан темного цвета, без единого украшения. И главное – исчезла её гордая, вызывающая осанка, тот царственный изгиб спины. Она стояла, чуть ссутулившись, опустив руки вдоль тела, и вся её поза выражала какую-то надломленную, горькую уязвимость.
Призрак той, что была когда-то первой красавицей.
Она стояла и смотрела в землю, на свои стоптанные башмаки. Она слышала его шаги, но не поднимала головы.
Он подошел и молча поставил ведра на землю. Он не знал, что сказать. Все слова между ними уже были сказаны – жестокие, унизительные, окончательные.
– Ты слышал… про беженцев? – спросила она наконец, и её голос был тихим, бесцветным, совсем не похожим на её прежний, низкий и бархатный. Она так и не подняла на него глаз.
– Слышал, – ответил он коротко.
– Говорят, князь будет рать собирать, – её голос чуть дрогнул. – Всех мужиков заберут… на войну.
– Пойдут, – ровно подтвердил он. Его сердце стучало глухо, ровно.
Она молчала. Длинное, неловкое, мучительное молчание. Казалось, она боролась сама с собой. А потом она медленно, с видимым усилием, подняла на него глаза.
И он отшатнулся бы, если бы не был из камня. В её глазах не было ничего из того, что он ожидал. Ни ненависти, ни презрения, ни обиды, ни уж тем более – желания. Только голый, всепоглощающий страх. Не за себя. За всех. Страх маленького человека перед надвигающейся огромной, безликой бедой.
– Ты… – выдохнула она, и её губы дрожали. – Ты ведь тоже пойдешь? Ты же самый сильный… У нас больше…
Она не договорила. «…нет таких, как ты». Но он услышал.
Он смотрел в её испуганные глаза и вдруг понял всё. Она пришла не к нему. Не к Ратибору-обидчику. Она пришла к Ратибору-защитнику. К тому, кто завалил вепря. К тому, чья сила была теперь единственной реальной надеждой этой деревни.
– Пойду, – твердо сказал он.
Она смотрела на него еще несколько долгих секунд. И в её взгляде читалась не только мольба о защите. Но и что-то похожее на осознание. Осознание того, кого она пыталась унизить, кем пыталась вертеть. И, возможно, горькое раскаяние.
Она ничего больше не сказала. Лишь молча кивнула, принимая его ответ, принимая его судьбу. А потом тихо, почти шепотом, добавила:
– Береги себя, Ратибор.
И, не дожидаясь ответа, резко развернулась и пошла прочь, почти побежала по улице, не оглядываясь.
Ратибор смотрел ей вслед. Этот короткий, неловкий, почти безмолвный разговор был их настоящим прощанием. Не тем, где она кричала о любви и ненависти. А этим. Тихим. Скорбным.
Он понял, что она пришла не мириться. Примирение было уже невозможно и не нужно. Она пришла потому, что перед лицом общей, страшной беды, грозившей уничтожить их всех, её личная обида, её растоптанная гордость – всё это стало мелким и незначительным. Страх за всех – за отца, за деревню, за свой мир – оказался сильнее.
Он поднял свои ведра. Вода в них была спокойной, тяжелой. И он почувствовал к этой надломленной, испуганной женщине не жалость и не торжество победителя. А что-то вроде горького, запоздалого уважения. Она тоже сделала свой выбор. Выбрала не себя.
Г
лава
30: Гул приближающейся бури
Страх обладает одной удивительной способностью – он либо парализует, либо заставляет действовать. Деревню Ратибора он заставил действовать. Паника первых часов после рассказа беженцев сменилась мрачной, суровой решимостью. Надежды на то, что беда обойдет их стороной, больше не было. Теперь был только один вопрос: как её встретить?
Деревня изменилась до неузнаваемости за один день. Из сонного, мирного поселения она превратилась в импровизированный военный лагерь. Женщины и старики начали рыть погреба-схроны в лесу, таскать туда припасы. А мужики – готовить оружие.
Их арсенал был скуден и жалок. Из сундуков, где они хранились десятилетиями, были извлечены ржавые дедовские мечи, треснувшие кожаные щиты, старые копья с обломанными наконечниками. Кто-то мастерил простые дубины, утыкивая их гвоздями, кто-то выстругивал новые древка для рогатин.
