Байкальские рассказы и повести
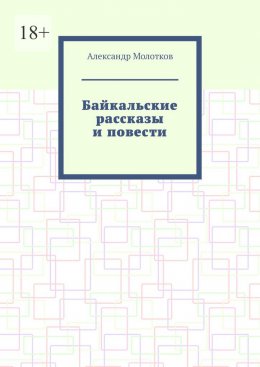
© Александр Леонардович Молотков, 2025
ISBN 978-5-0068-1480-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Посвящение
Наверное, природа в силу своих законов, а именно: ветров, холодов, палящего солнца и частых затяжных дождей, порождает стойких людей в борьбе за выживание. Тогда под влиянием красоты и буйства природы формируются человеческие характеры: воля, смелость, настоящая дружба и настоящая любовь.
Наш поселок Усть-Баргузин расположен на берегу славного озера Байкал. Жители нашего поселка – добрые, приветливые люди. В основном здесь проживает трудовой народ: рыбаки, охотники, лесорубы, научные работники, изучающие флору и фауну Байкала, а также школьники и пенсионеры. Местные жители никогда Байкал не назовут озером. Вас же они вежливо поправят: Байкал – море… Байкал – батюшка, кормилец. Байкал строг, могуч и глубок. Байкал может обидеться и не дать рыбы, или заберет к себе, как дань. Поэтому местные люди здесь говорят: «Ушел в море», «Пришел с моря», «Утонул в море», «Шторм на море».
Вот так это будет по-местному. И даже не пытайтесь поправлять – море, и всё!
Наш поселок находится в низовье Баргузинской долины, там, где в Байкал впадает река Баргузин. Посёлок расположен в устье реки Баргузин, поэтому и носит название Усть-Баргузин. Река и тайга – невиданной красоты.
До Октябрьской революции здесь была фактория купца Куппера: добывали пушнину чёрного баргузинского соболя, ловили омуля, сплавляли лес – всё это скупал за бесценок хозяин Куппер. Местные люди – буряты, тунгусы, якуты, русские поселенцы, беглые каторжане, сосланные царём поляки после польского восстания. Редко добирались до наших мест царские власти: то дорогой помрут, то люди лихие порешат и прикажут долго жить. Один Куппер со своей бандой был и закон, и судья.
Все поменялось, когда царский конвой доставил сюда политзаключённого Кюхельбекера Вильгельма Карловича. Этот ссыльный каторжанин был лицейским другом А. С. Пушкина. Местные звали его Карлычем. Не в один день, но за очень короткое время Вильгельм Карлович навел порядок на фактории. Справедливость была восстановлена. Куппер схватил награбленное и скрылся – по таежным тропам ушел в Китай. Душ он загубил много. Когда приехали царские жандармы, его уже было не догнать.
А Кюхельбекер отстроил в селении Баргузин лиственный дом, народ ему помог в строительстве (ныне здесь действующий музей), наладил свой быт и стал помогать людям, так как все сплошь были неграмотные. Шли люди к Карлычу за советом, кому прошение написать, кому спор по закону рассудить, – любили у нас его за справедливость.
Шли годы… После десяти лет проживания в Баргузине Кюхельбекера перевели в Тобольск. Провожая его, народ плакал: уж такой был хороший и справедливый человек Карлыч.
И снова шли годы. Гремели где-то революции, и вот явилась она – советская власть. С нее и наступил рассвет в нашей глухомани.
Первое, что сделала Советская власть — она приступила к строительству нашего Усть-Баргузинского рыбозавода. И вот в 1936 году наш завод был запущен в работу. Одновременно были организованы леспромхоз, зверосовхоз, построили большую трехэтажную школу, вечернюю школу. Каждый год, что грибы в лесу, строились: больница, ясли, детсады, дворец культуры. Возводились и организовывались пожарная часть, милиция, гостиница, организовывались рыбоохрана, метеостанция и многое другое. Все это построила Советская власть.
Моя бабушка, Иванова Антонида Анисимовна 1899 года рождения, сказала как-то мне, своему внуку: «Как хорошо мы стали жить, умирать не хочется».
Дожила она до развала Советского Союза и в 1993 году, умирая, подозвала меня к себе, перекрестила и сказала: «Как вы теперь жить будете?»
Спасибо великому создателю природы и Богу. Спасибо, за то, что дал нам Байкал. Батюшка Байкал прокормил нас, детей его. Выжили в девяностых годах и дальше живем. Спасибо тем людям, первым строителям Усть-Баргузина, за все спасибо, мои земляки!
Молотков А.
Проза
Памяти брата посвящаю
Оренбургский пуховый платок
Рассказ
И всё-таки она решилась… Решилась ехать, не зная пути, направления, расстояния. Ей еще ни разу не приходилось за её долгую жизнь ездить на поезде.
Она слышала от соседки-хохлушки, что это долго и скучно ехать на Украину много суток, да еще с пересадкой в Москве. Но ей ехать ближе, в Нерюнгри, это там, где добывают алмазы. Это – Якутия, думала она, успокаивая себя. Она прикидывала своим еще не застаревшим умом: сначала до Улан-Удэ, потом на железнодорожный вокзал в кассу, ну, а дальше люди подскажут – мир не без добрых людей. А трое ли суток ехать ей, мучилась в сомнениях она. С Нерюнгри ей добраться до поселка Чульман, там улица Комсомольская, общежитие. Двадцать лет назад, как оттуда была последняя весточка от сына Николая. Прислал в первый год, как завербовался на север, два письма: алмазы буду добывать, мама! Так с той поры ничего, ни письма, ни открытки.
Одноклассница старшего сына, Анна Роева, когда приезжала погостить у родителей, говорила ей:
– Тётя Маша, поселок Чульман недалеко от нас, мы живем в Нерюнгри, а на автобусе час езды от автовокзала до Чульмана. Мы, когда с мужем ездили торговать по округе, видели вашего Колю. Он был в Нерюнгри на вокзале, живой, здоровый, — и засмеялась…
Это потом односельчане ей рассказали, как Анна в магазине знакомым говорила, что встретила Колю – бомж: «Ой, не поверите, чуть не родила – Колю увидела. Не узнала даже: с бородой, в телогрейке, ватники на нем, все замусолено, грязный, а воняет от него за версту ужасно. Сидит у крыльца вокзала с красным баяном и играет прохожим. Шапка лежит перед ним, в нее мелочь кидают люди. Вот как алмазы добывает Колька».
Она была права: Колька давным-давно нигде не работал. С прииска его уволили на первом году работы. Несколько лет он всё устраивался на работы, но его хватало после устройства до первой получки или аванса. Из общаги попросили – пил и буянил в угаре, семья давно у Кольки развалилась, да и не было семьи, просто сожительнице надоел он, неудачник, и она ушла к другому. Хорошо, что не было детей, не надо платить на содержание их. А тут еще грянула перестройка со своим консенсусом…
Баян Колькин с утра звучит хрипло, кое-где фальшивит. Играет что-то, чаще – «Полонез Огинского», но все это вяло, разбито. Колька со злостью кричит: «Подайте на чуток, расшевелю огонек!»
Некоторые люди кидают в Колькину шапку мелочь: наверное, знают его давно и знают, что Маэстро надо. Некоторые с укором говорят Кольке:
– Работать не пробовал? – на что Колька отвечает:
– Я по законам божьим живу, птичкой летаю, зернышко клюю, как она – не сею, а только лишь пою, – и в сердцах добавляет: – Лучше пить водку, чем кровь трудового народа.
Через некоторое время возле голяшки его сапога оказывается чекушка, пластмассовый стаканчик и корочка чёрного хлеба…
И действительно – музыка полилась на голову разинувших рот прохожих, музыка с вариациями, плавно переходящая в душевное попурри. Баян уже не шепелявил, выговаривал каждую нотку, паузу, нюансы. Люди останавливались, слушали, кто-то подпевал, у кого-то поднималось настроение, а один мужчина, заслышав «Славянку», начинал маршировать на месте, наверное, был когда-то военным.
Колькина игра уносила людей от житейских трудностей, проблем, неустроенности и скоротечности самой жизни в мир гармонии, чистоты, – уносился туда и Колька.
А ранней весной, когда еще стояли якутские морозы, Анна с мужем приехали на своем грузовике-автолавке поторговать у железнодорожного вокзала. Не беда, что товар китайский, зато продается влет, а мужу это сильно нравится, он даже уволился с основной работы, стал крутым коммерсантом. На производстве денег таких не платят, да и зарплату по полгода задерживают.
Муж был рад: торговля на вокзале сразу пошла хорошо. Он давал Анне советы, чтобы она улыбалась всем, была вежлива, сам пересчитывал деньги и легко умножал в уме. Анну, как только они подъехали, заинтересовала музыка, доносившаяся с той стороны железнодорожного вокзала: какая-то знакомая мелодия из далекого прошлого. Муж заметил, что жену настораживает музыка. Он одернул её злобно: «Ты торговать приехала или на бичей внимание обращать? Пока деньга валит, работай шустрее, ворон считать не надо!»
Выразив свое недовольство, он скривил лицо. Анна думала: не бьет, не пьет, не курит, а что деньги у него в одном кулаке, и имеет он к ним любовь патологическую, так и она не лыком шита – все равно деньжонок у него тихо позаимствует, и он не узрит своим всевидящим оком.
Когда после обеда торговля стала затихать, и все реже и реже стали брать товар, муж сказал: «Поедем на заправку, надо „коня“ нашего заправить».
Анна попросилась у мужа остаться на вокзале: походить по ларькам, посмотреть цены, – муж согласился. Когда он уехал, Анна подошла к незнакомцу, который играл на баяне.
…Под незнакомцем – раскладной замусоленный стульчик, а сам он был словно не от мира сего: волосы с проседью, неопрятно-грязная борода. Шапка с накиданной мелочью лежала возле него. Лысина этого бедолаги была серого цвета, в коростах, свисали пряди-сосульки давно не мытых волос. У этого человека были впалые щеки и кривой в переносице нос. Когда Анна посмотрела незнакомцу в глаза, её что-то кольнуло в сердце – голубые, как ягода голубица у них на Байкале, что-то из прошлого, уже такого далекого….Но она не узнала Колю.
Она слушала игру этого бедолаги, хотела кинуть в его замусоленную шапчонку рубль, но раздумала: деньги ей самой ой как нужны.
Но незнакомец её понял, повернулся к ней, остановил баян. От испуга она не сразу пришла в себя.
– Здравствуй, Аня!
Она еще долго смотрела на незнакомца, пытаясь в нем узнать знакомого или хоть раз пересекавшегося по жизни с ней человека – сердце ничего не подсказывало ей.
– А… Вы кто? – спросила она, но вдруг ноги её подкосились, и закружилась голова.
Только когда она снова увидела его глаза и услышала голос, поняла – это Коля.
– Да, Аня, это я!
И она вдруг выпалила:
– А тебя потеряли. Тебя, Коля, лет двадцать родные ищут.
– Ну и что? Нужен я им?
– Да как ты смеешь, Коля?! Брат твой, сестра, мать, отец – все по тебе извелись, даже в передачу «Жди меня» письмо отправляли, в прокуратуру обращались, но про тебя ни слуху, ни духу.
– Нужен я им… – повторил он, отвернувшись в сторону.
…Они молчали… Казалось, меж ними проплыли картины: их детство, юность, первая любовь, расставание и Колькин призыв в армию.
Колька попал на службу в Морфлот на три года на атомную подводную лодку акустиком. Анна, конечно, не дождалась. Через два года она встретила на танцах у них в дк ловкого северянина. Она сдалась, повелась, как щука на блесну, прямо на отцовской лавочке после танцев. Николаю еще писала, но, когда живот невозможно было скрывать, попросила мать обо всем написать Николаю.
Колька не хотел вспоминать, как тряслись его руки, тошнота постоянно стояла у горла. Он днями не выходил из отсека своей пеленговой станции.
Лишь командир сказал ему тогда: «Держись, мы подводники!»
Боль еще долго жила в нем, но уже это он стоял над болью.
А детство их было безоблачно. Они жили по соседству. Вместе учились, вместе ходили в музыкальную школу. Николай учился по классу баяна, а Анна – на фортепьяно.
Веселые были времена. Анне хватило учебы на полгода. «Медведь на ухо наступил», – так говорил Иннокентий, отец Анны, – пусть носки на рыбалку вяжет – и то польза». Пианино он продавал два года. «Ух и дорогущая, – говорил он, – одних дров две поленницы нарубишь в аккурат. Да дочка одна – что не купишь ради единственного ребенка?»
А Колька закончил музыкалку с отличием, получил диплом об окончании детской музыкальной школы, и его путь лежал прямо в музучилище. Колькин педагог гордился Колькой: уж таким способным было это юное дарование, что учитель Иванов А. П. уделял Кольке больше времени, чем другим ученикам.
..Но армия испортила всё. Не ожидал Николай, что так много изменится в его судьбе.
Да, было их с Анной время! Колька вечером выходил на свою лавочку у отцовского дома, садился, расправлял меха баяна «Восток» и начинал концерт по заявкам собравшихся вокруг него молодых и старых односельчан.
Музыка плыла над белыми шапками высоких гор-гольцов, над гладью за день успокоившегося Байкала. Радостно подпевал Колькин друг собака Кучум, будто он тоже ас в человеческой музыке. Но всем было так хорошо, что не хотелось расходиться до самого утра.
Что уж говорить, Колька играл и по нотам, и по слуху, и на подбор старинные каторжанские песни. Свадьбы, именины, проводы не проходили без Николая и его баяна.
– Ты, Коля, матери почему не пишешь? – спросила Анна, вырвав его из далёких воспоминаний.
– А что писать? Все по-старому… Бомж я, – со злостью сказал он, – живу в теплом коллекторе, с женой давно как расстались, да и не жена она мне была, а сожительница. После тебя, Анна, так никого и не полюбил. Конечно, может, и ищут меня родные, да дежурный милиционер забрал паспорт, третий год на него работаю. По двести рублей отдаю каждый день – принеси и отдай этой государственной морде! – а то из коллектора вышибут, и пойдешь по «обезьянникам». Вот такая жизнь, Аня.
– Но, Коля, можно же куда-нибудь пожаловаться? – спросила Анна.
– Нет, исключено. Всё повязано у них: крыша, чем выше, тем больше денег снизу берет. Так что за кусок хлеба им спасибо, да еще двоих ко мне в коллектор приютили – металл им рыщут и сдают. Деньги отдаём, а так бы и не выжили в эти якутские холода.
– Коля, я вот подсчитала, ты двадцать шесть лет не был дома. Ты где был?
Колька молчал…
– У тебя, Коля, отец семь лет как помер, а мать глазами мается, все на тракт ходит – автобусы встречает с города.
Колька налил в пластмассовый стаканчик водки, приподнял его, чуть плеснул на землю за помин души родителя, разом влил его себе в рот.
– Водочка тебя довела до такой жизни, Коля! – сказала Анна, – Посмотри, на кого ты похож, а я любила тебя одного!
Он посмотрел на нее… В его голубых глазах мелькнуло что-то из прежней жизни и из прошлого; он тихо сказал:
– Я рад за тебя, Аня. Мне теперь и умереть не страшно.
Он отвернулся, взял на колени баян и тихо заиграл «У беды глаза зеленые». Она постояла возле него, дорогого ей когда-то человека, но краем глаз увидела, как подъезжала их машина-автолавка со всевидящим мужем. Анна подумала, что надо молчать – себе дороже будет.
…А мать собралась. Первое, что она сделала – это доковыляла, опираясь на кривую палку, до автостанции. Совсем просто было расспросить кассиршу, куда ей надо. Она купила билеты на завтра, записала всё на бумажке, которую завернула в платочек. Завтра автобус, потом железнодорожный вокзал, билеты и на поезд «Москва-Нерюнгри» она купила, вагон номер шесть, и ждать недолго: в девятнадцать ноль-ноль отходит, она везде успевает. Мать не мучили уже вопросы и неизвестность: она завтра поедет к сыночку.
А сентябрь на Байкале заиграл: закипели краски над хрустальной водой. Черёмуха стала красная со своими листьями, плоды же её ягод налились и глянцевой чернотой показывали свою спелость. Небо вдруг стало синим-синим, и короткая байкальская волна тихонько лизала песчаный плёс.
Стояло бабье лето. Не было даже ветерка. Осмелевшие мушки и стрекозы садились на воду, где их поджидала рыба. Можно было видеть большие круги довольно крупной рыбы. Вечера тоже в эти дни стояли тихие. Только иногда на ближних болотах раздавалась оружейная канонада – это местные мужики открыли сезон охоты на утку.
Она собиралась в дорогу. Маленький чемоданчик, с которым ещё покойный муж ездил в командировки, – положила туда немудрёные свои одежды: жакет, халат, тапочки, запасной гребешок. Все не могла определиться с узелочком, в котором лежали деньги. Но выручила соседка-хохлушка. Разделив сумму на три части, она сказала:
– Вот так, милая, будет лучше!
Часть денег она положила ей в кошелёк, часть засунула матери в бюстгальтер, а еще часть уложила на дно чемоданчика.
– Вот так, хай чё украдут, а чё и останется!
Она рассказала матери, как мужа своего на Украину погостить отправляла:
– Ну, туда-сюда деньжонки ему спрятала, а часть к трусам карман пришила и денюжку туда ховала. А уж утром проснулись, он впопыхах, да на скорую руку, – трусы не одел даже, так дома и остались они с деньгами возле кровати. Проспали мы всё конечно, но на автобус успели. Вдруг на другой день телеграмма: «Вышли денег, сижу в Улан-Удэ». Ой, мама, стала я добро разбирать, а трусы-то его с деньгами за кроватью в пыли лежат, вот смеху-то было, все время вспоминали, молодыми были, – смеялась она весело и заразительно.
А мать вспоминала своего доброго любимого мужа. Прожили они более пятидесяти лет, да болезнь эта пристала к нему. То ли от переживаний за старшего сына, но болезнь совсем не поддавалась лечению. А когда умирал, только и сказал: «Колю я не увижу, вы не обижайте его». Сказал и помер.
Когда он умер, кажется, и она умерла… Боль не покидала её, только младшие дети и внуки держали её на этом белом свете.
…А рассвет наступил. Он пришел на землю, как тысячи миллионов лет назад. Наверное, на земле нет ничего такого же постоянного, как рассвет и материнское чувство настоящей любви к своим детям.
Цокая палочкой по твердой дороге, она доковыляла до автостанции. Чемоданчик и узелок мешали ей идти, но какая бы ни была трудная дорога, её мысль была сильней – ей надо увидеть сына. А вот и автостанция, вот и народ, всё как-то веселее сердцу. Добрые люди уступили ей переднее место, а водитель автобуса, веселый и приветливый паренек, сказал ей: «Бабушка, если почувствуете себя плохо, скажите мне, я остановлюсь, передохнем чутка».
Ей стало так тепло на душе, что она готова была терпеть любые дорожные муки.
…А Колька пил. Он давно бросил вызов этому всесильному богу Дионису… Душевные и физические его силы были на исходе. Все пожирал всемогущий Дионис. Его бойцы – алкоголь и забыть – уравняли даже ночь и день, все смешав в крутящемся аду. Ему виделось, что у озера с прозрачной водкой сидели люди: профессора, генералы, врачи, студенты, женщины и мужчины, молодые и пожилые. Но никто не хотел уходить от этого озера, всем было легко и весело на том берегу…
Колька проснулся и закричал: «Нет!», но удушье коллектора и жажда выпить одержали верх.
Трясущейся рукой нащупав в кармане телогрейки чекушку, он жадно выпил, что оставалось, и эта спасительная влага привела его в чувство и возвратила в реальность.
Уже прошло два года, как видел он Анну. Муки стыда улеглись и сгорели в его одинокой душе. Всесильный Дионис сжигал память, отправлял его по дороге забвенья, и уже с трудом он помнил, что есть где-то мать, брат, сестра, родственники и сослуживцы. Один только милиционер каждый день выгонял его и двух бомжей на работу, увеличивая сумму сборов.
За эти одинокие годы у Кольки в коллекторе появились еще два жильца. Конечно, с разрешения главного милиционера по вокзалу. Задачу им поставили простую: собирать металл, банки алюминиевые, стеклотару, деньги отдавать главному милиционеру – план был щадящий. За это – жизнь в коллекторе и относительная свобода, а так же прикрытие: паспорта у них тоже забрал главный милиционер.
Колькины жильцы-напарники были такими же бездомными бедолагами.
Первым в Колькин коллектор как-то осенью пришел старый Колькин знакомый по кличке Циклоп. Так его уже лет десять звали с тех пор как он потерял один глаз. Как в жизни не упустить удачу? Толик Скосыров знал, как ее потерять. Зубной врач-протезист, всегда был врачом – золотые руки. Работа после института шла успешно. Семья, жена-врач, хороший заработок, квартира…. Но все это разом рухнуло. В ресторане, где Толик Скосыров загулял, произошла драка. Кто Толику ткнул в глаз вилкой, теперь и не найдешь, да глаз к утру вытек. Когда Толик очнулся на утро, глаз пришлось удалять.
Работал он и дальше, но осторожный клиент меньше стал доверять одноглазому зубнику. Жене дали повышение, и она стала сторониться Толика. Решил сам открыть свою зубную клинику. Нашлись и здание, и оборудование, цены наполовину ниже, но жена почему-то подала на развод. После развода она стала заведующей клиникой. Тут Толик и отдался зеленому змию. Долги росли, платить нечем, продал свою однокомнатную, хотел уехать к родителям, но деньги быстро кончились. Тут он и вспомнил про Колю-Маэстро. Пришел к Кольке в коллектор, милиция дала добро, прибавив план на добычу металла.
Третий друг совсем случайно попал к ним. В сорокаградусный якутский мороз, отработав на вокзале, они шли в свой «номер». Уже подходя к коллектору, Колька запнулся обо что-то, и это что-то замычало. Раскопали снег – человек. Молодой парнишка был беспробудно пьян и скоро заснет навечно.
Скорее его в коллектор: оттереть руки, ноги, спирту не пожалели – человек же. Тут врач Циклоп применил все свои навыки, с достоинством отдаваясь клятве Гиппократа. Паренька спасли и когда расспросили… На вокзале с молодыми девицами пил в ресторане, а дальше не помнит ничего. Нет денег, паспорта, билета до Москвы, чудом сам остался жив. Что делать? Пошли к старшему менту. Тот рассудил по-своему:
– Пока ищем паспорт и девиц, поживи с ребятами в коллекторе, поработай, как они, а весной поедешь до своей Москвы. Конечно, Колька все понял: девиц милиционер хорошо знал – извечные друзья, работают вместе. План, конечно, повысили, но дали тележку на одном колесе – собирать и свозить стеклотару в вагончик по договоренности. Молодому дали кличку, вернее, милиционер сказал, – «Позывной «Клёпа». Над Клёпой взяли шефство его спасители. Водку парню пить слишком не давали: не умерен был их младший товарищ: терял рассудок, если выпивал не в меру.
Жизнь их походила на один день. Играет Колька на баяне, друзья в стороне сидят на кукурках, как говорят в народе, смотрят, сколько в шапку набросали; скорей бы набралось на похмелку, да по местам, по мусоркам. Вот набралось на пол-литра спирта, жизнь веселей пойдет!
Только выпили, разыгрался Колька, вдруг подходят их покровители, два дежурных милиционера. Они берут Кольку под руки, берут его стульчик и баян, повели к себе в здание вокзала в свой кабинет. Привели Кольку в кабинет, посадили на стул как путного, уважаемого человека:
– Слушай, Маэстро, – начал тот, которому платил уже который год дань Колька, – ты домой хочешь?
– Хочу, но паспортина моя у вас, – сказал в ответ Колька.
– А на тот свет хочешь? – продолжил старший мент. – Кто тебя, бедолагу, искать будет?
Он улыбался так же ехидно, когда принимал от Кольки деньги. Помолчав, он продолжил:
– Вот, Маэстро, тебе партийное задание: у цыган мы конфисковали, – он опять хитро засиял своей улыбкой, вспоминая что-то приятное, – тридцать оренбургских пуховых платков. Твоя задача – сбыть их торгашам, ты с ними знаком, да и торгаши тебя знают. Но цена их немалая: пять штук за платок, а денежки мне лично. Свободу себе выкупишь, это мы тебе обещаем. Обманешь – закопаем глубоко-глубоко, никто не найдёт. Ты понял, Маэстро? За много лет ты надёжно себя зарекомендовал. Не стучишь, не жалуешься, как некоторые. Меня скоро переведут отсюда, лейтенанта дают, ну а кто придет другой сюда – по-своему рулить вами будет. Так что поторопись, и – домой отвалишь, сам в поезд посажу, только сначала дело. Не будет дела, другой по башке тебя бить будет! – закончил он речь, – Ты хоть знаешь, что такое настоящий оренбургский пуховый платок?
Он снял с пальца обручальное кольцо, вынул из пакета белый, чуть изжелта, легкий и пушистый платок, просунул один его конец в кольцо и лёгким движением руки продёрнул через него весь платок.
– Вот, Маэстро, это настоящий оренбургский пуховый платок, – он отсчитал из пакета пять платков, завернул их в серую почтовую бумагу, сунул Кольке за пазуху и сказал: – Это первая твоя партия – головой отвечаешь, сучара.
Колька шёл к себе в коллектор, держа под мышкой пакет, в одной руке баян, а в другой стульчик. Только одна мысль ныла в его мозгу: куда спрятать пакет? Нести в коллектор нельзя: эти черти украдут и не поморщатся, а отвечать ему. Наконец он нашёл оторванный конец утеплителя от изоляции теплотрассы рядом с коллектором. Колька сунул подальше под этот оторванный утеплитель пакет, заткнул дыру стекловатой: было незаметно и почти рядом. Колька постоял, запоминая место, и со спокойной душой пошёл в коллектор.
…А мать ехала. Добрые люди помогли ей сесть в поезд, по билету найти своё место. Вагон был плацкартный, люди все приветливые, улыбались ей, суетились, рассовывая по полкам свои вещи. И тут, вдалеке от дома, тоже есть хорошие и добрые люди. Молодой юноша, которого звали Паша, охотно уступил бабушке нижнюю полку, бегал ей за чаем и каждый раз спрашивал: «Бабушка, вы говорите, чем вам помочь?»
А ей и так было хорошо: внимание к ней окружающих так было приятно, она так давно не была счастливой. Она сидела у окна на нижней полке, смотрела на пробегающие огни, полустанки, жёлтые убранные поля, мосты и мостики. Всё она это видела в первый раз за свою жизнь и одновременно – было знакомо, как, наверное, по всей России. Её расспрашивали соседи, она отвечала, что едет к сыну в Нерюнгри и объясняла, что он там работает бурильщиком, но на каком месте, она не знает. Молодые супруги, которые ехали по распределению после института, долго перечисляли буровые и разрезы местной добычи, но она так и не могла вспомнить и лгала, что сын ее встретит.
Ночь прошла так быстро, что ей показалась: она задремала всего на пять минут, а вот уже и рассвет в окне. Три дня в поезде ей показались совсем не утомительными, а интересными. Проводница объявляла станции, остановки, люди заходили, выходили, устраивались на свои места, поезд каждый раз плавно выдвигался в дальнейший путь.
Мать спросила у проводницы время прибытия в Нерюнгри. Проводница успокоила её:
– Бабушка, я вам сообщу и подниму заранее, помогу вам во всем. А в Нерюнгри мы будем в девять часов утра по местному времени, – и добавила – Утро – удобное время для приезжающих.
– Вот и Нерюнгри, – проводница, как и обещала, предупредила её.
Наконец, после недолгих сборов она стояла в тамбуре в ожидании, когда остановится поезд. Опустив лестницу, проводница предварительно обтёрла боковые ручки заранее заготовленной тряпкой:
– Вот, бабуля, вы и приехали! Я помогу вам спуститься вниз на платформу.
Все это время мать думала о сыне. Она не могла представить его себе: уж, сколько прошло времени, всё детский образ маячил перед ее старческими глазами, но сыну-то теперь сорок восемь.
Она ступила на платформу… Лучи утреннего осеннего солнца пробивали вокзальную мглу. Люди спешили, проходя и пробегая мимо нее, все торопились к пришедшему поезду. Мать сразу почувствовала гарь и дым, запах креозота, пирогов и картошки, вокзального духа. Ей захотелось поскорее куда-нибудь сесть, перевести дух, который так дурманил с непривычки ее седую голову.
Она добралась, опираясь все так же на свою кривую палку, неся в другой руке чемоданчик и узелок, до ближайшей скамейки и села, чтобы перевести дух. Понемногу приходя в себя, она смотрела на снующих по разным делам людей, и в эту минуту ей хотелось встретить кого-то знакомого, она почувствовала этот чужой, большой и безразличный к ней мир.
Может быть, она посидела бы на скамеечке и дольше, но звуки баяна, доносящиеся с той стороны вокзала, насторожили её. Мать тяжело встала со скамейки и, ковыляя с чемоданчиком и узелком, побрела на другую сторону длинного вокзала. Она шла на звуки музыки, которая ей показалась знакомой и родной, как будто из прошлого. Хоть краешком глаза увидеть ей: кто там играет? Кто там, как её Колька, играет до боли знакомую музыку? Толпа, окружившая баяниста, не давала ей увидеть. Мать долго стояла возле толпы, слушала знакомую музыку, и с этой мелодией её сердце возвращалось в прошлую жизнь.
Вдруг несколько человек отделились от этой толпы, и она увидела музыканта, сидящего на раскладном стульчике с красным баяном. Он не был похож на её Николая, но что-то родное угадывало её сердце. Мать подошла еще ближе, и ее подслеповатые глаза увидели то, отчего заныло материнское сердце – сын!
А Колька ничего не видел: он упал на бок вместе со стульчиком и баяном. Мать подошла еще ближе к лежащему на асфальте сыну, опустилась на колени, взяв его грязные заскорузлые руки, причитая, начала их целовать:
– Сыночка, родненький, да как же это так?
Колька спал: водка опять свалила его, где пришлось. Он вообще был далек от этого мира. Его борода, засаленные брюки и полбутылки в кармане какой-то жидкости представляли весь его мир.
…А мимо шли люди, кто-то смеялся над старухой, кто-то удивлялся, что она целует руки бомжу, да еще омывает их своими горькими слезами. Некоторые прохожие в недоумении грустно смотрели: что бы это значило? Но самые «чувствительные» пинали Кольку и прицепившуюся к нему старуху: расселись тут на самом проходе!
Вокзал жил своей жизнью: тут приезжали, прощались, уезжали земные существа – люди.
Мать с большим усилием – ей помогла пьяная якутка – оттащила Кольку к ближайшему дереву, там они прислонили его спиной к этому старому тополю и пытались привести в чувство. Вдруг сзади послышались мат и ругань: это Циклоп и Клёпа возвращались с очередной добычи металла.
– Вот Маэстро расписался! Наверное, денежки тю-тю? Женился, что ли, на этой старухе? Смотри, как она его гладит? – злился молодой Клёпа.
Они оба с Циклопом залились похожим на визг собаки смехом.
– Нет, хлопцы, я его мать, – ответила старушка.
Циклоп и Клёпа, стараясь не матерится, бросились к Кольке. Они стали его тормошить, обливая из пластиковой бутылки водой, звучно били по щекам, приговаривая:
– Маэстро, Маэстро, мать твоя приехала!
Они долго возились с Колькой, пока тот не открыл глаза. Он долго приходил в себя, смотрел то на старуху, то на Клёпу и Циклопа, пьяная якутка тянула его за рукав, он крутил своей головой, не понимая, что от него хотят. Грязной своей рукой он вытащил из кармана плоскую чекушку, выпил из неё три глотка и передал якутке.
Минут через пять Колька заорал: «Мама, мама, зачем ты приехала сюда!?»
Но мать бросилась к нему, уцепившись двумя руками за шею, целовала, прижимала к себе своё дитя, она плакала и рыдала всем материнским своим существом, она шептала что-то, поминая Богородицу и всех святых. Колька твердил ей на все её причитания:
– Мама, мама, зачем ты приехала? Я бич, я бомж, я не человек. Люди отбросами и падалью нас называют. А грехов на мне нет, и три года на подлодке я – старшина первой статьи, гидроакустик. Но, мама, у меня нет жилья, нет зубной щетки, нет рулона туалетной бумаги, нет паспорта. Живу я в тепловом коллекторе, скоро и оттуда милиция вышвырнет. Зачем я вам?
– Сыночка, – говорила в ответ она, – да разве матери родное дитя в тягость? Сердце изболелось за тебя, родненький. Ведь всё за длинную ночь передумаешь! Да столько слёз и дум за ночь! А теперь я рада – ты живой!
Она плакала, вытирая платочком ручьём текущие по дряблым щекам слёзы. Колька не смотрел на неё, он смотрел в землю. Циклоп вежливо обратился к старушке:
– Пойдёмте, мамаша, на лавочку, вот есть свободная, – Циклоп вдруг стал интеллигентным и галантным, друзья его таким никогда не видели, – вы, наверное, устали с дороги?
Циклоп поддерживал мать, нес ее вещи, Кольку вел под руку Клёпа. Они доплелись до свободной лавочки, усадили мать, а Циклоп сказал:
– Пойду, принесу горячего чая и что-нибудь поесть?
Честно сказать, даже друзья не знали, где он все это возьмет…
А вокзал так же гудел. По радио объявляли о вновь прибывших поездах. В конце диктор добавлял: «Будьте осторожны!»
Они сидели на лавочке, Колька только и спросил:
– Как здоровье, мама? – но, даже не дождавшись ответа, сорвался с лавочки, крикнул: – я сейчас, мигом…
Он, возвратился ровно через пять минут, держа в руках свёрток:
– Это, мама, тебе от меня, бессовестного сына!
Она трясущимися руками стала разворачивать сверток, из которого показался оренбургский пуховый платок. Мать развернула платок, сложила его вдвое, примерила платок себе на голову и сказала:
– Спасибо, сыночка, за подарок! Видно, ты не забыл мать, и сердце твоё ждало меня.
Она снова заплакала, утирая концом подаренного платка потёкшие, как ручейки, из её глаз слёзы.
Колька сидел, опустив свою голову, смотрел в чёрную землю, вытоптанную возле лавочки. О чем он думал – никто и не знает теперь.
А вокзал жил своей суматошной жизнью. Снова объявляли о проходящих поездах, напоминали о ручной клади. «Будьте осторожны!» – объявлял в конце диктор.
…Колька встал со скамейки и упал матери в ноги, обхватив их обеими руками, целовал материнские морщинистые руки и бормотал:
– Прости, мама, прости за всё, мама! Прости…
Циклоп и Клёпа так ничего и не поняли, хотя и находились рядом, лишь глуховатая и слеповатая мать гладила его по голове, она была счастлива: она нашла живого сына.
Он вдруг отпрянул от матери, сказал:
– Прости! – и побежал от них в ту сторону, где гремел грузовой состав, – Я сейчас…
…Он успел. Два последних вагона… вытянув вперед руки и оттолкнувшись от земли, прыгнул… Его грудная клетка точно угодила на блестящий рельс, он опередил бег колеса, успел подумать: «Вот и всё!»
Они ждали его. Но кто-то у вагонов на дальних путях заорал: «Человека зарезал поезд!!!»
Завизжали женские голоса, путейские бригады поспешили на место трагедии. Народ скакал через рельсы и платформы, спешил увидеть покойника. Кто-то узнал Кольку… Колька лежал на спине, разделённый поездом на две половины, но лицо и голубые глаза его были открыты и смотрели в синее вечное небо.
– Да это бомж-баянист с вокзала! – сказал кто-то из толпы.
– Отмучился, бедолага!
Подъехала скорая помощь.
– Бомж, бомж, хе-хе, набухался, берегов не видел…
Женщина в белом халате посмотрела на языкастого мудреца:
– Нет, это человек. Жаль, что болезнь их делает такими… Когда же прозреют люди? Да еще и это ваше благополучие…
Осеннее солнце клонилось к закату. Кончался короткий сентябрьский день – один из многих дней земли.
Вечерние лучи светили, еще грели людей, землю и всё-всё, что находилось на этой маленькой песчинке большого космоса. Перед долгой холодной якутской зимой солнце отдавало своё тепло всем людям поровну: и матери, дожидавшейся своего сына Кольку, и Циклопу, и Клёпе, которые сидели рядом на лавочке, и всем, кто находился на этом нерюнгринском вокзале. Только для солнца все они были дети Земли – маленькие, беззащитные, неразумные дети.
Конец
20.01 2024
Молотков А.
Грех
Рассказ
Даже в конце мая, когда белый лед на поверхности Байкала превращается в чёрный, ты слышишь музыку льда. Пропитанный талой водой, он превращается в длинные ледяные иглы, которые под легким дуновением ветра рассыпаются и звенят, выскальзывая на поверхность воды. Ударяясь друг о друга, они создают нежные и тонкие звуки, подобно звону хрусталя.
Вода освободилась от железных объятий зимы. Она вступила в свои права везде: в растаявших озерках, в лужах, оттаяла на дне брошенной лодки. Гонимые ветром и ожиданием тепла большие белые чайки сидят на брёвнах рядком, греются на солнышке. Ждут подружки, когда водная гладь Байкала освободится от весеннего льда полностью. Музыку несут прибрежная волна и лёгкий ветер. Глаза режет яркий солнечный свет. С тонкими и нежными перезвонами, с россыпью бархатного нежного звука уплывает ледовое произведение в сосновый вековой бор, где у самых его ног расцвел багульник. Байкал поет!
С моря от ледяной массы тянет холодом, но стоит только зайти в сосновый бор, чувствуется благоухание тепла майского солнца. Багульник фиолетово-розовой массой цветков украсил вязью ветки и веточки этого чудного кустарника, а пьянящий аромат кружит голову.
– Отслужил, слава тебе Господи! – сказал отец, обнимая сына на пороге родительского дома. Вернулся со срочной службы Николай Игнатов: – Дома я, дома, мама! – сын обнял плачущую мать.
Светило весеннее майское солнце, наполняя теплом и радостью Игнатовский дом. Набежали родственники, друзья, чтобы обнять Кольку, пожать его крепкую руку и присесть за стол.
– А теперь гуляй казак, три месяца отдыхать после армии можешь! – сказал Колькин дядя, капитан милиции. Отец поправил шурина: – Ты, сынок, гуляй, да помни – праздность, она человеку не очень-то помогает, месяц отдохни, да на работу… Человек трудиться должен, чтобы себя утвердить в жизни. Специальность у тебя хорошая: «водитель третьего класса», везде требуется, – подвел отец итог всем разговорам.
Было это в мае, и вот на пороге уже сентябрь. Все лето Колька отдыхал: устраивал гулянки с друзьями на берегу Байкала, пропадал на рыбалке, часто друзья приводили его домой пьяного, в разорванной рубахе. Отец ругал Кольку, но мать курицей-наседкой вставала между отцом и сыном, расставив по бокам руки, как крылья, защищала своего цыпленка Колю. Отец сказал: «Все, хватит! Или работа, или ступай с такой разудалой жизнью за порог!»
Мать молчала, не смея перечить мужу, знала, что может и полететь в сторону от тяжелой его руки, вытирала фартуком слезы.
Еще не полетели с неба белые мухи, а Колька уже трудился в леспромхозе. Он устроился в местный леспромхоз-миллионер водителем лесовоза. Заработки были приличные, да и молодых рук не хватало леспромхозу. Кольке доверили работать на новом японском лесовозе, возить лес-кругляк на верхний склад, и это ему нравилось. Вечерами, когда Колька приходил с работы, он не ужинал, закрывался в своей комнате и спал.
Мать боялась будить его. «Устает наш сыночек, пока он втянется в трудовую жизнь, не один месяц пройдет» – она говорила мужу, будто оправдываясь. Сама же накрывала стол, чтобы, когда проснется, поел ее мальчик. Отец молчал, думая, что раз армию отслужил, то и на работе справится.
Отец слышал, как далеко за полночь Николай вставал, гремел тарелками на кухне и уходил куда-то из дома. Отец еще думал: «Куда уходит сын ночью, неужели девушку себе завел? И что таиться-то – о семье думать пора».
Отец хотел поговорить с сыном на неделе, но все прояснилось раньше.
Зима выдалась снежная, со злыми ветрами-метелями. Снега надуло под самые верхушки заборов. Каждый раз после вьюг приходилось откапывать от снега ворота, стайки, баню, вывозить из ограды снег. Колькин отец приходил с работы домой, брался за снеговую лопату и убирал нанесенный ветром за день снег. До позднего вечера, включив в ограде свет, отец работал. На помощь ему выходила жена и тоже бралась за снеговую лопату. Шла она помогать мужу ради того, чтобы он не будил сына Колю:
– Я сама тебе помогу, пусть мальчик отдохнет после работы.
Иннокентий ругал сына и жену, но, как будто под гипнозом, соглашался с женой и молчал, работал, перекидывая здоровенные сугробы снега.
– Здравствуйте… – в очищенную ограду вошла женщина. Иннокентий поздоровался, а сердце почувствовало неладное.
– А я к вам, Иннокентий Иванович, по одному неотложному вопросу.
– Проходите в дом, гостям мы рады!
Иннокентий знал эту женщину, Бабкову Светлану, миловидную приятную медсестру с поселковой больницы. Он обмел валенки голиком, и они вместе зашли в дом.
– Пришлось к вам идти, молодежь наша так ничего и не может решить.
Мать вышла в их просторную прихожую, предложила стул, она тоже хорошо знала медсестру Бабкову Светлану Ивановну:
– Садитесь, Светлана Ивановна, я чай поставлю.
Колькин отец снял шапку, присел на край табурета. Смущаясь и краснея, Светлана Ивановна посмотрела на родителей и…
– Моя дочь Лариса и ваш Николай встречаются с самого лета. Коля ночует у Ларисы. Приходит ночью, Лариса открывает ему дверь. Я не раз разговаривала с дочерью на эту тему, она только и говорит: – Люблю Колю! – А он? – спрашиваю ее.
– И он меня любит, дал мне слово, что свадьбу сыграем на Новый год.
– Месяц до Нового года: нам надо как-то обговорить всё. Одна дочь у меня, мужа я схоронила, вы знаете. Что случилась, я не знаю, но Николай уже полмесяца не приходит к Ларисе, она плачет, а ей нельзя в ее положении: беременная она, на третьем месяце…
Мать Николая так и села в кресло, которое стояло рядом: – Ой, как это….От нашего Коли?
Она не могла поверить, что сын давно вырос, стал мужчиной, и у него могут быть дети, а у неё – внуки. Отец рывком встал, уронил шапку на пол, шагнул к двери, за которой спал Колька, постучал в дверь:
– Вставай сынок, оденься и выйди к нам – дело к тебе есть.
– Какое там еще дело? Подождать до утра не можете?
Колька знал характер отца и, немного повозившись, накинув на себя махровый халат, что подарила ему мать, недовольный вышел из комнаты, протирая заспанные глаза. Он нисколько не удивился, увидев Светлану Ивановну:
– Здравствуйте, тетя Света!
Он уперся спиной о дверной косяк, засунул руки в глубокие карманы халата.
– Здравствуй, Николай, ты уж извини, вот решила прийти поговорить с тобой и с твоими родителями. Время идет. У Ларисы уже стал животик заметен, свадьбу надо играть, да живите, ребенка растите…
Колька молчал, склонив свою голову на грудь. Минута прошла в молчании, все смотрели на него.
– Вот ты скажи родителям, Коля, сколько раз я тебя предупреждала, когда заставала тебя с Ларисой в постели, ты что мне говорил: «Тетя Света, все будет нормально, мы скоро поженимся». Ну вот и пришло это «нормально» – ребеночек будет у вас!
Колькина мать никому и ничему не верила: – От нашего Коли ребеночек? Не может быть, он еще ничего не понимает в детях.
– Успокойся, он у нас давно не мальчик, армию отслужил, – сказал отец. Он мял шапку в руках, поглядывая на сына: – Ну что молчишь? – обратился он к сыну.
Колька ответил:
– Не люблю я ее и не женюсь! И отстаньте от меня все!
Он развернулся и ушел в свою комнату, плотно закрыл за собой дверь.
– Как? – возразила Светлана Ивановна и заплакала. Она и себя считала во всем этом виноватой.
– Николай, не дури, давай выходи, поговорим!
Но за дверью была тишина.
– Коля, да ты что, побойся Бога! Ты девочкой взял мою Ларису и теперь отрекаешься от всего? Если у неё отца нет и некому защитить, значит, и смеяться над нами можно?
Светлана Ивановна вытирала платком слезы, отец вытирал рукавицей пот со лба. Он встал, вплотную подошел к двери, за которой молчал Колька:
– Ты что, парень, белены объелся? Ходил к девушке по ночам полгода, а теперь – не мое? Разве мы тебя этому учили, подлец ты этакой?
Колька молчал за дверью. Светлана Ивановна плакала. В какой-то момент она поняла, что зря пришла поговорить с этим безответственным человеком, встала и, не говоря ни слова, вышла из этого дома.
Отец бушевал: – Послушай меня, сын, – он стучал кулаком в Колькину дверь, срывался на крик: – девочка у Светланы Ивановны – прелесть, да еще горе у них: отец рано помер. Болезнь никого не спрашивает. А ты что? Пойми, ребенок рождается, малыш беспомощный, ему маму и папу Бог дал. Это тебе время наследника даёт, а мне – дедом быть, а матери – бабушкой. Да и какую ты королеву высматриваешь? Мы рабочие честные люди, у них семья хорошая тоже, вот и будем жить все в кучке, внучат растить.
Колька молчал за дверью.
– Ты пойми, сын, не бери греха на душу, всю жизнь можешь потом с грехом маяться и не вырвешь его из сердца, и водкой не зальёшь! Послушай своего отца родного, не дури, дитё тут – главная в жизни задача….
Колька приоткрыл свою дверь и прокричал отцу:
– Да вы тоже поймите – не люблю я ее! Знаю, что грех. Я, я… Не мог остановить себя. Не научили вы меня, не объяснили, как страстью своею владеть. И в школе только заикнись – вылетишь из комсомола.
– Коленька, мальчик мой, да что же это делается – женить хотят моего мальчика! – запричитала мать.
– Цыц… защитница! – выругался на нее отец, – Ты все еще за нашим щенком помет вылизываешь, слепит тебя твоя безудержная материнская любовь. Он девушку обманул и еще скольких обманет на деревне? А если бы это наша дочь была? Молчишь? То-то!
Отец опять подошел к Колькиной двери и спокойно сказал сыну:
– Ты пойми, Коля, любовь – это хорошо, но ты также пойми, что грех бросать беременную и ребенка своего. Ты пойми, сын, любовь может закончиться через две недели, а жить… жизнь длиннее. Господь видит, кому и сколько счастья отмерить за терпение, за доброту и послушание. Ты заставь себя, сына, ради дитя относиться к ней с уважением. А любовь твоя будет тогда, когда ты проживешь с человеком лет двадцать, и однажды вечером ты будешь ждать ее: ты места себе в тревоге не найдешь, где она… Сердце твое наполнят одиночество, пустота, печаль. Ты поймешь, почувствуешь, что ты и она – одно целое на этой земле, и нет тебе и дня жизни без нее во всей Вселенной. Ты почувствуешь, что это – любовь, именно она, твоя! Одумайся, сын, от дитя не отказывайся – грех великий!
От Байкала через лес тянет холодом. Еще не растаял лед: это чувствуешь по дуновению ветра. Большие белые чайки прогнали ворон. Чайки кругом по всей поселковой округе. Когда успели они прилететь? Белоснежные чайки с мощными желтыми клювами. Расселись на заборах, лежащих на берегу бревнах – племя утвердило себя на жизнь для потомства.
Через две недели ругани с отцом Колька собрал чемодан, уволился из леспромхоза и, поцеловав только мать, уехал в город.
– Бессовестный! Выжил ребенка из родительского дома своими нотациями, – плакала, утирая слезы мать.
– Молчи! Это у вас с сынком всё хорошо, как у кобеля нашего Кучума. Сунул, вынул и забыл, сколько их на псарне. Люди мы, Человеки! – всего-то говорил отец. Он собрался однажды под вечер и пошел к Светлане Ивановне с покаянием за сына. Сын уехал, отрекся от всего, а он будет помогать Ларисе и тому, кто родится, внуку или внучке, – это он решил твердо.
Светлана Ивановна открыла дверь и не удивилась визиту отца, как будто ждала этого:
– Здравствуйте, проходите…
Отец присел на стул. Светлана Ивановна ходила по комнате, ждала, что он скажет.
– Светлана Ивановна…
– Не надо, я все знаю: ничто не подействовало на сына, знаю, что он уехал… Вот и мы отправили Ларису к бабушке на Украину – там рожать будет. Зачем тут людям глаза мозолить, от расспросов краснеть? Там на Украине мама моя живет в Мариуполе, родственники помогут. Коля ваш пусть не печалится, пусть счастлив будет.
Она плакала беззвучно, вытирала слезы.
– Но я буду дедом и не собираюсь отказываться от ребенка. Я буду помогать им. Я прошу вас дать мне ее адрес.
– Незачем все это, причем тут вы? Я спрошу у дочери, но, боюсь, она такого же мнения будет.
Колькин отец вышел от опечаленной родственницы совсем придавленным, не сразу сообразил, что надо надеть шапку, шел и ругал в душе непутевого сына.
Шли годы. Город принял Кольку. Женился Колька по любви. С будущей женой он познакомился в ресторане. Искра меж ними зажгла пожар в молодых сердцах. Колькино сердце пронзила стрела Купидона: он понял – это то, что он ищет. Свадьбу сыграли через полгода, как они познакомились.
Родителями жены были уважаемые люди города. Тесть был директором строительного предприятия, мать – известный в городе врач. Колька по настоянию тестя перешел работать к нему личным водителем. Конечно, не без тестевой помощи получил сразу двухкомнатную квартиру, тем более, что молодые уже ждали ребенка. Для Николая все это было как в сказке. Радость переполняла сердце, когда родилась дочь. Назвали Яной.
Не прав был Колькин отец, когда говорил, что любовь – это первые две недели, а потом начинается жизнь. Колька любил свою жену целый год, как они познакомились. Жену звали Таисия, она была красавица, стройна, умна и имела высшее образование, но совсем не приспособлена к быту. Без бабушки и мамы она не могла готовить на кухне, делать в доме уборку, стирать белье и прочее. Колька все это терпел стойко: мыл полы, пылесосил паласы, удивлял жену своей кухней. Откуда брались силы? Он убеждал себя, что вот-вот жена придёт ему на помощь, днём что-нибудь сделает сама, чтобы ему вечером отдохнуть. Колькины намёки по поводу работы приводили её в раздражение. Муж пытался её учить, но из этого получались скандалы. Он приходил с работы голодный и усталый, а она же говорила ему: «Поищи что-нибудь в холодильнике или сходи в столовку – у меня роман интересный, хочу дочитать».
Она днями лежала на диване, занималась то маникюром, то педикюром, очередной роман валялся на пыльном полу. О любовь, где ты? Колька терпел, он держал себя в руках из последних сил, но момент, когда что-то лопнуло, настал, и он накричал на свою беременную жену так, что поднялась пыль с новых антресолей их новой стенки. Жена заплакала и позвонила папе. Папа приехал и пообщался с Николаем. Коротко сказал зятю тесть: «Как мы тебя подобрали, так и вышвырнем! Чтобы это в последний раз было, парень!»
Колька смирился и с новыми силами взялся за семейную жизнь. Он хотел выстроить новый мост в отношениях с женой, даже начал любить жену с новой страстью, но она была холодна, а иногда говорила прямо в лицо «деревня». Как прожил он с ней двенадцать лет в однообразной жизненной рутине, он и не понял. С женой они стали чужими людьми: каждый сам по себе, и давно даже семейное ложе их уже не объединяло. Беды покатились, как мячик с горки – пришли лихие времена.
Развал страны с затянувшейся перестройкой сломал прежние устоявшиеся связи как на производстве, так и в жизни людей. Богатые родственники Колькиной жены собрались уехать далеко и навсегда. Колькин тесть продал предприятие: он был его владельцем и назывался «хозяином». Поменял он старую жену на молодую, а после выехал на постоянное место жительство в Израиль. И в знак всего нового, что вело к мечте и благополучию, поменял фамилию и стал называться Мина Вульфович.
Колька остался без работы. Жену свою он не видел по неделям, она жила у мамы. Дочка разрывалась между отцом и матерью, но, в конце концов, мать все-таки победила. Колька остался один. Однажды ему пришла повестка в суд: жена подала на развод, объяснив по телефону, что полюбила другого. Развод прошел цивилизовано, без упреков и обвинений. Не было в сердце у Николая ни боли, ни сожаления, только было жалко дочку, которую он любил и не желал, чтобы у нее был другой папа. Суд был на стороне матери. Много значило, что Колька был безработным, стоял на бирже труда, а работы все не было.
Одиночество он стал заливать алкоголем: пытался убежать от самого себя, все начать заново, часто стал вспоминать Ларису и где-то растущего сына. В пьяном мороке он мчался к Ларисе, в сотый раз просил прощения у сына, а утром на самом деле искал их в пустой квартире. «Все, схожу с ума!» – говорил он сам себе и шел за новой бутылкой.
Однажды утром на пороге появилась жена, она держала за руку дочь, которую привезла к Николаю. Жена заявила, что девочка вышла из повиновения, устроив войну с отчимом, что тот поставил условие – или он, или она. Жена была беременная. Было видно, как она дорожила новым мужем и новой семьей.
Тут-то Колька и взялся за себя. Понимая всю свою ответственность перед дочкой, очистил кухню от пустых бутылок. Работу он нашел не сразу, но нашел – дворником, и все свои силы направил на воспитание дочери.
С отцом Колька давно помирился, родители помогали ему деньгами, продуктами – везли помощь в город из своей глуши. Он все чаще вспоминал Ларису, представлял, как бы сложилась их жизнь, она становилась ближе ему, он ловил себя на мысли, что часто думает о ней и о сыне – не мог отогнать от себя эти мысли. Слухи доходили до него, когда бывал он в своем поселке, что у Ларисы от Николая родился сын. Она давно вышла замуж и живет в Мариуполе. Однажды родственник Ларисы, ее двоюродный брат, при встрече с Николаем сказал:
– Николай, а сына твоего Романом зовут, он на тебя как две капли воды похож, если хочешь, я принесу тебе его фотографию.
Сердце его тогда зашлось, как будто он падал с высоты, и куда упадет, знал один Бог. Он ответил родственнику:
– Принеси…
А сам боялся этого и на завтра уехал из отчего дома, где гостил. Светлана Ивановна погоревала без дочери, собралась и уехала на строительство БАМа.
Жизнь в городе становилась все трудней. Колька все чаще приходил к мысли, что надо возвращаться в родительский дом. Дочка училась в десятом классе, денег постоянно не хватало, но если сдавать квартиру, то можно продолжить учить дочку так, как она хотела – в институте.
И снова к Кольке заглянула беда. Позвонил родственник: «Коля, выезжай на похороны, умер твой отец».
Отец умер во сне. Колька окончательно решил переезжать. Матери, уже совсем старенькой, требовался помощник по дому и уход за ней. В этот год, когда схоронили отца, его дочь Яна окончила среднюю школу. Она успешно сдала ЕГЭ и подала документы в институт. Колька сдал квартиру, официально поручив вести дела фирме, и выехал на родину к старой матери.
Работы в их поселке тоже не было, но ежемесячные отчисления позволяли Кольке жить вместе с дочкой, к тому времени поступившей в ВУЗ. В родном доме и стены помогают: Колька стал искать работу по найму – где забор поправит, дрова переколет, баню срубит или крышу перекроит. Зарабатывал он этим прилично и откладывал дочке на учебу. Водку Колька давно бросил к черту в пасть: как стал один дочь воспитывать, то забыл и отрубил от себя навсегда проклятую.
Так прошло еще пять лет. Дочь Яна окончила институт и стала адвокатом, приехала с мужем в их дом. Бывшая жена Николая с новым мужем родила уже двоих детей. До Николая доходили слухи, что новый муж её поколачивает. Дочь Яна даже выезжала к матери, чтобы разобраться с отчимом. Приехав от матери, Яна долго молчала. Потом сказала:
– Папа, нам придётся забрать малышей к себе. Мать пьёт, с отчимом дерутся и оба не работают. Бабушка Вера умерла, и жить не на что стало, они все жили на бабкину пенсию.
И Николай ответил: «Забирай, дочка, братьев – дом у нас большой, мы с тобой в ответе за детей».
Николая всё чаще посещала тревожная мысль о Ларисе и сыне Романе: как они там, живы ли?
Ему как-то раз пришлось работать по найму в доме, где когда-то проживали Светлана Ивановна и Лариса. В те годы он был любим! Он смотрел на окно, на дверь и на порог, который когда-то был припорошен снежком. Вспоминал, как Лариса открывала звенящий и тугой крючок. Он вспомнил даже, как мягко и плавно, с тонким скрипом открывалась дверь, и тёплые, мягкие руки Ларисы обвивали его шею.
Да, он был любимым и желанным. Он оглядывал свою жизнь и не находил в ней света. Не было радости, чистоты. Он заплакал, уткнувшись в хозяйский строящийся забор. Колька спрашивал себя в который раз: почему, он так поступил? И не находил ответа: да, хотел быть свободным, испугался трудностей семейных, не любил»? Все это казалось ему таким мелким, и невесомым, он не находил себе оправдания… Вот она, его свобода: с дочкой, со старой матерью на руках, одиночество, впереди старость, и нет ему, сорокапятилетнему мужику, просвета. Хочешь – сейчас помирай, а хочешь – через лет двадцать? Ничего не изменить в его жизни уже.
Колька часто ходил к отцу на кладбище, разговаривал с отцом, и ему в кладбищенской тишине становилось легче. Ограда у них на кладбище была большая, все родственники в одном месте, ближе к столу – отец.
Колька садился на лавочку за поминальный стол, часами слушал шелест венков, он смотрел на фотографию отца. Отец смотрел на сына своими печальными глазами. И когда Колька вставал и отходил в угол большой ограды, отец, как будто, не отводил от сына своего взгляда, и, казалось, голос отца ему говорил: «Я с тобой, мой мальчик!»
Решение пришло сразу и без поворотно, ему надо быть рядом с ними, просто рядом, видеть их, может помочь, он обязательно разыщет их, упадёт в ноги этим родным людям, чтобы за всё попросить прощенья.
2015 г Конец
Молотков А.
Люди труда всегда в почете!
Приехал на Родину, узнал, что хороший мастер по печам умер, мы его и все звали Ягода-Малина, хороший был человек, это о нем память.
Ягода-Малина
Рассказ
Мы не знали ни фамилии его, ни имени, ни отчества. Его смерть собрала нас на кладбище, куда мы пришли проститься с ним. В жизни все звали его Ягода-Малина. Наш поселок расположен у самого берега Байкала. С правой стороны посёлка протекает и впадает в Байкал река Баргузин. Наш посёлок так и называется Усть – Баргузин.
В посёлке проживает трудовой народ: рыбаки, лесорубы, работники Забайкальского национального парка и множество людей других профессий. Живем дружно, любим свой край, свою природу, Байкал и речку Баргузин. Дома у нас все добротные, свои участки, а самое главное в доме – это русская печь. Без печки у нас не проживешь. Печка и тепло дает, и хлеб печет, одежду сушит, а в русской духовке и баню устроить можно. Топят у нас печи только дровами: добро, тайга кругом. Не страшны ветра Байкала с русской печкой, да только мастера, что раньше легко в два дня могли поставить русскую печь, перевелись… Кто умер, кто бросил это трудное ремесло, а кто и подался в другие края.
«В наш атомный век, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, остался один на десять тысяч населения мастер-печник Ягода-Малина. Может, полупроводниковый робот под компьютерную программу и мастерит русские печи, но у нас пока таких нет. Так что Ягода-Малина на весь поселок – один печник.
Я помню: еще наши знаменитости «ходили ножками под стол», как у нашего магазина, что звали мы «Дежурка», люди хвалили печника Ягоду-Малину и записывались к нему в очередь на постройку печи.
– Вот сложил мне печь Ягода-Малина, двадцать лет как не нарадуюсь, – говорила одна. А другой добавлял:
– А мне тридцать лет назад сложил русскую печь, дек мы на нее молимся. Дров уходит мало, стряпает, печёт, а колодцы всего через два года почистим и все… Дай Бог здоровья Ягоде-Малине!
…Когда это было?
Давно, ответил я сам себе, глядя на пожилого сухожилистого мастера. Ягода-Малина все работал, каждый день. В подмастерьях у него внук, которого он ласково называет Сергуньком. Каждый день у Ягоды-Малины заказы. Там надо печь поставить, там свод у печи заменить, всем помочь надо, впереди – зима. Сергуньку лет семнадцать на вид. Он подает кирпич, месит глину, устанавливает отвесы и уровни, вникает в ремесло деда. Дед же ради внука старается, чтобы профессия не ушла из рода, есть, кому передать мастерство. Да и так помочь внуку деньжатами: иномарку Сергуньчик хочет купить. Вот дед и поможет. Настоящий дед – Ягода-Малина.
Если посмотреть на Ягоду-Малину в профиль и в анфас, можно смело сказать – сибирский крепыш. Среднего роста, нос картошкой, руки жилистые: как будто синие реки бежали через них в кирпич, и, казалось, что он не ощущал веса кирпича или привык к нему за годы работы. Лысый, серые добрые глаза и постоянная беломорина в углу небольших губ. Папироска даже не дымилась, но в чем-то помогала ему при работе. Носил постоянно одну и ту же шапочку, что когда-то носил Мурзилка из журнала. И не дай боже, если он ее, свою шапчонку, где-то оставит – не будет ни работы, ни покоя. Голос у него был тихий, но понятен всем.
В этот осенний день глава нашего поселения Борис Николаевич Землехватов замучил свою служебную машину «Волгу», разыскивая печника Ягоду-Малину. Наконец на улице Набережной, где Ягода-Малина докладывал трубу у печи, глава Землехватов перекрестился и сказал:
– Слава Богу, нашел я тебя, драгоценный ты наш Ягода-Малина. Скорей слезай ко мне, разговор с тобой на миллион!
Ягода-Малина собрал инструмент, стряхнул со штанов засохшую глину и подошел к мэру нашего поселения.
– Послушай меня, дорогой! – обратился уважительно мэр. – Газета наша «Гудок рыбозавода» приказала долго жить. Нет рыбозавода – растащили по гайкам, нет и денег – газету не на что содержать, два года я бился там наверху, чтобы копеечку нам выделили под новую газету, которая будет называться «Звон Баргузина». Ты понимаешь значение прессы для нашей стремительной жизни? Да еще ставку селькора выбил, нет, вырвал вот этими зубами. Он показал Ягоде-Малине свои вставные железные кривые зубы и замолк.
– А я тут причем? – сказал, недопонимая, Ягода-Малина.
– Ты помнишь старую рыбоохрану: дом там хороший листвяжный, но печки нет: растащили по кирпичику наши пролетарии. А я еще в том году племянницу в резервное жилье пустил, а она и невестку туда, и внука, и сына с новой женой: вот услужил родне! Выручай! В ноги упаду, но за два дня печь должна стоять, чтобы селькора туда заселить – едет уже смотреть жилье.
– А кирпич, глина, фурнитура – это надо, чтобы все было!
– За ночь все там будет, поехали, фундамент посмотришь.
И он увез на «Волге» Ягоду-Малину смотреть фундамент печки.
На следующий день Ягода-Малина с Сергуньком с инструментом явились на объект для возведения печи. Сразу можно сказать: сам дом был хороший, листвяжный, пять комнат. Окна все целые, но не было печки и даже мусора от её разборки. В крыше и в потолке, где была труба, виднелось осеннее дождливое небо. Мэр сдержал свое слово: имелось корыто для глины, стопкой высились новые кирпичи, сама глина целой кучей свалена во дворе, фурнитура, плита, уголок и проволока сложены в доме. Вопросов не было, и дед с внуком приступили к работе.
Через полчаса мэр Землехватов привёз в дом селькора Болобонова Владимира Меркулеевича. Селькор осмотрел дом, огород, принадлежащий этой усадьбе, одобрительно пожал руку главе поселения и сказал: «Надеюсь, печь дня через два будет готова? Я пока без семьи так поживу, поработаю над первым тиражом нашей новой газеты».
Он взял с собой ноутбук и удалился в дальнюю комнату работать или колдовать.
А Ягода-Малина с внучком уже подняли печь по пояс.
Через час, как только уехал мэр, Болобонов вышел из дальней комнаты с душистой сигаретой. «Перекурю», – сказал он и стал смотреть, как проворно Ягода-Малина мастерит печь.
– Хорошо, – сказал он и скоро ушел к себе в дальнюю комнату. На этот раз он вышел через десять минут с ноутбуком в руках.
– Молодой человек, – сказал он, обращаясь к Ягоде-Малине, – а где у вас перемычки?
Ягода-Малина посмотрел на него, улыбнулся, непонимающе заморгал серыми глазами, переспросил:
– Какие перемычки? Тут никаких перемычек нет. Тут топка-жар будет.
Селькор опять удалился в дальнюю комнату. Но не прошло и пяти минут, как он выскочил с ноутбуком в руках прямо на корыто, где Ягода-Малина набирал в ведро глину.
– Но, вот технология, покажи мне, товарищ, где ты скобки крепёжные ввернул?
Ягода-Малина все еще улыбался:
– Да какие скобы, пятьдесят лет изготовляю печи, первый раз слышу! Вот доложу до плиты, там заведу под вверх проволоку шестерку. Это, чтобы дверцу закрепить.
Но Болобонов не собирался униматься:
– Интересно, тут надо штырями на гайку тянуть, а он мне халтуру лепит, не знает все технологии в интернете, – и он поднес к глазам старика свой ноутбук: – Смотри, темнила, как и что прописано!
Ягода-Малина изменился в лице, видно было, как желваки заиграли на его скулах:
– Слушай ты, профессор, меня Николаевич попросил сложить печь, сложу, затоплю, а ты потом разбирай свои технологии, что и как!
Но селькор не унимался. Он принес свой мобильный телефон, и, сверкая фотовспышкой, стал снимать все: печь, колодца, глину, кирпич, Ягоду-Малину и Сергунька.
– Слушай, ты, человек, дай работать! Или иди на хутор, бабочек лови! – не выдержал печник. Селькор взревел:
– Деньги за халтуру взял вперед? А теперь горбатого лепишь?
– Какие деньги? – переспросил Ягода-Малина.
Он все понял. Собрал, не торопясь, инструмент, очистил свои широкие штаны от глины, смачно плюнул, выругался матом и с Сергуньком они ушли домой, оставив печь сложенной до плиты.
Не стоило обижать и наговаривать напраслину на такого честного человека, как Ягода-Малина!
Глава поселения мэр Землехвостов через пять минут приехал на своей служебной «Волге» прямо домой к Ягоде-Малине:
– Ягода-Малина, я вас умоляю, сложите печь ради будущего нашего поселка!
– Что? – спросил Ягода-Малина, – Какие ты мне деньги заплатил, что твой спецкор или селькор стыдил меня на старости лет?
Мэр засмущался, отводя глаза в сторону, и сказал:
– Работа моя такая – желаемое выдавать за действительное, уйду я в охранники, мамой клянусь!
Ягода-Малина плюнул в его сторону и сказал:
– Пока не наворуешься – никуда не уйдешь, вспомни, как ты рвался в мэры, сколько добра народу обещал, а на деле – все на себя и на родню свою. Сам и ложи печи вместе с товарищем своим по рыбалке. Ты мужик и селькор мужик, по компьютеру смастерите печь: технологию он всю знает.
Повернулся и ушел домой, заложив на засов ворота.
Порой у нас на Байкале бывает так тихо: нет ветерка, воздух недвижим, в это затишье падает снег. Снежинки большие плавно кружат, приближаясь к земле. И может даже показаться, как одна говорит другой: «Давай, подружка, посмотрим, как поживает селькор?» И видят они, как два мужика в белых рубахах, в глине, в пыли кирпичной, второй месяц мастерят русскую печь. Буржуйка у них топится – труба выведена в окно. Под столом и на столе пустых бутылок множество. Печь довели до потолка, но пришлось доской снаружи обшить: валится кирпич и глина не держит. Решили изнутри каркас шить тоже из доски, а когда затопят – дерево сгорит, а кирпич останется – это все внесли в технологию.
А через неделю дом бывшей рыбоохраны сгорел. Два друга, мэр и селькор, затопили свое творение. Да так их печь разгорелась, что один сказал: «Домна!», другой сказал: «Мартен!». И оба выскочили, забыв ноутбук, прямо в окошко, вынесли на плечах старинную раму.
Столетний листвяг горел, как порох. Пожарная машина была без колес, экипаж пожарников ловил налима на реке. Хорошо, что поблизости не было жилых строений. Люди сбежались посмотреть на красивое жаркое пламя. А кто-то смотрел, как мэр бил селькора. Потом селькор бил мэра. Из всего этого люди поняли, что это два друга готовили туристический домик для приезжающих к нам на Байкал иностранцев. Русская печь обрушила весь бизнес-план. Кто кому должен – приятели решают в Верховном суде Республики Бурятия, а рыбоохрана требует с них материальный ущерб в долларах, они тоже решили заняться бизнесом: места заповедные – собирай деньги за красоту природы.
Золотых рук мастер к весне заболел, и в марте мне сказали, что Ягода-Малина умер. Я пошел проводить его в последний путь. На кладбище, когда работники закапывали могилу, я тоже кинул горсть нашей байкальской земли и отошел в сторону к плачущей старушке:
– А вы не знаете, почему его звали Ягода-Малина?
Она вытерла слёзы с глубоких морщин и улыбнулась мне:
– До войны это было. Пошли мы в лес за дикой малиной. Нас ребятишек пятнадцать было. Пришли мы к малине, а Александр первый раздвинул малинник руками, а там медведь ест малину прямо с листвой и ветвями. Смотрят они друг на друга. Медведь здоровенный под два метра. Санька, царствие ему небесное, как закричит на медведя, как заматерится:
– Ты что, косолапый, нашу малину жрёшь, или у тебя деток нету, и сладенького они не хотят, – и по матерному на него. Вскочил медведь на все лапы, развернулся и побежал от нас. Только тогда мы дух перевели. А кто-то сказал:
– Ай, да Ягода-Малина, да тебя медведи боятся. Так и стали звать его – Ягода-Малина.
Я посмотрел на крест, на табличку, покрашенную серебряной краской. Иванов Александр Иванович 02.09.1929 – 15. 03. 2016 г. 87 лет отроду. А мы все – Ягода-Малина.
Конец
17.02 2024г.
Молотков А.
Когда небо было без туч
Рассказ
«Там порою чайка мне крылом махнет».
(Старинная песня)
Этого события могло и не быть, если бы моя бабушка Антонина Афанасьевна не захотела испечь пирог с начинкой из белой рыбы.
Мы живем на самом берегу великого священного озера Байкал. У нас в Усть-Баргузине рыбные блюда всегда на столе. Рыба здесь водится разная, а пирог с рыбой, да еще в вольной русской печке – «пальчики оближешь», как говорят в народе, и на самом деле это так. Белая рыба – это осетр, сиг, ленок, омуль, хариус.
На дворе стоял первый день лета, был праздник «День защиты детей». В голубом прозрачном небе светило яркое золотое солнце. На улице стало очень тепло, пахло: черемухой и дымом от маленькой печки в дедовой ограде, на которой варили очистки от картошки нашим курам. Вся округа слушала поздравления и музыку из черной висячей тарелки во дворе у деда.
Мы с моим другом Толиком, взяв в руки ножички-складишки, очищали от коры длинные сосновые деревца – заготавливали удилище для удочек. Нас, учеников, только вчера отпустили на длинные летние каникулы, и рыбалка была нашей страстью и занятием в эти счастливые дни до сентября. Мечты, которые весь учебный период были за партой, начинали сбываться.
Есть места в близлежащей округе, где мы вырубаем тонкие длинные сосновые деревья, лесник нам так и говорит: «Прореживайте!». Мы все знаем место по «солдатской» старой дороге на повороте, где из песка выступает пласт глины. Вырубишь длинную тонкую сосенку, очистишь от коры, – уда получается легкая, длинная. На нее привязываем с верхнего конца в расщелину леску, поплавок, грузило, крючок. Удочка готова, на все лето она будет неразлучна с тобой на рыбалке. За лето она высохнет, станет еще легче и послужит не один год, а если удочка фартовая, «счастливица», бережешь ее, у меня одна такая была, десять лет сохранялась, принося рыбацкую удачу…
– Валерий Васильевич! – зовет негромким голосом бабушка с широкого крыльца дома. – Валерий Васильевич, где вы?
Всю жизнь они на «вы» и не переделать их… В прошлом он: путейский инженер железнодорожных путей сообщения. Она повар, вернее шеф-повар, и вся жизнь их вместе, – и все на « вы».
– Тут, тут я, у куриц в загоне порядки навожу…
У деда большая усадьба: дом, огород, стайки, баня, летняя кухня, свой сад, где есть беседка и море малины и смородины.
Бабушка рассказывала, что после войны было голодно, жили трудно, и они со станции «Мысовой» переехали с малыми ребятишками к родственникам, к бабушкиной сестре бабе Лизе в Усть-Баргузин. Здесь на берегу Байкала земля хоть и песчаная, выделил сельсовет двадцать соток, рыбозавод дал лес на постройку, – живи, стройся… И как ни было трудно, они переехали. Муж моей двоюродной бабушки Лизы был в те послевоенные годы еще жив и работал бакенщиком на нашей реке Баргузин. По фамилии они Мешковы.
Бабушка стоит на крыльце и не видит за панцирной сеткой вольера деда, говорит в его направлении:
– Сходили бы вы, Валерий Васильевич, на рыбзаводской пирс, рыбаки рыбу сдают каждый день помногу. Вчера соседка наша Андреева Варька говорит: «У невода рыбаки мотню расшивали, омуля опять в Байкал отпускали, некуда уже сакать было. Людям по мешку раздавали, все набрали, кто на берегу был. Ребятишки маленькие и то по полмешка домой тащили».
– А где, Тонь, то тянули рыбаки? – спрашивает из вольера дед. Бабушка все равно его не видит, отвечает в пространство: – Да тут прямо на «сиговом»… Народу там полно было, загорают люди уже…
– Вода холодная еще, омуль не отошел в глубину, у реки кормится. Вот и ручейник уже расплодился, а рыбке покормиться хочется…
Дед любит пофилософствовать, развернуть свою мысль со всеми заключениями… Он податлив перед бабушкой и ее задачей, как бы ни философствовал, но пойдет выполнять бабушкино распоряжение. И так они живут уже более пятьдесяти лет.
– Неужели вы, Валерий Васильевич, рыбного пирога не хотите с сижком или с омулем, да и с налимом можно?
– Иду, иду, – в спешке что-то доскребает в вольере дед, выходит от куриц: – я только переоденусь…
Он идет в баню. Там в предбаннике у них раздевалка. Стоит большое старое трюмо с зеркалом, диван, дед говорит: «Подарок Валерия Чкалова!» Я как-то спросил:
– Вам, деда, Чкалов диван подарил?
– Нет, мы купили диван, когда Валерий Чкалов совершил свой героический перелет через Северный полюс в Америку, тогда мы и купили его с моей женою Антониной Афанасьевной в Улан-Удинском ЦУМе. В то время настоящую мебель делали из дерева, это теперь все из опилок, вот и живет диван полвека, еще вам достанется…
Дед мой противоположность моей бабушки: стройный, жилистый, лысый, глаза голубые, у него все лицо в морщинах, и когда он не бреется, серебряная колючая щетина покрывает его щеки и подбородок, скрывая эти борозды на лице. Что бабушке, что дедушке – за семьдесят, но они бодры, подвижны. Дед еще подрабатывает в детском садике «Золотая рыбка», возит ребятишкам на рыбозаводском коне Валете продукты, сам грузит, сам разгружает. Мы ему говорим: – Хватит дед работать, отдыхай!
– Скучно, – отвечает он, – без работы не могу!
– Я готов!
Дед вышел из предбанника в своем выцветшем пиджаке с нагрудными орденскими планками, в легких парусиновых с прошитыми стрелками брюках и кедах. Уж кеды он любил какой-то вечной любовью, надевал их на ответственные бабушкины задания.
– Я готов! Мешок я возьму, а «жидкая валюта» есть?
Бабушка зашла в дом. Через минуту она вернулась, подавая дедушке бутылку водки, на которой была синяя этикетка с названием «Московская».
Дед подержал ее в руках, заулыбался, сказал «Ух ты!» и положил ее в мешок, а мешок заткнул себе под мышку. Поправив на себе серую выцветшую фуражку, которая прикрывала его лысину, весело зашагал за ворота.
«О, солнце, солнце, ты так ярко светишь! И лучи твои греют землю. И снега в этом мире тают, и любовь моя с ними тает!» – напевал я английскую песню на русский лад, которую пацаны пели вечерами на лавочке под гитару.
– Завтра с утра на рыбалку пойдем. Еще крючков в сельмаге купить надо, – заключил Толик, когда мы уже заканчивали шкурить удилища. Дел оставалось: убрать за собой мусор, сжечь его в дедушкиной летней печке и привязать леску, грузило, поплавок, крючок…
За всем этим занятием мы провозились недолго и успели сбегать в сельмаг за крючками… Вдруг к дедушкиным воротам подъехал дядя Сережа Кузнецов, друг отца, на мотоцикле «Урал» с люлькой. Сзади него сидел дед. Они сняли мотоциклетные каски и стали вытаскивать из люльки мешок полный и мокрый, в рыбной чешуе.
– Вот спасибо, Сережа, хоть помог, где бы я с таким уловом справился?
Бабушка улыбалась приветливо, – довольная… Было видно, как она вся сияла. Она – светлая и лучистая женщина. От её серых глаз и улыбки исходило тепло. Она пополнела с годами (я видел ее фотографии в молодости), но ее полнота придавала ей спокойствие и уверенность в прожитом дне. Она прожила нелегкую судьбу: война, ожидание мужа с фронта с четырьмя малыми детьми. Поседевшая в постоянных заботах, она находила время, чтобы рассказать внукам сказку и приготовить все к завтрашнему дню.
– Проходи, Сергей, чаю хоть попей, я лепешечки утром испекла… Сейчас посуду под рыбу принесу с огорода, тут две ванны оцинкованных, надо водой холодной рыбу залить, – говорила бабушка у ворот.
Что делать с рыбой у нас на Байкале знают… Дядя Сережа помог деду высыпать рыбу по ваннам, от чая отказался, попрощался и уехал. А дед начал рассказывать:
– Вот рыбы нынче много – кормит нас Байкал. Лет пять таких уловов не было. Дошел я до парома, гляжу – в «лопатках» лодки рыбацкие показались. Жду, когда они с переправой поравняются. Баркас Леонида Крушинского рыбзоводской бригады, за ним на связке три лодки «палубницы», и все поверх заполненные омулем… К пирсу рыбзаводскому пошли на сдачу рыбы. Я, конечно, по бережку туда же. Я вам скажу, Антонина Афанасьевна, ваш подарок рыбакам – в самую пору, устали мужики омуля из мотни в лодки сакать. Бригадир Леонид Крушинский так и сказал: «Вовремя вы, Валерий Васильевич, с таким делом явились к нам, как бы сказать, с призом в виде бутылки «Московской»! Даем пятьдесят центнеров омуля своему родному рыбозаводу! Взяли мужики мой мешок, полный нагребли, я еще двух сигов попросил – люблю фаршированных, вами, Антонина Афанасьевна, приготовленных! Вот Сергея Кузнецова там же на пирсе встретил, он мне помог.
Дед высказался, было видно, как он старается весь перед бабушкой быть хозяином и добытчиком. Бабушка одобрила и похвалила его:
– Молодец, Валерий Васильевич!
И, кажется, не было для него лучшей награды, чем ее одобрение…
Он посмотрел на нас и добавил:
– А этот придурок, Сашки Патюкова сынок Колька, юнга, взял с корабля «Слава» весь мазут с машинного отделения и бухнул за борт. Поленился в емкость на берег таскать ведром, теперь ползатона рыбзаводского в мазуте, чайка там уже одна мучается, в мазуте вся, погибнет птица!
Мы с Толиком переглянулись. Затон рыбзаводской то место, где мы всегда рыбачим. Это сразу за пирсом рыбзаводским, по течению. Место прикормленное, рыбное, мы даже пацанам не даем там купаться. На этом месте хорошо ловятся елец, лещ, сазан на сырую картошку, щука хоть на блесну, хоть на живца. Нам было обидно и больно: впереди целое лето, мы сделали удочки и на тебе, Колька Панюков « удружил»…
Колька Панюков постарше нас. В школе мы часто играем в футбол вместе, там у нас футбольное поле, ворота как надо – по правилам. Колька хорошо играет в футбол, прямо это у него дар Божий. Его отец, дядя Саша Панюков, капитан корабля «Слава» нашего рыбозавода. Корабль собирает рыбу в населенных пунктах по Байкалу, а также с Чивыркуйского залива, где расположен населенный пункт рыбаков Курбулик. Отец Кольки мечтает, что сын его непременно должен стать моряком, капитаном. Он уже второе лето берет сына юнгой на свой корабль «Слава».
Рев и крик раздаются на корабле «Слава» – это капитан учит юнгу, как на корабле надо работать: драить палубу, отдавать швартовы, мыть гальюн и даже как ведром зачерпнуть воду за бортом. Мы ходим на рыбалку, играем в футбол, вечерами собираемся у костра на берегу Байкала, поем песни под гитару. Колька на корабле несет сторожевую вахту, и завтра его отец что-нибудь придумает для юнги. Кольке это все надоело, но отец у него строг. Наверное, в отместку Колька «выкидывает кренделя» батюшке: то морским песком рынду покарябает, то ведро утопит за бортом, а раз даже неочищенную картошку в суп бросил… Но отец тоже упорный, говорит: «Я сделаю из тебя моряка, потом мне спасибо скажешь!»
– Порыбачили!!! – сказал Толик, а я спросил деда: – Как можно спасти чайку?
Да, я чувствовал себя виноватым перед этими птицами. Случилось это прошлым летом. Мы рыбачили на нашем затоне, я поймал небольшого ельца на удочку, поленился снять его с крючка. Бросив на берегу реки удочку, побежал к ребятам купаться. Это недалеко, где у нас была нырялка. Вернувшись, я не нашел своей удочки. Удочка была далеко в стороне, а на конце лески, заглотив рубку, сидела большая белая с желтым клювом чайка. Пока я купался, чайка, пролетая мимо, увидела рыбку и проглотила ее. Мы долго бились, чтобы освободить чайку от рыбки и крючка, но у нас ничего не получалось. Птица была голодна и так заглотила рыбку, что мы побоялись поранить ей желудок, тянувши. Мы обрезали леску возле клюва и отпустили птицу. Витька Курохтин был постарше нас, он сказал: «У чайки желудок гайки железные переваривает, а крючок и леску она и не почувствует».
Откуда знал он это? Мы поверили ему: у него мать была доктором в больнице.
После этого случая я часто думал, выжила наша чайка или нет? И долго на сердце томились сомнения, мучили жалость и вина за вред, нанесенный птице.
– Деда, а как ее можно спасти? – спросил я.
– Удилище вы очистили, оно вам пригодится в этом деле. Вот я вам тонкую проволоку дам, привяжем ее на конец удилища, а на проволоке сделаем петлю. Вы заведете петлю за туловище чайки и подтащите ее помаленечку на себя. Только за шею птицу не берите, петлей задушите беднягу…
Дед сходил в огород, принес тонкой проволоки, которую я сразу узнал. Это была та проволока, из которой мы с дедом делали зимою петли на зайцев. Мы ставили их по тропам в нашем лесу возле горы Братья.
Вот наша новая удочка была готова. Мы немного потренировались, выполняя все рекомендации деда. День солнечный и безветренный перевалил на вторую свою половину – знак, что лето пришло! Иногда легкий ветерок с Байкала играл нежной зеленой листвой тополей, возвышавшихся над домами. В оградах у местных жителей слышались песни, играла гармошка, уже все отсадили картошку, люди отдыхали, был день, к тому же воскресный.
Мы подошли к нашему любимому затону и сразу увидели Кольку Потюкова, юнгу с корабля «Слава».
Колька сидел у края воды и большим дуршлагом черпал мазут в большое ведро, сделанное из железного бочонка. На нем была тельняшка в пятнах машинного масла. Колька – блондин, и на его лысой подстриженной голове были заметны две полосы от черного мазута. Он весь загорел на солнце и походил на гриб мухомор. Его лицо отливало красной медью, а нос был весь в высыпавшихся веснушках. Рукава тельняшки были закатаны по локоть, а кисти рук черны, как у негра. Колька был высокий, с длинными ногами, но худой настолько, что его лопатки острыми буграми выделялись под тельняшкой.
Мы подошли к нему, но глазами искали в этой черно-фиолетовой жиже замученную птицу. Жирное мазутное пятно простиралось метров на тридцать, но оно было уже огорожено толстым веревочным канатом, на котором были часто нанизаны пенопластовые разноцветные поплавки.
– Что тут произошло, Коля? – спросили мы у убитого горем парня. Колька молчал, только шмыгал носом.
– Что молчишь, Коля, или твой корабль потерпел крушение?
– Пацаны, помогите, батя сказал: «Собирай, не соберёшь мазут – выпорю!»
Мы на Кольку уже не обращали внимания, потому, что увидели недалеко от суши шевелящийся черный комок… Только желтый клюв выдавал в этом комке живое существо.
Мы приступили к операции спасения.
Дед был прав. Чайка впитала своими перьями столько мазута, что мы не в силах были поднять ее своей удочкой. Подтащили птицу к берегу, хотели взять ее в руки, но она своим мощным клювом стала клевать нас. Колька-юнга тем временем ходил за нами и ныл: «Пацаны, помогите, отец убьёт!»
Мы успели поймать руками птичий клюв и завязать его тряпкой. Щепками, которые валялись тут же на берегу, стали соскребать с чайки мазут.
– Коля, у тебя ветошь обтирочная на корабле есть?
– Есть, есть, пацаны, я принесу, вы только чуток помогите! Вот я натворил!
Пришлось нам пообещать Кольке, что поможем. Он побежал на корабль за ветошью. Когда Колька вернулся, я стал обтирать чайку тряпками, а Толик – помогать ему собирать мазут в большое ведро.
Чайку мы освободили от большой массы мазута, но между перьями на груди и под крыльями его было еще много, чайка плохо поворачивалась и совсем не держала голову.
– Надо нести ее домой. Бабушка или дедушка подскажут, что надо делать дальше, – предложил я Толику.
– Пока, Колька! Теперь ты уже точно исправишь свою ошибку. Тебе начать да закончить – совсем немного осталось. Да больше так не делай: ни птиц, ни рыбы не будет у нас, если ты будешь мазут за борт сливать. Дай нам честное слово «морского волка», что делать так больше не будешь!
Колька клялся и божился, что он больше так не будет делать, только дайте закурить или зобнуть бычка раза два.
– Мы курить бросили: побаловались, и хватит… И ты береги здоровье, Коля, в футболе это необходимо.
Он посмотрел на нас печальными синими глазами, наверное думал, какой еще трудовой повинностью накажет его отец.
Мы пошли к бабушке, завернув чайку в тряпку. Нам было понятно, что делать, но что применить для очистки перьев мы не знали. Чайку мы принесли и положили на наше крыльцо, позвали дедушку и бабушку. Они вдвоем вышли к нам, осмотрели птицу. Бабушка сказала: «Я вам дам бутылку с растительным маслом, дам тряпки. Мочите маслом тряпки и отирайте с перьев у чайки мазут. Только маслом подсолнечным можно ее очистить, от химии или бензина она погибнет».
Дед, конечно, этот совет утвердил и принес нам старую рубаху и немного нас просветил: «Нате рвите, оттирайте, пока не затемнело на улице! А чайка возрастная, видите – клюв у нее желтый? Клюв у чаек на второй год только желтеет… У молодой чайки клюв черный!»
Мы взялись за работу. К нашему удивлению, мазут хорошо собирался на смоченную подсолнечным маслом тряпку. Толик сказал: «Век живи, век учись. Да что бы мы без бабушки делали?»
Пёрышки и перья нашей птицы стали приобретать свой естественный вид, но оставались бурые, желтые и липкие. Чайка уже сама сидела и поднималась на своих перепончатых ногах. Когда мы очищали ей лапы, то обнаружили на ноге колечко. Легонькое, аккуратное, и не железное, а пластмассовое. На нем был номер А-80625. Мы позвали деда.
Дед посмотрел через свои очки на кольцо, записал номер, в заключении сказал: «Да, ребята, птица важная, где-то была окольцована. Надо сообщить орнитологам в Листвянскую академию наук, где работает бабушкин племянник Шалашов Ярослав Иванович. Письмо я ему напишу, посмотрим, где её окольцевали? Интересно, где зимует, а гнездится у нас…»
«Ночь, и в черные одежды нарядилось всё как прежде». Дальний лес и горы, крыши домов, строения не различались в темноте. Летучая мышка несколько раз пролетела над нами. Дед включил свет, который осветил широкое крыльцо веранды. Мы и дальше оттирали птицу от мазута. Множество мошек с крылышками окружили своим хороводом источник света – плафон. Мошки с упорством бились об него. Чайка наша уже имела приличный вид, расправляла сама крылья и все время рвалась от нас в полет, пыталась клевать перевязанным клювом наши руки.
– Ну, все, ребята, несите ее к курицам в вольер курятника, пока перо она не поменяет или не почистит, она не взлетит, уж больно сильно мазут пропитал перья.
Да и в самом деле, мы давно уже находились у бабушки и дедушки, а дома нас могли потерять, а завтра мы хотели идти на рыбалку. Мы отнесли чайку в вольер к курицам, развязали ей клюв, а с перепончатых лап сняли веревку. Чайка сразу стала клевать руки своих спасителей и зашипела, как змея.
– Дикая морячка, Петька наш тебя перевоспитает! – сказал дедушка и закрыл куриный вольер на засов.
Дома нас потеряли, но когда выслушали мой рассказ о спасении чайки, все поняли, а шестилетняя сестренка Ира попросила меня, чтобы я ей завтра показал чайку. Я пообещал, конечно.
Ночью мне приснился сон: Наш дядя – человек-праздник, и когда он приезжает к нам, он привозит всегда какие-нибудь подарки. Дядя работал научным сотрудником Иркутской академии наук по изучению флоры и фауны Байкала. Академия расположена в городе Листвянка, где дядя проживает с семьей. Во сне я видел, как дядя привез мне большую белую чайку. Вынув ее из мешка, он сказал: «А это, Санька, тебе, дрессируй, в цирке выступать с ней будешь? В мире ни у кого нет номеров с чайкой, а у тебя будет».
Я проснулся, долго лежал и думал: «Что означает этот сон? Завтра у бабушки спросить надо, она у нас все сны раскрывает». Конечно, потом я уснул и проспал рыбалку.
Летнее солнце уже светило и грело. В тополях, укрывшись за шелково-зеленой листвою, чирикали воробьи. Родители ушли на работу, а на столе лежал листок-перечень, что надо сделать до их прихода. Самое трудное – это было накачать ручным насосом две бочки воды на полив грядок. А самое главное – это смотреть за шестилетней сестренкой. Сестренка давно проснулась и играла своими куклами.
Быстро позавтракав, я приступил к самому трудному – стал качать воду в бочки. Мне не терпелось побежать к бабушке и посмотреть, как там наша спасенная чайка. Когда я начал качать вторую бочку, наполняя ее водой, пришел мой друг Толик – он тоже проспал рыбалку. Мы заполнили бочки водой, взяли сестренку за ручки и пошли к бабушке смотреть чайку. Сестренка была недовольна, что ее оторвали от игры с куклами, но, слушая нас, задавала вопросы:
– Кто такая чайка? Зачем вы ее от мазута очищали? А что ей у куриц надо?
На все мы ей отвечали и добавляли:
– Вот пойдём с нами, посмотришь!
Дом наших бабушки и дедушки был недалеко, через две улицы направо. Пока мы шли до них, моя сестренка Ира задала нам столько вопросов, что мы сами не знали на них ответов.
В ограде нас встретил дедушка, он держал в руках метлу: ею он подметал ограду.
– Как, деда, наша чайка, что она делает? – спросили мы. Дед махнул рукой и ответил: – С петухом дерутся, видать, кто главный доказывают курицам.
Мы все вместе и сестренка вошли в вольер, прикрыв дверь, чтобы курицы не выбежали.
Перед нашими глазами открылась картина: чайка сидела на своих перепончатых лапах возле эмалированной миски с водой, а вокруг неё и миски кругами ходил наш Петька, весь взъерошенный, клокочущий, как вулкан. Одним своим глазом косился на чайку, другим на куриц, что сбились в кучу в дальнем углу вольера. Петька чувствовал, что мы его друзья и не дадим в обиду хозяина курятника. Подскочив сбоку к чайке, он запрыгнул на нее, но мощный удар желтым загнутым клювом опрокинул его на спину. Петька на спине поболтал ногами в воздухе, а когда перевернулся и встал на ноги, бросился к курицам в круг под насестом. Он еще долго прыгал и издавал грозные кличи, показывая свое недовольство. Через некоторое время он снова подскочил к чайке, клювом и ногами разбрасывая подстилку и, как бы говоря, что, вот так ищи зернышко, как я… Как только он приблизился к чайке совсем близко, получил мощный удар (птичий хук) и снова улетел под насест. Нам почему-то стало жалко нашего Петьку. Он один держал под своим присмотром двадцать куриц, и все они были довольны и слушались Петьку.
Вольная птица чайка иногда вставала на свои перепончатые ноги, делала круг вокруг тазика с водой, клацала клювом, как бы говоря: «Ну и куда вы меня поселили? И где тут речка? Где Байкал? Это не для меня!». Ее перо было желтого цвета и липкое, ясно было, что ей надо принимать зольные ванны – чистить перья.
Я спросил деда: – Может, деда, пересадим ее куда-нибудь, а то Петьку жалко?
– Куда, Саша, пересаживать? Ванна с золой у куриц, а с петухом чайка еще, как братья будут. В моей молодости журавль с курицами жил всю зиму. Давно это было, когда я в школе учился… Весной его выпустили на волю: крыло у него за зиму срослось. Не бойся, все будет нормально.
Сестренка моя, широко открыв глаза, смотрела на загадочную птицу и крепко держала меня за руку. Она посмотрела на чайку, потом на нашего петуха Петю и сказала:
– А эту птицу зовут Кукух??? Нам про нее воспитательница Вера Ивановна сказку читала!
Мы переглянулись:
– Точно, Ира, как же мы забыли, это птица Кукух из сказки! Она потом еще в лебедя превратилась, когда выросла, и улетела, – дополнила сюжет сестренка.
Так из-за сказочных воспоминаний моей сестренки мы стали звать нашу чайку Кукух.
Бабушка вышла во двор:
– Мойте, ребятишки, руки, пойдем пирог пробовать, и домой маме с папой возьмете!
Я спросил бабушку про сон.
– Птица в подарок от дяди! – она улыбалась, – Птица – это весть, известие, подарок – это благодарность от дяди. Да то и верно, тебе должно это присниться. Дед вчера дяде Славе в Листвянку целую поэму в письме писал. До часу ночи все свет жег. Вот и весточка. Твоя чайка – ждите ответа. Так моя любимая бабушка растолковала мой сон.
Прошел уже месяц, как спасенная нами чайка живет с курицами в вольере. Петух и курицы уже не смотрят на нее, как на монстра. Каждый занимается своими делами. Бывает, что наш Петька позабудется, подскочит к чайке и начинает ее учить, как надо искать зернышко. Чайка посмотрит на него и на подбегающих к нему куриц, клацнет клювом, как бы говоря: «Нашел дуру, сам ищи в навозе свои сладости, а мне ребята принесут свежей рыбки».
Мы с Толиком каждый день ходим на рыбалку. Задача наша простая – как можно больше наловить рыбы. Мы заметили, что чайка лучше глотает мелкую рыбку, и для этого нам пришлось на наших удочках крючки перевязать на «заглотыши».
Мы приходим, даем чайке рыбу и смотрим, как она заглатывает по одной рыбке, наполняя свой зоб привычной пищей. Она каждый раз с благодарностью смотрит на нас своими желтыми круглыми глазами. Наша чайка стала совсем белая, перья ее очистились, стали красивыми. Мы видели, как она запрыгивает в корыто, в которое дедушка каждый раз подсыпает древесной золы. Это делается для того, чтобы курицы выгоняли из пера паразитов и чистили свои перья. Наша чайка подсмотрела это у куриц, и теперь она – белая. Красивая птица с мощным желтым клювом и красными перепончатыми лапами.
Вот и прошло уже пол-лета. Наступили жаркие июльские дни. Мы уже реже ходили на рыбалку. Купание, походы на пески, где у нас была своя «тарзанка», сбор ягод «шикши» (водяники) – все это отвлекло нас от чайки. Живет, кушает, с курами – мир, что еще надо для счастья?
Бабушка моя, хозяйка прилежная, стала не досчитываться куриных яиц:
– Интересно, Валерий Васильевич, двадцать куриц – десять яиц должно быть каждый день! Курица через день несется, а тут пять, три? Посчитай куриц, может какая на яйца села? Чтобы клокчела, я не слышала… А ты посматривай, может, кто их ворует? Шучу, шучу, – сама испугалась своей шутки бабушка.
Дед негодовал: он и сам заметил, что яиц становится все меньше. Дед решил проследить. Ждать пришлось недолго. Как только курятник наполнился задорным квокчетом курицы – радостью куриной, которая снесла яйцо, дед тихо подошел к гнездам и увидел все…
Наша чайка, которую мы все давно звали любя Кукух, сидела на курином гнезде и держала в своем клюве яйцо. Она спрыгнула с яйцом в клюве на пол, задрала голову вверх и заглотила яйцо полностью, оно провалилось в её зоб. Видно было, как яйцо в области шеи лопнуло, и она срыгнула на пол только чистую скорлупу. Подбежали курицы и склевали скорлупу, чуть не дерясь друг с дружкой.
Дед, сказал: – Хе-хе, да тут целая банда работает по уничтожению моего добра!
– А вы что думали, Валерий Васильевич, она вам яйца нести будет или сама на яйца сядет? – воспитывала деда бабушка, – Отсади ее куда-нибудь или выпускайте на волю…
– Будем выпускать на волю! Ребят дождемся, как с речки придут, – сказал дед твердо. Бабушка в такие решительные минуты молчала, лишь посматривая на деда. Мы пришли с речки во второй половине дня, принесли чайке рыбы. Дед встретил нас строго и торжественно объявил: – Семейный совет решил: все, ребята, чайка выздоровела, перо почистила, теперь ее в самый раз на волю выпустить. Птица дикая: надо чтобы она не отвыкла от своей жизни.
Мы стали возражать, нас пятеро внуков, и просить деда, но он не собирался поддаваться на уговоры: – Птица должна идти в свою природу!
– Уж сколько она яиц куриных съела, пусть спасибо говорит, пора и честь знать! – подхватила бабушка решение деда.
Дед надел рабочие рукавицы и пошел в вольер ловить чайку.
Чайка по прозвищу Кукух совсем не сопротивлялась. За время, проведенное в вольере, она привыкла к жителям дома, она уже не клевалась и не шипела. Дед посадил ее на разделочный стол, который стоял тут же в ограде, и отошел в сторону. Все мы смотрели на чайку, а чайка – на нас… Перья ее стали совсем белые, как снег, на конце загнутый клюв еще больше пожелтел, а ноги с перепонками стали красные. Ничто в ней не напоминало тот черный шевелящийся комок мазута.
Чайка посидела минут пять, не желая улетать, а может, мысленно прощалась с нами… Её желтые круглые глазки смотрели на нас с тоской. Наконец она разбежалась по столу, расправила крылья и поднялась над нашим домом, оградой и вольером с курятником. Петух наш Петя как-то странно закурлыкал, подавая чайке прощальный клич. А она сделала над нами три прощальных круга, качнула крылами и полетела в сторону Байкала. Бабушка наша смахнула слезу своим фартуком и сказала: «Лети к своим деткам, голубушка! Дались тебе наши яйца, так бы жила да жила».
А в воскресенье деду пришло извещение на посылку. Дед собрал нас всех внуков и сказал: «Идем на почту получать гостинец от нашего дяди Славы Шалашова».
Мы принесли небольшой фанерный ящичек домой, дед вскрыл его. И первое, что лежало сверху – это письмо, он стал читать его вслух: «Здравствуйте мои дорогие родственники (шло перечисление), вам благодарность от академии наук за спасение и сообщения о чайке. Большая белая чайка была окольцована пять лет назад: „Охотское море, бухта Авачинская“. Теперь вы знаете ее маршрут на гнездовье к вам на Байкал. Примите еще раз благодарность и маленькие подарки».
Нам с Толиком дед вручил новенькие квадратные фонарики с батарейками, деду пришли теплые китайские кальсоны, бабушке – платок, все остальное место занимали конфеты «Каракум», «Раковая шейка», «Три медведя». Сестренка заявила, что это все её. Мы все посмеялись и были счастливы.
Я стою на берегу нашего моря Байкал. Хрустальные прозрачные волны бросаются с шипением к моим ногам. Впереди до самого горизонта – синева и воды. В вышине – голубое небо и солнце, нет ни одного облачка на небе. Вдруг – надо мной белая с желтым клювом чайка. Она на бреющем полете, крылья её расправлены, чайка парит в воздухе. Она оглянулась, посмотрела на меня и вдруг махнула крылом… Я её знаю… Это мне привет из безоблачного детства.
- 21. 07.2023г.
- Конец
- Молотков А.
Однажды в полёте
Рассказ
12 апреля День космонавтики в память Ю. А. Гагарина
– Вот увидишь, полетит! – сказал мне Серёга Крушинский, мой друг из 3 «Б».
– Ты видел, как кукурузники с нашего аэродрома взлетают? Они разбегаются и набирают высоту навстречу байкальскому ветру. И садятся также навстречу ветру.
Серёга мой друг. Мы живём на одной улице через дорогу. Учимся в одной школе, только я в 3«А», а он – в 3«Б».
– Скоро День космонавтики и нам наша учительница Ольга Лукинична дала задание нарисовать Юрия Алексеевича Гагарина в ракете в космосе. Лучшие работы вывесят в актовом зале школы и дадут грамоту. Вот!
– А знает ли ваша Ольга Лукинична, что Юрий Гагарин сначала летал на самолетах всех конструкций, он был пилотом 1 класса. Потом его зачислили за хорошую учёбу в отряд космонавтов? – вставил в наш разговор свои знания Витька Курохтин.
Витька – пятиклассник, он тоже наш сосед. Мы идём из школы домой вместе и о многом успеваем рассказать друг другу. У Витьки отец – изобретатель. Его зовут дядя Миша, а когда о нём пишет наша местная газета «Баргузин», то называет его Самоделкиным, а мой отец зовет его – Миша Кулибин. Чего только не изобретал дядя Миша: вездеход по снегу и болоту, аэросани с пропеллером сзади, лодку на воздушной подушке, амфибию на базе инвалидки… Дед мой говорит про него – Молоток, хотя Молотковы – мы.
Витьки Курохтина отец хоть что изготовит в своей мастерской, мы тоже с Серёгой Крушинским решили ко Дню космонавтики изготовить свой самолёт. В день праздника 12 апреля мы мечтали пролететь над школой, покачать крыльями Ольге Лукиничне и всем ребятам.
С Серёгой мы думали так: самолет летит, потому что у него крылья, мотор, но и птица тоже летит, хотя у неё нет мотора, это значит – два крыла, скорость, мы спланируем и полетим.
У бабушки Паны (это Серёжкина бабушка) есть высокий сарай с длинной покатой крышей. Снегу выпало много, так что мы просто толкнём наш самолет, предварительно закрепив его на санках, и взлетим! Так же решили пропеллер на резине установить спереди, только надо будет накрутить его и застопорить. А как сделать закрылки и закрепить их на руль от велосипеда – эту мысль нам подсказал дядя Коля Кобелев, который подметал наш местный аэропорт.
– Ничего у вас не получится… – деловито сказал нам Витька Курохтин, – Мощности вашего двигателя не хватит, если вы решили резиной пропеллер раскручивать, как на моделях. У вас вес великоват, да ещё и вес самолета…
– Но модель летает, – возразил Серёга, – мы тоже спланируем, у бабушки сарай высокий. Ты лучше попроси, Витя, у отца пропеллер, я видел у него их много в мастерской.
