Триумфы и трагедии ХХ века
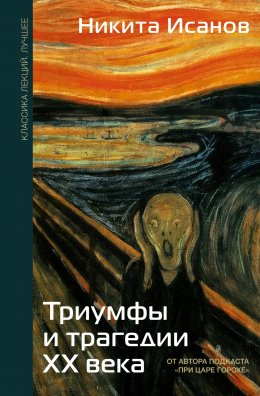
Серия «Классика лекций. Лучшее»
В оформлении переплета использована картина Эдварда Мунка «Крик» (1893 год, Национальная галерея, Осло)
В оформлении издания использованы иллюстрации из фондов: The Library of Congress, Bibliothèque nationale de France, The Royal Collection Trust Picture Library, Shutterstock, а также иллюстрации, созданные с помощью ИИ.
© Н.А. Исанов, текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
Чем больше лет мне становится, тем отчетливее я понимаю – все, что движет людьми на этой планете, – это любовь. Так было во все века человеческой истории, с гениями и последними отморозками, с артистами и простыми рабочими, с императорами и их конюхами. Ради, во имя, для или вопреки любви. Любовь разная, простите за тривиальность, к женщине, делу, власти, деньгам. Я убежден, все, что люди делают ежедневно, – это все из-за любви. из этого складывается история. Когда ты смотришь на событие, случившееся при царе горохе, сложно найти подлинные мотивы поступков людей, понять почему они сделали так, а не иначе. По большому счету все, что мы можем, – это лишь догадываться и строить гипотезы на основе тех или иных научных данных.
Ну вот, пожалуй, и все. На этом умные мысли, к сожалению, закончились. Все остальное, что вас ждет в моей новой книге, – самодеятельность. Так и знайте.
Но чертовски талантливая самодеятельность.
XX век невероятно сложный. Пожалуй, самый насыщенный век в русской истории. В 1917-м завершилась история Российской империи, через революцию и Гражданскую войну началась история СССР, а через 70 лет и его не стало, началась новейшая история России.
Но главное в истории – это люди. В этой книге я вам вновь предлагаю посмотреть на наше прошлое глазами тех, кто его создавал. На то, как они любили, творили и совершали ошибки. Это будут истории о гениях, злодеях и эпохах, которые они изменили.
Никита Исанов
Те, кто слушает подкаст «При царе Горохе», знают, что в историях, о которых я пишу или рассказываю, нет авторского вымысла. Моя задача – сделать историю живой и интересной, для этого я долго и тщательно ищу источники и научные исследования, воспоминания очевидцев и участников событий.
Мои слушатели часто подходят ко мне в конце лекций и говорят, что подкаст изменил их отношение к истории, кто-то всерьез увлекся и выбрал это своей профессией, кому-то мои истории помогли для экзамена или зачета, одни теперь в путешествиях обязательно заказывают исторические экскурсии, другие просто каждое утро начинают с моим подкастом.
А значит, я все делаю правильно. И делаю это хорошо. История – гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Стоит лишь посмотреть на нее горящими глазами. А если вы пробовали, но ничего не получилось, – дайте шанс этой книге. Обещаю, я постараюсь.
Посвящаю эту книгу вам, мои дорогие слушатели и читатели, моему редактору Натэлле, продюсеру подкаста Дарье Князевой, маме, бабушке, теще, тестю и другим, а также своему любимому сыну Льву и моей прекрасной жене Виктории.
Глава 1
Великий комбинатор. История настоящего Остапа Бендера
Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка.
И. Ильф и Е. Петров.Двенадцать стульев
«Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гулянье в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, – ни один из них не подходил к данной ситуации. И Остап придумал четыреста первый способ. Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками. Прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись: “Дело Александра Ивановича Корейко. Начато 25 июня 1930 года. Окончено (здесь пропуск) 193… года”».
Илья Ильф и Евгений Петров в «Золотом теленке» описали, как великий комбинатор Остап Бендер с помощью своего молочного брата и подельника Шуры Балаганова, а также некоторых других персонажей романа пытается завладеть деньгами подпольного советского миллионера Александра Ивановича Корейко. Но мало кто знает, что у Корейко, как и у многих других героев Ильфа и Петрова, был реальный прототип. Знакомьтесь – Константин Михайлович Коровко – король русских аферистов. Человек, сколотивший баснословное состояние из воздуха. (Кстати, обратите внимание, как похожа фамилия литературного афериста Корейко на фамилию реального афериста.) Константина Коровко, вторя Ильфу и Петрову, можно назвать великим комбинатором, притом комбинации его были устроены с блестящей точностью и основаны на чисто человеческой доверчивости и невнимательности. Когда пришло время суда, известный тогдашний (и очень удачливый) адвокат Иван Данчич обернул дело так, что Коровко-то и обвинять было особенно не в чем. А обманутые им сотни людей оказались не бедными и несчастными вкладчиками-акционерами, а всего лишь простодырами, собственноручно подписавшими договор, в котором никто никому ничего не должен.
Константин Коровко – невероятно дальновидный аферист. Нет, лучше сказать, что он не просто аферист, он аферист высшей пробы. Аферист-гений. Как и всякий талантливый мошенник, он умел показать все свои начинания с исключительно благовидной стороны и делал это так, что даже тени сомнения не возникало. Константин Коровко был хорошо знаком с высшим светом тогдашнего Петербурга. Ну или, по крайней мере, если уж не со всем светом, то со многими ключевыми фигурами. Так вот, выступая как-то в свете, он произнес пламенную речь, полную трогательной заботы о русском народе: «Я действую в интересах и во имя русского народного хозяйства, я хочу создать на русские деньги чисто русское предприятие для борьбы с иностранными предпринимателями, захватившими всю русскую промышленность в свои цепкие руки. Получение миллионов осуществимо при общей энергии и дружной работе. Наши предприниматели инертны и обтянуты плотным кольцом формальностей. Я хочу создать свободное от этих формальностей дело с помощью пайщиков». Так сладко и, главное, правильно говорил Коровко, что не верить ему никаких оснований не было.
Дело в том, что экономика России начала XX века – это время засилья иностранного капитала. Иностранцы активно инвестировали в русскую экономику – их привлекала возможность получать сверхприбыли из-за дешевизны рабочей силы и громадных сырьевых ресурсов. Иностранные инвестиции проникали в Россию через отечественные банки, становясь частью российского капитала. Деньги вкладывались в добывающую, обрабатывающую, машиностроительную промышленность. В свою очередь отечественных капиталов экономике сильно не хватало. Не стоит забывать, что конец XIX – начало XX века – это время промышленного подъема, к 1913 году Россия по объему промышленной продукции входила в пятерку крупнейших государств мира. Так что инвестировать было куда: создавалось огромное количество предприятий, еще больше только предстояло создать – вот Коровко об этом и говорил. Но только ему срочно нужны были деньги, огромные деньги, чтобы что-то большое и доходное построить.
Можно дальше нафантазировать, как все замечательно, что он нашел деньги, что-то грандиозное воплотил в жизнь, но… нет, Коровко аферист, чьи сладкие речи преследовали лишь одну цель – заработок. Заниматься бизнесом он, конечно, не планировал.
Родился Константин Михайлович 20 мая 1876 года в семье отставного есаула Михаила Коровко и его жены Екатерины, в станице Уманской на Кубани. Был он из приличной, но небогатой семьи, в 1898 году окончил курс в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства со званием ученого-агронома и в том же году поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, который окончил в 1906 году. В общем Коровко был человек не только талантливый, но еще и широко образованный, причем учившийся не где-то, а в петербургском институте. В довесок ко всему, Коровко еще и человек предприимчивый и, как покажет история, вполне себе беспринципный, готовый пойти на что угодно ради собственного обогащения. Его бы энергию да в мирное русло.
Санкт-Петербургский технологический институт
Многим эта энергия и вправду казалась полезной, пока не вскрылись все до одной махинации этого комбинатора, еще в студенческие годы получившего кличку Костя-инженер. В начале XX века, еще будучи студентом столичного института, решил Коровко в родной станице Уманской создать фарфоровый завод. В тех местах даже и сырья-то такого не было, но это было неважно. Важно было получить деньги, которые Коровко с помощью некоей махинации и получил, а если конкретнее, то получил он страховую премию.
В институтские годы знакомится Коровко с неким Константином Мультино, таким же, как и он, мелким жуликом с южноевропейскими корнями. Два друга находят друг друга и решают организовать собственное дело – торговать лошадьми. Конечно, и здесь все было нечисто. Лошади, приготовленные для продажи, были старые, видавшие виды, а продавали они их как молодых, бодрых кобылок не старше трех лет. Подобное предприятие, конечно, требовало знаний и умений, так как в покупатели аферисты себе наметили отнюдь не бедных крестьян. Коровко и Мультино были не первыми в этой отрасли и представляли собой что-то вроде современных перекупщиков машин, которые тоже используют разные хитрости и приемы для создания лучшего вида, – так и эти комбинаторы подкрашивали лошадей, чтобы седина не была видна, какие-то препараты давали, чтобы они становились и позадорнее, и повеселее, и блеск в глазах у них появлялся.
В доме на Невском проспекте, 104, в 1910-х годах располагалась контора К. Коровко
Сколько они так работали, мне неизвестно, но дальше судьбы друзей расходятся. Мультино, если я правильно все понял, занялся нормальным законным бизнесом и продавал велосипеды, а Коровко, привыкший делать деньги из воздуха, решил развернуться по-крупному. Правда, через пару лет судьба вновь сведет двух старых приятелей, и один из них очень об этом пожалеет… но обо всем по порядку.
История крупных афер Коровко начинается с 1909-го. Ему на тот момент было 33–34 года. Примерно в одно и то же время аферист открывает несколько предприятий. В октябре этого года Коровко основал «Банкирский дом Русской промышленности», который располагался прямо на Невском проспекте, в доме, где находился Совет съездов представителей промышленности и торговли. Вероятно, Коровко рассчитывал, что соседство с Советом торговли придаст его предприятию дополнительный вес в глазах потенциальных клиентов.
Внутри все было обставлено не просто хорошо, а роскошно. По свидетельству одного из посетителей, всюду висели богатые люстры и бра, стояли шикарные письменные столы с отличнейшими письменными принадлежностями, большой несгораемый шкаф[1], много пишущих машинок, большие с золотым тиснением конторские книги, множество картин в золоченых рамах, много клерков, прекрасно одетых, много бумаг, красивых конвертов. Коровко хорошо поработал над фактурой. Все и впрямь выглядело, как в настоящем банке. В его интересах было убедить клиентов в надежности и процветании своей организации. Была запущена широкая рекламная кампания, повсюду заявлялось, что банк производит все банковские операции: и выкупает, и продает, исполняет поручения, принимает на хранение и управление ценные бумаги и много чего еще, в общем, цены ему нет, какой замечательный банк.
Основным же видом деятельности были онко́льные операции. Это когда человек открывает специальный счет под обеспечение ценных бумаг. Очень распространенная в то время практика, кстати говоря, почти вся биржевая торговля ценными бумагами в России в конце XIX и начале XX века совершалась при помощи онко́льных операций. Редко кто покупал ценные бумаги за наличку. Особенность заключалась в том, что банки, открывавшие подобные счета, имели право в случае падения биржевой цены заложенных бумаг требовать от своих клиентов возвращения ссуды или увеличения обеспечения. В противном же случае заложенные клиентом бумаги просто продавались банком на бирже. Кстати, отсюда и название этой операции, от английского сочетания «on call», то есть «по требованию», «предоставление по требованию», у нас же название обрусело и произносилось «онко́ль». Интересный факт: солидность тогдашних банков пропорционально зависела от минимальной суммы онкольного счета. Крупные и серьезные банки не стремились заполучить мелких клиентов, которых в то время было пруд пруди, ведь работы с ними больше, а доход, по сравнению с крупными клиентами, несоизмеримо меньше. И что-то подсказывает мне, что Коровко, который преимущественно был нацелен на категорию средней и средне-низкой доходности, особенно и не ставил на крупных игроков.
Главным вкладчиком и распорядителем «Банкирского дома Русской промышленности» был отставной подполковник Николай Иванович Мартынов, который внес в основной фонд банка пять тысяч рублей. Сам Коровко внес 45 тысяч рублей. Это все была чистой воды фикция: в реальности Мартынов внес 500 рублей, а Коровко и того меньше – 200 рублей. Получается, что это – вся наличность, что была в банке, при всей его парадной помпезности, диванах, люстрах, чистеньких клерках и так далее и тому подобное, всего-то – 700 рублей. Вскоре оказалось, что «Банкирский дом Русской промышленности» и вовсе существовал без утверждения Министерством финансов, а лишь по регистрации Санкт-Петербургской купеческой управы, что было, конечно, нарушением закона. Более того, условием открытия любого банка в то время было обязательное указание в его названии имени владельца. В названии банка Коровко его фамилия не фигурировала и не появилась даже после выявления этого нарушения.
Реклама, на которую Коровко не пожалел ни сил, ни денег, сделала свое дело. Он сумел привлечь клиентов на 340 тысяч 712 рублей, а всего через его банк бумаг по онколю прошло на два миллиона. Правда, и задолжать он успел немало. В общей сложности клиенты банка Коровко понесли убытков на сумму в 305 тысяч рублей, а сам Коровко успел присвоить себе 92 тысячи рублей, и это только деньгами, а процентными бумагами – еще около 20 тысяч. Когда банкирский дом ликвидировали, то выяснилось, что в кассе банка осталось всего 18 копеек наличными.
Иллюстрация из газеты «Петербургский листок», посвященной процессу над К. Коровко
Но это только одна сторона деятельности предприимчивого мошенника, еще более интересная и масштабная афера закрутилась вокруг соледобычи. В 1901 году Коровко женился на Вере Ренкуль, которая впоследствии станет его соратницей и будет помогать ему во всех его, так скажем, начинаниях; закончится это тем, что они вместе сядут на скамью подсудимых. Итак: «Брянцевско-Преображенское соляное общество» – новое детище, придуманное Коровко. Конечно, название было взято из воздуха. Как и сам бизнес. Складной капитал общества – 500 тысяч рублей.
Организовывалось оно как «товарищество на вере». В такой коммерческой организации участвуют люди, которые непосредственно управляют компанией от имени товарищества, а есть вкладчики или, по-другому говоря, пайщики, которые вкладываются в товарищество и просто получают с вложенных денег определенный процент.
Паи общества стоили от пяти тысяч рублей, но большая часть обходилась всего в сотню. Ставку Коровко вновь делает на мелких пайщиков, притом преимущественно провинциалов. Нужный вкладчик – это человек с небольшими деньгами, который думает, куда бы ему эти деньги вложить, чтобы они приносили доход. Например, отставные офицеры, скопившие за годы службы небольшой капитал, священники, вдовы, унаследовавшие капиталец в пару тысяч рублей. Все это публика афериста Коровко.
Коровко запускает рекламу. Рассылает во все концы страны листовки, на которых написано примерно следующее: «Милостивые государи! Брянцевско-Преображенское соляное общество имеет честь довести до сведения как своих пайщиков, так и всех желающих вступить пайщиками в названное общество…» Далее шло описание участка, на котором планируется разработка, что, мол, участок содержит очень большие залежи, что можно добыть несколько миллиардов пудов… и так далее. В общем, завлекаловка была хорошая и очень продуманная, так что у пайщиков даже и никаких сомнений не возникало.
К Коровко в Петербург посыпались конверты с деньгами, люди активно покупали паи в этом соляном обществе, надеясь, как обещал Коровко, через пару лет разбогатеть и получить в сотни раз больше, чем они вложили. Некоторые даже приезжали к нему лично в Петербург.
В общем, на 1 января 1910 года в общество вступило 274 пайщика, которые внесли капитал на 158 тысяч 275 рублей. Был среди них и отставной полковник Шульц, лично приехавший к Коровко в Петербург из Балашова Саратовской губернии. Он, получивши рекламку, одну из десятков тысяч, разосланных по стране, всерьез заинтересовался этим делом. Но поскольку был человеком дотошным и очень ответственным, перед тем как вкладываться в предприятие, выписал себе много литературы по соледобыче и, все проштудировав, убедился, что дело действительно пахнет хорошими барышами. Решил вложиться. Приехал к Коровко, поговорил с ним, посмотрел на этого серьезного предприимчивого человека и купил паев на 25 тысяч рублей. Знал бы он, с кем только что связался…
Внешне это была картина маслом. В Бахмутском уезде Екатеринославской губернии (это нынешний Донбасс) действительно имелись очень хорошие и большие залежи соли, которые действительно можно было, как и обещал Коровко, разрабатывать и разрабатывать. Но это для Кости-инженера было слишком обременительно. Никаких земель в Бахмутском уезде, как было написано в рекламных листовках, в собственности у соляного общества никогда и не было. Комбинатор сделал проще. Побывав в Бахмуте, он взял в аренду у местного крестьянина по фамилии Побегайло небольшой участок земли, заплатив за него задаток 10 рублей, и, наобещав тому в будущем доход в 20 тысяч рублей, уехал. А уезжая, Коровко дал этому крестьянину указание рыть в земле ямы, напоминающие шахты, свозить лес и вообще всячески создавать видимость активной работы по добыче соли. Крестьянину даже должность назначили соответствующую – директор рудника.
При всем при том Коровко даже не озаботился вопросом изыскания соли на этом участке, то есть кампания вообще ничего не разведала, есть ли конкретно на земле крестьянина Побегайло хоть сколько-то соли, – просто рыли землю, и все. Спустя время местный горный инспектор, узнав, что некий крестьянин занимается раскопками безо всякого разрешения, распорядился запретить работы. Деятельность пришлось свернуть. Тогда Коровко арендовал соседний участок у госпожи Кишинской. На 165 десятинах земли размах был уже побольше. А главное, что участок этот находился по соседству с Южной железной дорогой.
Теперь, как говорится, следите за руками. Коровко приказывает возвести на участке огромную кирпичную трубу и нанимает истопников, чтобы те жгли дрова, а из трубы тем самым валил плотный дым. Все проезжающие по железной дороге, а это могут быть и пайщики его соляного общества, будут видеть территорию с различными постройками (там, к слову сказать, еще пара каких-то сараев стояла), но главное – с высокой трубой, из которой валит дым. Все это было тщательно продуманной ширмой для его аферы.
И кто знает, сколько бы это чудо-общество работало, если бы не проницательный отставной полковник Шульц, который решил поехать в Бахмутский уезд и лично взглянуть на предприятие, в которое он вложил несколько десятков тысяч рублей. Ну и, я думаю, вы понимаете, что Шульц там увидел… Пару сараев и дымящуюся не пойми зачем трубу. из вагона поезда картинка была очень привлекательная, а вот подойди поближе… Полковник, разумеется, за объяснениями поехал обратно в Петербург, громко кричал, махал руками. Коровко решил, что лучшая защита – это нападение, попытался вспылить, но, понимая, что крыть ему нечем, предложил Шульцу отступную, или, проще говоря, взятку. Но Шульц был самых честных правил и пошел прямо к следователю. А вскоре выяснилось, что Вера Коровко, жена нашего героя, недавно выдала своему мужу 25 тысяч рублей в безотчетное распоряжение из денег общества. К моменту начала следствия супруги Коровко успели присвоить себе все деньги, полученные за паи, а когда Брянцевско-Преображенское общество ликвидировали, в кассе оставался всего рубль.
А если вы подумали, что теперь-то все… Нет! Это еще не все. Коровко был человеком, который не чурался обманывать даже своих друзей. Если верить некоторым сведениям, которые мне удалось найти, была одна интересная история с его старым другом. Константин Мультино занимался тогда продажей велосипедов (вполне легальный бизнес), вел праведную жизнь и, видимо, с аферами завязал. И вот как-то Коровко предложил крупное дело. Вложиться в строительство конного и кожевенного заводов на Кубани. Мультино, конечно, зная своего друга закадычного и все его приемы, не соглашался, но Коровко был стреляный воробей и догадывался, что уговаривать приятеля придется долго, поэтому разыграл перед ним целый спектакль. Привел его в ресторан: пообедать и заодно познакомить со своими высокопоставленными друзьями. За столиком обедавшие щедро обменивались мнениями о биржевых котировках и много о чем еще… Все это, как и следовало, произвело на Мультино неизгладимое впечатление. После этой встречи он решил, что его приятель – серьезный человек, а значит, с ним можно уже иметь дело. Он вложил в конный и кожевенный заводы 56 тысяч рублей. Коровко мог торжествовать. Дабы не потерять репутацию и деньги, он слал товарищу прелестные фотографии строительства заводов, бодреньких подрастающих лошадок. Ну мед просто, а не дело. Станиславский сказал бы: «Верю!»
Время шло, а прибыли все не было, Коровко молчал, а вскоре Мультино узнал, что все это предприятие – чистой воды развод. Деньги его никто ни в какие заводы не вкладывал. Оговорюсь, что достоверность последней истории гарантировать не могу, но уж больно она забавная. К тому же, зная, что за фрукт этот Константин Коровко, вполне может быть и достоверной.
Нечто подобное случилось и с еще одной аферой Коровко – Каспийско-Романовским нефтяным товариществом, где удалось распродать паев на 622 тысячи рублей. Истории этих двух мошеннических проектов очень схожи, а закончилось все, как и с соляным обществом. Когда стали проверять, уже после ареста Коровко, в кассе оказалось всего 220 рублей наличными.
Кстати, про суд. Случился он в 1914 году. Дело было громкое, стенограммы из зала суда публиковались в газете «Петербургский листок». Билетов в зал было не достать. Пожалуй, в прошлый раз такой ажиотаж был, когда судили «червонных валетов». Все хотели своими глазами увидеть великого комбинатора, сумевшего провернуть такие схемы. Правда, больше всего его хотели видеть обманутые пайщики. Константин Коровко хорошо подготовился, нанял одного из самых сильных тогдашних адвокатов Ивана Данчича, который в ходе суда так ловко обернул дело, что оказалось, что Коровко не мошенник, как на том настаивал прокурор (за это можно было схлопотать каторгу), а обычный неудачник. Предприниматель, который хотел как лучше, а получилось как всегда. Помните, как говорил Леня Голубков в знаменитой рекламе: «Я не халявщик. Я партнер».
Очередь из обманутых К. Коровко пайщиков
В то время в уголовном кодексе была такая статья, звучала она как «вовлечение в невыгодную сделку», на это и давил защитник, выступая перед присяжными. Приговор по этой статье – всего три месяца заключения. Пять часов совещались присяжные и наконец определились. На вопрос о виновности ответили: «Да, виновен, но на сумму менее 300 рублей». Адвокату удалось их убедить, что Коровко всего лишь «заурядный, медленно соображающий фантазер». Ну а поскольку мошенник находился под стражей уже два года, то свой срок он, считай, давно отсидел, так что прямо в зале суда был освобожден. Коровко не ошибся, выбрав Данчича своим адвокатом. Так красиво обставить историю, грозящую неминуемой каторгой, мог только легендарный адвокат. Его Константин Михайлович, кстати, обманывать не стал. Все по-честному заплатил.
Суммарно Коровко сумел обмануть приблизительно 500 человек на общую сумму около одного миллиона рублей. Ходили слухи, что много позже появился в Аргентине некий бизнесмен Коровко. Может быть, история великого комбинатора продолжилась за океаном…
Глава 2
Черубина де Габриак. Не родись красивой
А. Пушкин
- Я вас люблю, – хоть я бешусь,
- Хоть это труд и стыд напрасный,
- И в этой глупости несчастной
- У ваших ног я признаюсь!
Литературный, философский, мистический мир России начала XX века – это бурление и водоворот, это столкновение сюжетов похлеще любого запутанного сериала. В конце концов, ничего не может быть оригинальнее, чем сама жизнь во всех ее формах и проявлениях.
В 1909 году по Санкт-Петербургу ходили таинственные слухи – в городе появилась поэтесса, лица которой никто не знает, но ее проникновенными романтическими стихотворениями зачитывается весь светский бомонд. Это была невероятная история, затронувшая самые высокие круги светского и литературного обществ. Серебряный век. Имя неизвестной – Черубина де Габриак.
Испанка, страстная католичка, находящаяся под неусыпным присмотром своего строгого отца и духовного наставника, священника Бенедикта. Отец родом с юга Франции, мать русская. Воспитывалась Черубина в монастыре испанского города Толедо. В планах у нее в скором времени принять монашеский постриг. Ей, к слову, 18 лет. И все это вполне себе убедительная история, если бы была правдой. Но в ней нет ни слова истины. Все сплошная выдумка. Черубина де Габриак – одна из самых сильных и известных литературных мистификаций в истории русской литературы. Ее создатели – поэт-символист Максимилиан Волошин и собственно девушка, которая публиковала стихи под именем загадочной испанки, – поэтесса Елизавета Дмитриева. А теперь о том, как все начиналось.
Елизавета Дмитриева
Елизавета Ивановна Дмитриева родилась в 1887 году в Петербурге. Это была не особенно красивая невысокая темноволосая девушка, она была полновата и сильно хромала, лоб у нее был заметно вздутым. Впрочем, откровенной уродиной ее назвать было нельзя, хотя она, пожалуй, как и все мы в разной степени, по поводу своей внешности и переживала. Окончила Дмитриева Василеостровскую гимназию с золотой медалью, затем Императорский женский педагогический институт, где изучала средневековую историю и французскую литературу. Некоторое время училась в Сорбонне, где судьба свела ее с поэтом Николаем Гумилёвым, учившемся там же, впоследствии – первым мужем Анны Ахматовой.
Кафе «Ротонда». Париж, 1907
Отношения Дмитриевой и Гумилёва начались в Париже в июле 1907 года. Развивались они чрезвычайно стремительно. Молодые люди нашли много общих тем для разговоров, говорили о Царском Селе, Гумилёв читал Дмитриевой свои стихи. В Париже Гумилёв сводил свою возлюбленную в кафе, где Дмитриева оказалась в первый раз в жизни. Купил ей целый букет пушистых гвоздик. И больше после этого молодые люди не виделись, встретились лишь спустя время, уже в Петербурге, в «башне» у Вячеслава Иванова. Были так называемые «ивáновские среды», что-то вроде литературного салона, в собственной квартире на шестом этаже дома на Таврической улице, 35. Встречи «в башне»[2] объединяли и поэтов-символистов, и художников-мирискусников, и музыкальных и театральных деятелей. Туда же в свое время явилась и Дмитриева, где и состоялась новая встреча с Гумилёвым и новое знакомство – с жившим этажом ниже Максимилианом Волошиным. Николай Степанович еще некоторое время ухаживал за Дмитриевой, гуляя с ней после лекций в саду Академии художеств. Однажды в дневнике Дмитриевой Гумилёв напишет красивое двустишие:
- Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей,
- Я нашел себе подругу из породы лебедей.
Уже много позже Дмитриева в своей «Исповеди» напишет о Гумилёве следующее: «Воистину он больше любил меня, чем я его…»
Летом 1909 года Елизавета Дмитриева вместе с возлюбленным приезжает в Коктебель к Максимилиану Волошину. Вот тут-то и разгорятся настоящие страсти. Дмитриева, сама того не ведая, оказалась в центре любовного треугольника. С одной стороны – влюбленный в нее Гумилёв, с другой стороны – она сама, но неотвратимо влюбляющаяся в красивого силача Волошина. Там же в Крыму выясняется, что и Волошин невероятно влюблен в Лизу, но скрывает свои чувства. В итоге он предлагает ей сделать выбор, больше так продолжаться не может. Но Дмитриева выбор уже сделала. Она просит Гумилёва уехать, не объясняя причин (Николай Степанович не подозревал, что все настолько серьезно). Он принимает эту просьбу за каприз и уезжает. Дмитриева остается в Коктебеле, проживая летом 1909 года лучшие дни своей жизни.
Максимилиан Волошин в Коктебеле
Именно летом 1909 года Волошин предлагает Дмитриевой идею: создать литературную маску загадочной католички. Имя выбирали долго, остановились, как вспоминает Волошин, на черте Габриахе, изменив окончание «х» на «к», а для аристократичности добавили французскую частицу «де». Имя псевдониму решили взять у героини одного из романов Брета Гарта, американского прозаика, – Черубина. Стихи застенчивой поэтессы подписали как Черубина де Габриак.
Авантюра двух этих амбициозных людей была направлена на весь литературный свет тогдашней столицы. В свою очередь весь свет в одном-единственном лице представлял собой один человек – Сергей Маковский, редактор и издатель только народившегося тогда литературного журнала «Аполлон». Первый номер «Аполлона» должен был выйти как раз осенью 1909 года, редакция еще только формировалась, в нее, кстати, входили и Гумилёв, и Волошин, и Ивáнов, и еще несколько известных поэтов.
Сергей Маковский
Редакция «Аполлона» называла Маковского на французский манер Папá Мако – все из-за его невероятного аристократизма и безупречных костюма и пробора, без которых Маковский на люди не появлялся; он даже хотел, чтобы все сотрудники журнала приходили на работу в смокингах. Навряд ли такой человек, мыслящий масштабными гламурными (в хорошем смысле) категориями, мог оценить безликую простушку Лизу Дмитриеву, которая, кстати, уже приносила свои стихи в редакцию, но была, конечно же, отвергнута.
Порядком приевшийся, заскучавший в однообразных салонных посиделках высший литературный свет жаждал сенсации, приятной интриги, поэтому Волошин и Дмитриева решили играть по предлагаемым правилам. Августовским утром 1909 года в редакцию «Аполлона» приходит письмо, подписанное буквой «Ч». Маковский не на шутку заинтересовался письмом и приложенными к нему стихотворениями. Черубина прислала строки следующего содержания:
- И я умру в степях чужбины,
- Не разомкну заклятый круг,
- К чему так нежны кисти рук,
- Так тонко имя Черубины?
Сергей Маковский пишет, что не столько форма заинтересовала его тогда, сколько автобиографические полупризнания. Его явно звали играть, и он это хорошо понимал. Дмитриева и в дальнейшем будет как бы невольно проговариваться о Черубине, приоткрывая завесу тайны. Маковского будет затягивать в этот омут все сильнее. Но Черубине было необходимо предоставить больше информации о себе, редактор еще не до конца проглотил наживку, и, чтобы жертва не соскочила с крючка, загадочная поэтесса предпринимает решительный шаг. Звонит Маковскому. Томным полушепотом обвораживает литератора. Дмитриева, немного картавя и кокетничая, убеждает Папá Мако в собственной неотразимости. Блестящая игра, безусловно, срежиссирована Волошиным. Слово в слово.
После этого звонка Дмитриева больше не воспринимает Черубину как выдумку. С этой минуты мы говорим Дмитриева и подразумеваем Черубину, говорим Черубина и подразумеваем Дмитриеву. Маска ожила.
- Твои глаза – святой Грааль,
- В себя принявший скорби мира,
- И облекла твою печаль
- Марии белая порфира.
- Ты, обагрявший кровью меч,
- Склонил смиренно перья шлема
- Перед сияньем тонких свеч
- В дверях пещеры Вифлеема.
Стихи Черубины де Габриак преисполнены символизма, метод, который в то время господствовал в литературной среде.
Лето 1909 года. Гости М. Волошина: неизвестный, С. Дымшиц-Толстая, М. Кларк, Е. Кириленко-Волошина, на переднем плане – Л. Дмитриева, сидит с книгой – А. Толстой.
Получив первое письмо, Маковский незамедлительно отправил Черубине ответ, причем на французском. Он просил ее прислать что-то еще, желательно сразу много. Вечером Дмитриева с Волошиным принялись за работу, и уже на следующий день у Папá Мако лежала целая тетрадь стихов. Литературный бомонд принял за истину подобную фантазию, тщательно спланированную двумя литераторами. Расчет Волошина оправдался. Как у Блока: «…Живи еще хоть четверть века…» и через эту четверть, и через век всем подавай «хлеба и зрелищ». Черубина – это мистификация, которая мгновенно заинтересовала всех. Современные маркетологи и пиарщики сказали бы, что будь то бизнес или творчество, но без хорошо проработанной истории, которую можно выгодно и эффектно продать, – ничего не выйдет!
Волошина одно время обвиняли в том, что это он сам – автор стихов Черубины, на что поэт всегда отвечал, что играл лишь роль режиссера и цензора да подсказывал некоторые темы, выражения. Конечно, Волошин был поэт опытный и гораздо профессиональнее, чем его спутница Дмитриева, и все же стихи последняя всегда писала сама. Много позже этот факт подтвердит и Марина Цветаева.
Интересный вопрос: а зачем Волошину нужна была вся эта игра? Ответ находим также у Цветаевой. Дело в том, что Максимилиан Александрович имел настоящую страсть к мифотворчеству. Уже спустя много лет после Черубины он уговаривал Цветаеву создать даже не одну, а несколько литературных масок. Патриотичного поэта Петухова, близнецов-поэтов Крюковых и много кого еще. Волошину просто нравилось наблюдать со стороны развитие выдуманной им истории, он получал от этого невероятное удовольствие, в этом было для него даже нечто вдохновляющее: он готов был подсказывать идеи, писать рецензии на творчество несуществующих поэтов и бесконечно рассуждать с коллегами об успехах одних и неудачах других – и никто бы не догадался, что за всей этой поэтической какофонией стоит один человек. Но Цветаева ему отказала. Она привыкла все подписывать своим именем.
А пока что на дворе осень 1909 года, история Черубины только-только начинается.
О загадочной Черубине Маковскому не было известно ничего, кроме того, что она сама о себе рассказывала. Дмитриева с Волошиным решили не обременять себя подробностями, чтобы в дальнейшем не запутаться в собственных выдумках. Как-то в ходе телефонного разговора Сергей Маковский сказал де Габриак, что умеет определять судьбу и характер человека по почерку. Взглянув на почерк поэтессы, он сам и изложил Черубине подробности ее выдуманной жизни. Про отца-француза, про русскую мать, про то, что она воспитывалась в монастыре в Толедо. Дело, похоже, зашло слишком далеко, и хотя козыри по-прежнему были в руках Дмитриевой и Волошина, теперь они вынуждены были играть по чужим правилам.
Маковский всякий раз просил Черубину о встрече. Она же всеми способами этого избегала, но, признаться, делать это становилось все сложнее и сложнее. Чтобы не прослыть недотрогой, все же давала воздыхателю некоторые надежды, говорила, где и когда ее можно встретить, правда, всегда очень неопределенно. Как-то раз Лиза намекнула Маковскому, что будет сидеть в одной из лож на премьере балета. Литератор, конечно же, примчался туда, выбирал самую красивую на вид даму и был убежден, что это была именно Черубина. Дмитриева же все это время сидела где-то сбоку, а затем в телефонном разговоре с Маковским от имени Черубины критиковала его выбор. Маковский мечтал ухаживать за иностранкой, он страдал: было бы у меня 40 тысяч годового дохода… А в это время Лиза жила на 11 с половиной рублей в месяц, которые получала как преподавательница подготовительного класса.
Если стихи Черубина писала сама, то вот переписка с Маковским лежала полностью на Волошине. В редакции журнала «Аполлон» Маковский показывал Волошину его собственные письма от лица невероятной испанки. И просил помочь написать ответ. По сути, Волошин переписывался сам с собой.
Первый выпуск журнала «Аполлон»
В октябре 1909 года выходит первый номер журнала «Аполлон», где стихи Черубины занимали далеко не последнее место. Маковский был уже до безумия влюблен. Он бредил, грезил, сходил с ума от женщины, лица которой никогда не видел, историю которой до конца не знал. Ну это ли не символизм… Вслед за Маковским о Черубине де Габриак заговорила вся столица. Были даже и такие, кто обвинял самого Маковского в мистификации, якобы он – это и есть самая настоящая Черубина.
К осени 1909 года отношения незнакомки и издателя достигли наивысшего накала. Маковский знал адрес Черубины (конечно же, вымышленный, по этому адресу жила подруга Дмитриевой), на этот адрес он присылает огромный букет белых роз и орхидей. Подобные траты угрожали гонорарам поэтов «Аполлона», и Черубина посылает Маковскому письмо. Она стыдит его, что тот совсем не знает языка цветов (что, кажется, было правдой), к тому же обсчитался и вместо нечетного количества прислал четное.
Далее была поездка Черубины де Габриак в Париж, опять же выдуманная (видимо, понадобилась передышка), для каких-то собственных дел. В Париже поэтесса планировала заказать себе шляпку и встретиться с духовным наставником, поскольку, как вы помните, собиралась уйти в монастырь. Спустя несколько недель она все же вернулась, всю ночь молилась, утром ее нашли лежащей в коридоре на каменном полу, без сознания. Черубина заболела воспалением легких.
Стихотворение, опубликованное в журнале «Аполлон»
Болезнь Черубине ее авторы сочинили неслучайно. В то время в Петербурге собиралось заседание одного авторитетного литературного общества. Болезнь Черубины удобно совпала с этим заседанием, таким образом, Елизавета Дмитриева могла воочию наблюдать, как Маковский тревожился, предполагая смертельную опасность.
Итак, Черубина была в отъезде, затем болела, а тем временем наши герои придумали отвлекающий маневр. Поскольку история де Габриак длилась уже почти три месяца, то некоторые всерьез стали подозревать, что страстная католичка – всего лишь выдумка. Ее даже стали пародировать, писать стихи в стиле Черубины, распускать разнообразные слухи. Главной зачинщицей этих сплетен стала – кто бы вы думали? – Елизавета Дмитриева собственной персоной. Чтобы талантливый спектакль не развалился раньше времени, важно было вовремя переключить внимание. И если уж в существовании Черубины стали сомневаться, то почему бы не возглавить движение скептиков, чтобы управлять им?
Однако влюбленных в Черубину было гораздо больше, чем тех, кто в нее не верил. История с каждым днем обрастала все новыми подробностями. Волошин с Дмитриевой вводили в сюжет новых персонажей, так, например, появился кузен Черубины, к которому Маковский сильно ревновал, однажды даже устроил слежку, кучера не смогли поймать лишь по той причине, что его не существовало. Маковский дошел до того, что устроил слежку и за Черубиной – и нашел! Правда, не Черубину, а ее бабушку – графиню Нирод, которая в тот момент была за границей, а потому Маковскому пришлось разговаривать с дворецким. Тот рассказал, что у графини имеются две внучки. Одна путешествует с бабушкой, а насчет второй он… эм-м-м, ну, он точно не помнит. Маковского даже не смутило, что дворецкий ошибся в имени второй внучки, назвав ее совсем по-другому, но сказал, что ее называют еще как-то, второе имя было очень похоже на Черубину. В силу влюбленности издатель «Аполлона» не замечал очевидных нестыковок. Пришло время очень быстро выводить Черубину из игры. Ведь в глазах изумленной публики она так и должна остаться таинственной католичкой.
На дворе стоял ноябрь 1909 года, история Черубины близилась к своему печальному концу. Фантом, который за это время успел стать для его создателей настоящим кошмаром, буквально преследовал Дмитриеву. Ей казалось, что она вот-вот встретится лицом к лицу со своей альтер эго. В стихах Черубины начинает проглядывать страх:
- В слепые ночи новолунья,
- Глухой тревогою полна,
- Завороженная колдунья,
- Стою у темного окна.
А Черубина ей отвечала:
- И мой дух ее мукой волнуем…
- Если б встретить ее наяву
- И сказать ей: «Мы обе тоскуем,
- Как и ты, я вне жизни живу» —
- И обжечь ей глаза поцелуем.
Черубина явно начала жить собственной жизнью. Волошин и Лиза обратили внимание, что в их сценарий вмешивается кто-то еще. Маковский стал получать странные письма, подписанные Черубиной, но сам он их не писал. Было принято решение с мистификацией покончить.
