Путь адвоката. Успехи, испытания и жизненные уроки
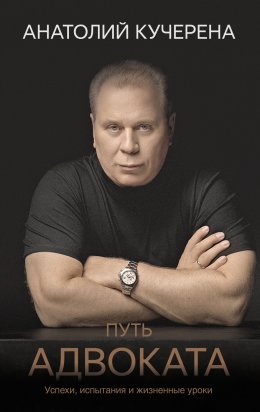
© А.Г. Кучерена, текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
В чем счастье?..
В жизненном пути
Куда твой долг велит – идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и – верить.
Аполлон Майков
Вместо предисловия: крушение иллюзий
Когда я беру в руки книгу, я обычно пропускаю предисловие и сразу перехожу к основному тексту. Поэтому постараюсь обойтись без вступительных слов и сразу возьму быка за рога. А «бык» – это успех и пути к нему, которые я намерен очертить на основе своего собственного опыта и опыта других.
Но все же несколько вступительных замечаний мировоззренческого свойства, на мой взгляд, необходимы.
Убежден, что главный итог развития человечества на современном этапе – это крах всех утопий. Во-первых, с треском провалились утопии, связанные с построением идеального общества, будь то сама «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Томаззо Кампанеллы, «Мир Полудня» братьев Стругацких или куда более скромный «Конец истории» Френсиса Фукуямы. Иными словами, нам не удалось ни гармонизировать ни окружающий нас мир, ни гуманизировать самого человека, ни даже предложить приемлемую для всех модель общественного устройства. Мир по-прежнему раздирают конфликты и противоречия, и самым действенным инструментом их решения оказывается сила оружия и тайные операции.
С не меньшим треском провалились попытки «вывести» «человека коммунистического будущего» или «сверхчеловека», которому будут чужды эгоизм, жестокость, стремление к доминированию. Великие циники и прожженные авантюристы былых эпох не только вполне органично вписались бы с современную систему общественных отношений, но и были бы в ней исключительно успешны.
Не сбылась величайшая надежда человечества на встречи с внеземными цивилизациями. Хорошо помню, как радовался я в далеком детстве, когда узнал, что американский астронавт высадился на Луне. Хотя и было обидно, что это не советский космонавт. Тогда я подумал, как же мне повезло! Через 50 лет космические экспедиции обязательно отыщут обитаемые миры за пределами нашей Солнечной системы и мы наконец познакомимся с нашими «братьями по разуму», которые, быть может, многому научат нас. Но вот прошло уже более 50 лет и даже новый пилотируемый полет на Луну пока остается делом будущего. А уж планы Илона Маска по колонизации Марса и выращиванию там помидоров и вовсе представляются какой-то хлестаковщиной зарвавшегося «визионера», накурившегося «травки».
Все это наводит на жестокую мысль: те идеалы и принципы, на которых мы воспитывались в позднесоветское время, – а это, кто бы что ни говорил, были принципы гуманизма («человек человеку другу, товарищ и брат»), – не сработали, те утопии, которые нас вдохновляли, не стали реальностью, те модели поведения, на которые мы ориентировались, не доказали свою состоятельность. И это вынуждает нас к тотальной «переоценке ценностей». В том числе и тех ценностей, о которой пойдет речь в настоящей книге.
Сразу же обрадую тех, кто не привык в наш цифровой век долго держать в руках книгу. Следуя примеру Мишеля Монтеня и его «Опытов», я разбил это сочинение на сравнительно короткие главки, каждая из которых представляет собой отдельную историю. Поэтому ее можно читать с любого места, свободно пропуская то, что не вызовет интереса.
Родом из СССР
А теперь расскажу о себе. О своем пути к успеху – пусть и весьма относительному.
Я родился в СССР – стране, которой не существует уже так давно, что многие молодые люди, не сильно интересующиеся историей, порой и не помнят, что она когда-то вообще была. В то же время граждане моего поколения до сих пор напряженно размышляют о том, чем она была и почему ее не стало. И могла ли она в каком-то виде сохраниться.
На мой взгляд, распространенная ошибка заключается в представлении о том, что СССР был чем-то неизменным, раз и навсегда данным. Между тем СССР в разгар НЭПа – это одно, СССР пика сталинского террора – это совсем другое, СССР блаженных времен «оттепели» – это третье, а СССР периода т. н. застоя и накануне перестройки – это четвертое. При том, что основополагающие «столпы» советского строя – однопартийная система, господство коммунистической идеологии, плановая экономика сохранялись. Однако со временем эти «столпы» существенно видоизменялись.
В позднем (подчеркиваю – позднем!) СССР было немало достоинств и не меньшее число пороков и недостатков, так что любить его или не любить – это дело вкуса, менталитета, личных пристрастий. Но нельзя не признать за ним одну важнейшую черту: в СССР существовали эффективные социальные лифты, позволяющие ребенку из глухого заполярного поселка или горного аула стать академиком, народным артистом, писателем, конструктором, военачальником, да почти кем угодно! Без этого мне вообще бы ничего не светило.
Недавно я перечитал скандальный и невероятного популярный во времена моей юности «антидиссидентский» роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», парадоксальным образом предсказавший многие процессы идейного перерождения советской творческой элиты времен гласности и перестройки. Этот роман породил к жизни несколько остроумных пародий, вызвал бурное негодование либеральной части интеллигенции и настороженное отношение партийных верхов. Кочетов был убежденным сталинистом, в отличие от большинства своих коллег всерьез верившим в построение коммунизма. Но что такое коммунизм? Большинство из нас в свое время воспринимало этот утопический строй прежде всего через призму изобилия материальных благ: «каждому по потребности». Кочетов смотрел на это несколько шире. «Коммунистическое общество, – писал он, – снимает с человека заботу о куске хлеба, о завтрашнем дне. Но материальное изобилие не самоцель, а лишь путь к тому, чтобы все свободнее и свободнее становилась мысль человека, чтобы развивались его способности, его таланты, чтобы каждый, кто хочет исследовать океанские глубины, получил возможность для этого; чтобы каждый, кто хочет стать селекционером, стал им; чтобы каждый, имеющий склонность к музыке, к живописи, стал музыкантом и художником; чтобы каждый, способный делать это лучше других, мог стать управляющим производством, государственным деятелем, распределителем материальных благ.
Может все это обеспечить каждому человеку в своей стране капитализм? Может он сделать так, чтобы не было ни хозяев, ни работников, может он сделать так, чтобы каждый в стране был хозяином, творцом; может отказаться от главного своего принципа: тысячи работают, а единицы присваивают результаты их труда, оставляя тысячам возможность достигать лишь такого идеала – квартирка, домик, два куста роз, иллюстрированный журнальчик в воскресенье? Если да, если может, то пусть здравствует капитализм.
Если не может, если все-таки одни будут владеть предприятиями и землей, а другие на них работать, то, как бы ни хороши были газоны вокруг чистеньких домиков, придется – хочешь не хочешь – отдать предпочтение другому устройству общества».
К сожалению, по-видимому, данный идеал недостижим ни при каком строе. Быть творцом, созидателем, первооткрывателем – удел немногих. Хотя СССР в какой-то мере подошел к этому идеалу.
Благодаря государственной поддержке в СССР, например, была лучшая в мире шахматная школа и школа переводчиков. И это не удивительно. Каждый ребенок с детства мог совершенно бесплатно осваивать игру в шахматы в каком-нибудь Доме пионеров, а если он показывал выдающиеся результаты, государство давало ему возможность профессионально заниматься шахматами, обеспечивая его некоей «стипендией». Хотя были и те, кто, подобно Михаила Ботвиннику, совмещали шахматную карьеру с успешной научной деятельностью. На Западе было даже невозможно представить, чтобы государство платило кому-то за игру в шахматы. То же относилось, кстати, и ко всем другим видам спорта – так что неудивительно, что советским спортсменам, как правило, не было равных – разве что футболисты нас порой разочаровывали.
На Западе практически нереально прожить за счет переводов художественной литературы. Те, кто читал роман Марио Варгаса Льосы «Приключения дрянной девчонки», возможно помнят, как главный герой – профессиональный переводчик на различных международных форумах, великолепно знающий несколько языков, но при этом едва сводящий концы с концами, получает за свои переводы рассказов Чехова на испанский сумму, достаточную для одного посещения кафе. А в Советском Союзе успешные переводчики были вполне прилично обеспечены. И поскольку знание языков было еще и престижно и открывало пути к заграничным путешествиям, желающих овладеть этой специальностью было немало – вспомним, какими были конкурсы в институты иностранных языков. Кстати, между различными школами перевода шла ожесточенная борьба и процветала полнейшая свобода самой разнузданной критики.
Зарубежным читателям «Мастера и Маргариты» описание «дома Грибоедова» с его изобилием экзотических материальных благ может показаться плодом буйной писательской фантазии – ведь на Западе процветать за счет писательского ремесла могут лишь немногие знаменитости. Однако в СССР те, кому довелось стать членом Союза писателей (а таковых были тысячи!), могли не беспокоиться о хлебе насущном и спокойно заниматься творчеством. И это стимулировало приток талантливых людей в литературу и поэзию.
Кстати, можно смело утверждать, что ни в одной стране мира поэзия не занимала такого места, как в СССР. Евгений Евтушенко отнюдь не преувеличивал, когда писал:
- Наследников Сталина, видно, сегодня не зря
- хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами,
- не нравится время, в котором пусты лагеря,
- а залы, где слушают люди стихи, переполнены.
В самом деле, где еще, кроме как в СССР, поэтические вечера собирали полные стадионы, как это было в 60-е годы? И это создавало особую, неповторимую атмосферу, которую и сегодня вспоминают с ностальгией даже те, кто был предельно далек от идеализации советского строя.
Изначально СССР претендовал на то, чтобы указать светлый путь в коммунистическое будущее всему человечеству. Для страны, которая так и не смогла обеспечить своим гражданам ни широкий выбор товаров и услуг, ни свободу перемещения по миру, не говоря уже о политических свободах, эта претензия казалось странной. Тем не менее, как это ни удивительно, по некоторым показателям СССР и в самом деле был «впереди планеты всей». И не только по количеству ядерных боезарядов на стратегических и тактических носителях или по атомным ледоколам. Было еще и кое-что другое, что сегодня представляется весьма удивительным и чему я лично был свидетелем. В СССР времен моей юности не было безработицы. В СССР 60–80-х годов практически не было нищих. Все пожилые люди получали пенсию, и этой пенсии в большинстве случаев хватало на вполне приличную жизнь. Другой момент, что понятие об уровне этой жизни в те времена были иные. Бесплатные пионерские лагеря, санатории, профилактории, путевки на курорты, переселение десятков миллионов людей из бараков и лачуг пусть и в индустриальное, но отдельное, благоустроенное, а главное – тоже бесплатное жилье, огромное количество льгот очень широкому спектру населения, бесплатное образование – все это отнюдь не мифы советской пропаганды.
Конечно, людям хотелось большего – свободы заниматься бизнесом, высказывать любые взгляды, читать любые книги, смотреть любые фильмы, путешествовать по всему миру. Но все это возможно лишь при наличии неких базовых социальных гарантий – «пирамиду Маслоу» никто не отменял.
«Он пугает, а мне не страшно»
Когда-то на заре перестройки я буквально «запоем» прочел «Мою жизнь» Льва Троцкого. И сегодня я почему-то больше помню именно его необыкновенно поэтические рассказы о детстве, а не его борения то с меньшевиками, то с большевиками, то с «термидорианцами», ни даже не его весьма пристрастные облачения Сталина и исключительно проницательные прогнозы о возможном «буржуазном перерождении» СССР. С тех пор в чтении различных автобиографий меня особенно увлекает именно детство автора.
Детство мое прошло в небольшом селе Мындра в шестидесяти километрах от Кишинева. В селе жили украинцы, русские, молдаване, но никаких межнациональных конфликтов между ними не было. Между прочим, это тоже было немалым достоинством СССР – мирное сосуществование различных наций. Правда путь к нему был долгим и кровавым – вспомним хотя бы сталинские депортации целых народов.
В детстве я был обычным деревенским парнем – ловил рыбу, гонял соседских кур и гусей, катался на велике, играл с друзьями в футбол и «казаков-разбойников».
Говорят, что характер человека – это комплексы, приобретенные им в детстве. Главным образом в семье. В этом плане мне повезло. Мои родители были, как принято говорить, простые люди. Хотя что такое «простой человек»? Каждый человек по-своему сложен – это целая вселенная. Но вот отношения между ними были действительно простыми – доброжелательными, без ссор и разговоров на повышенных тонах. Разногласия, если они иногда возникали, разрешались с юмором.
В то же время в детстве мне иногда казалось, что в жизни существуют как бы две вселенной. Одна – которую взрослые придумали специально для детей. В которой нужно слушаться папу и маму, делать уроки, где нельзя обманывать и воровать у сестры конфеты, вообще такая вся правильная и… скучная. А есть и другая, которую взрослые тщательно срывают от нас и где они живут своей настоящей жизнью и делают что-то такое, в чем никогда не признаются. Отголоски той, другой, вселенной доходили до нас в каких-то порой непонятных фразах, странных надписях и рисунках на изгородях, в фильмах «детям до 18 вход воспрещен», на которые нам иногда каким-то чудом удавалось пробиться. И мне, и моим сверстникам ужасно хотелось хотя бы чуть-чуть приблизиться к этой «настоящей» вселенной, будь то тайно выкуренная «беломорина», впервые попробованное отвратительное горькое пиво, употребленное к месту или не к месту «запретное» словечко или взорвавшаяся самодельная ракета, сделанная с помощью украденного у деда охотничьего пороха.
Очень часто, к сожалению, взрослые забывают, что сами когда-то были детьми, и полагают, что их дети вполне довольны тем искусственным уютным мирком, который они для них так тщательно создавали, и не мечтают о чем-то совершенно другом. А они мечтают, и в своих мечтах перевоплощаются и в страшных чудовищ, и в жестоких пиратов, и вообще, как правило, в «серых волков», а отнюдь не в «красных шапочек». Ведь порок дьявольски привлекателен – иначе откуда у него столько верных служителей?
Вот почему родители ни в коем случае не должны говорить детям: «Вырастешь – узнаешь». Они должны быть для них умелыми проводниками во взрослую жизнь, открывая для них ее захватывающие стороны, но и не скрывая трудные и негативные. Для разговоров с детьми нет запретных тем – важен лишь ум и такт, с которыми эти разговоры ведутся. А если родители учат одному, а поступают по-другому, ребенок только лишний раз убеждается в «раздвоенности» вселенной и будет стремиться поскорее «перепрыгнуть» в ту, «настоящую» взрослую жизнь.
Впрочем, родители всегда воспитывали меня на личном примере и их слова не расходились с делами. Помню, как мама учила меня и сестру не бахвалиться. И я всегда старался придерживаться этого принципа. Когда меня обзывают в СМИ «звездным адвокатом», ничего, кроме иронической улыбки, у меня это не вызывает. Ну, право, далеко мне до Спасовича, Карабчевского и Плевако. К сожалению, очень часто бывает, что человек, на которого упал какой-то призрачный лучик славы, начинает ощущать себя центром вселенной. Его настроение всецело зависит от «лайков», он делит весь мир на тех, кто бурно восхищается им, и тех, кто делает это, с его точки зрения, недостаточно активно. Даже в плане достижения успеха это очень непродуктивно. Бахвал утрачивает критическое отношение к себе и начинает брать на себя задачи, к решению которых он просто не готов. Есть немало примеров того, как даже известные миллиардеры, заболев «звездной болезнью», брались за новый бизнес, в котором мало что понимали, и губили его. Вспомним хотя бы покупку «Твиттера» Илоном Маском. Кроме того, такие качества, как эгоцентризм и нарциссизм, отталкивают рационально мыслящих окружающих от их носителя. Зато разного рода льстецы и прохиндеи могут ими воспользоваться в своих корыстных целях. Люди, упоенные собой, лишенные самоиронии – прекрасный объект для вербовки иностранными разведками и легкие жертвы различных аферистов. И напротив, трезвое, критическое отношение к себе – залог развития и совершенствования.
Среди моих сверстников были те, кто служил для своих родителей «мальчиками для битья». Теперь я уверен, что эти родители просто вымещали на них какие-то свои «комплексы». И, к сожалению, как мне доводилось замечать, у таких детей весьма нередко также формируются серьезные психологические проблемы. Один мальчик, которого обижали сверстники, говорил: «А у меня брат служит в ВДВ. Вот вернется он и вам покажет». Такое происходит от комплекса неполноценности. Человек чувствуют свою ущербность и незащищенность и пытается компенсировать их за счет каких-то внешних факторов.
В следующие годы мне не раз доводилось слышать подобную фразу, произнесенную в весьма недоброй тональности: «А ты знаешь, у меня есть очень влиятельный покровитель». В подобных случаях мне сразу вспоминаются слова графа Льва Толстого про Леонида Андреева: «Он пугает, а мне не страшно». И вы не бойтесь. Если вы ведете достойную и законопослушную жизнь, у вас всегда есть шанс отстоять свою правоту, какие бы «влиятельные лица» ни играли на противоположной стороне. Весь мой адвокатский опыт это подтверждает.
Такая недостижимая справедливость
В школе я любил литература и физику. Однажды даже принял участие в районной Олимпиаде и занял второе место. Любил и химию – но в меньшей степени. О профессии юриста я тогда практически ничего не знал и о подобной перспективе и вовсе не задумывался. Хотя уже тогда у меня было обострено то чувство, которое с детства заложено в каждом из нас, просто у многих оно со временем притупляется – чувство справедливости. Мне нравилось разрешать конфликты среди детей, выступать своего рода «третейским судьей», мирить врагов. Те, у кого это чувство остается на всю жизнь, иногда становятся адвокатами.
Как мне кажется, я впервые столкнулся с несправедливостью очень рано – это было в первом классе начальной школы. Мы проходили букварь. И то ли мне не понравился учитель – такой высокий, худой, помню, как сейчас, его звали Сергей Александрович, то ли я ему, но у нас возник какой-то конфликт. И тогда он вдруг взял букварь и ударил меня им по голове. Букварь развалился. Сказать, что я был потрясен – значит, ничего не сказать. Наверное, правильно замечено в сказке Джеймса Барри «Питер Пэн», что ребенок никогда не может забыть первой в своей жизни несправедливости, совершенной против него. Я с отсутствующим видом досидел урок до конца, а после школы, придя домой, ничего не сказал родителям об этом случае. На следующий день я, как обычно, взял ранец и вышел из дома, но в школу не пошел, а целый день бродил в одиночестве по полям. Вернувшись домой, я опять ничего не сказал родителям. Но, видимо, кто-то видел меня и «настучал» моей маме. Когда я вышел из дома на следующий день, она проследила за мной. И нашла меня посреди кукурузного пуля. Помню, как она бегала за мной с каким-то прутом в руке, пытаясь схватить за ранец. А я изворачивался как мог. Конечно, потом она пошла со мной в школу, поговорила с учителем, и недоразумение было вроде бы улажено. Но в голове у меня после этого случая как-то крепко засело: не все правильно в этом мире, даже те люди, которые, казалось бы, призваны олицетворять доброту и благородство, могут быть грубыми, несправедливыми, жестокими. И с этим пока еще ничего нельзя поделать.
Другой случай несправедливости, правда, лично меня никак не касавшейся, произошел, когда я учился в десятом классе средней школы, и оказал глубокое влияние на всю мою последующую жизнь.
У нас, как и у всех советских школьников, был предмет под названием «История СССР». Особого интереса он у меня не вызывал, поскольку учебник истории, как я теперь понимаю, был написан очень сухо и казенно. Казалось, что история развивалась по какому-то заранее написанному сценарию: в ней не было места поиску, сомнению, колебаниям: «партия Ленина, сила народная, нас от победы к победе ведет». И никуда от этого было не деться. Мне тогда казалось, что наша история какая-то суховатая, а вот французская и английская, напротив, чрезвычайно интересные.
Но тогда, в десятом классе, одно обстоятельство в учебнике советской истории меня как-то «зацепило», поскольку было связано с реальным конфликтом. В учебнике неоднократно упоминались лидеры различных «левых» и «правых» «антиленинских» оппозиций – Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томский, Пятаков. Все они, если верить учебнику, начиная еще с дореволюционных лет, постоянно ошибались, заблуждались и как только могли вредили партии и Ленину и при этом не совершали совершенно ничего хорошего.
Здесь было какое-то неразрешимое противоречие: коль скоро эти люди были столь плохи и опасны, почему «гениальный», «прозорливый», «никогда не ошибавшийся» Ленин вообще терпел их, почему он не добился их отставки, исключения из партии или даже чего-то худшего? И вообще, каким образом они проникли в большевистскую партию, что их туда привело? Ведь состояли они в ней еще с дореволюционных лет, когда членство в партии, призывавшей к свержению царского строя, не могла принести никакой выгоды.
В нашей школьной библиотеке были повсюду разбросаны белые брошюрки со статьями Ленина. Одна из них называлась «Письмо к съезду». К моему удивлению, в этом письме я нашел ленинские характеристики упомянутых деятелей. Сказать, что они меня удивили, – ничего не сказать! Оказывается, Троцкий был «самым способным» человеком в ЦК, а Бухарин – не только «крупнейшим и ценнейшим теоретиком партии», но и «любимцем все партии». Тем страннее выглядело примечание в брошюре, где говорилось, что Бухарин был исключен из партии и впоследствии осужден. Неужели Ленин так фатально заблуждался в людях?
В школьной библиотеке был комплект изданной в начале 60-х годов исторической энциклопедии: я поискал фамилии «Троцкий», «Бухарин» и «Зиновьев», но ничего не обнаружил. Это было тем более странно: ведь даже из школьного учебника было понятно, что эти люди занимали в советском государстве очень высокие посты. При этом в той же энциклопедии были упомянуты какие-то совсем уж мелкие партийные деятели, которых не было в учебнике истории.
Но однажды в той же школьной библиотеке я обнаружил старую книгу в твердом, слегка потрепанном переплете. Называлась она «Судебные речи». Это были выступления на судебных процессах прокурора СССР А. Я. Вышинского. Не скажу, что я «проглотил» эту книгу от начала до конца, многое мне было совершенно непонятно, но все же она меня поразила. Из речей грозного прокурора, о котором нам ничего в школе не рассказывали, вырисовывалась кошмарная картина: оказывается, те самые лидеры оппозиций, судьба которых меня заинтересовала, не просто совершали ошибки и тащили партию не туда, они были еще и агентами иностранных разведок, убийцами и террористами: организовывали крушения поездов на железных дорогах, занимались вредительством на предприятиях, провоцировали кулацкие восстания, по их указанию были убиты Куйбышев, Киров, Менжинский, А. М. Горький и его сын Максим Пешков, они готовили покушения на Сталина и Ворошилова и даже в свое время намеревались убить Ленина!
До сих помню почти наизусть заключительную часть одной из этих речей: «Нет слов, чтобы обрисовать чудовищность совершенных подсудимыми преступлений… Весь народ теперь видит, что представляют собой эти чудовища… Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов! Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!
Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом со мною, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили!..
Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю тягчайших преступников, достойных одной только меры наказания – расстрела, смерти! Взбесившихся собак я требую расстрелять – всех до одного!»
Об этих страшных речах я думал не один вечер, не решаясь ни к кому обратиться за разъяснением. В самом деле, если эти люди совершили такие ужасные преступления и эти преступления были разоблачены, то об этом должно было быть написано во всех учебниках истории, об этом должны были быть сняты художественные фильмы, написаны книги, а те, кто вывел на чистую воду этих ужасных злодеев, должны почитаться всеми как великие герои. Но этого почему-то не было. В библиотеке я еще нашел книгу, изданную в 60-е годы, называлась она, кажется, «Крушение антисоветского подполья в СССР». Там речь шла о «Шахтинском деле», «Промпартии», но о преступлениях бывших партийных вождей ничего не говорилось.
«Тогда что же остается? – думал я. – Только одно: эти люди не были виновны в тех ужасных делах, в которых их обвиняли». Но тогда, получается, что виноваты другие: те, кто расследовал эти мнимые преступления, кто предъявлял им обвинения, те, кто поддерживал эти обвинения в суде, те, кто выносил несправедливые приговоры. И, наконец, те, кто упорно замалчивал и замалчивает все это. Виноваты все. Вся страна, получается.
Но это было еще не все. Коль скоро эти люди были ни в чем не виновны, они должны были заявить об этом на суде – не могли не заявить. Из речей Вышинского, однако, можно было заключить, что все подсудимые признавали свою вину, за исключением разве что каких-то деталей. Это было уже совершенно непостижимо. Кто и что могло заставить их сделать это? Неужели пытки? Но мне было даже страшно представить, что какие-то советские службы могли применять пытки.
После этого я еще раз решил заглянуть в историческую энциклопедию. К моему удивлению, некоторые из подсудимых, о «злодействах» которых говорил Вышинский, в энциклопедии были упомянуты, причем во вполне позитивном смысле. Например, Крестинский. О нем было сказано: «незаконно репрессирован». Значит, все обвинения в его адрес были ложными! Тогда я поискал фамилию «Вышинский». О нем было как-то туманно сказано, что его теоретические труды послужили обоснованием нарушениям социалистической законности.
«Как же так, – думал я, – этот негодяй, как какой-нибудь гестаповец, отправлял на смерть ни в чем не повинных людей, но об этом ничего не сообщают, а пишут о каких-то его теоретических ошибках. Ничего себе „ошибки“»!
Наконец, окончательно запутавшись, я решил обратиться с этими вопросами к нашему учителю истории. Его имени-отчества я почему-то не запомнил. Подловив его где-то в коридоре, я изложил ему свои мучительные сомнения. По мере того как я говорил – несвязно и сбивчиво, – его лицо все более мрачнело.
– И где же ты взял такую книгу? – наконец спросил он.
– У нас в библиотеке на полке лежала.
– И зачем ты ее взял? Разве я или кто-нибудь еще советовал ее прочитать?
– Нет, никто не советовал. Но теперь я прочитал и хочу узнать, что же это было?
– Об этом мы никогда не узнаем, – ответил он, давая понять, что разговор закончен. – И тебе не советую этим интересоваться, если ты не хочешь, чтобы у тебя были в жизни большие неприятности.
На следующий день, придя в библиотеку, я не нашел там книги Вышинского. Вот тогда я, кажется, впервые усомнился в справедливости советского строя.
«Значит, – размышлял я, – в нашей жизни есть что-то такое, о чем говорить нельзя? Но почему? Скрывают только нехорошие дела. А здесь, судя по всему, речь шла о каких-то ужасных преступлениях, о которых нам почему-то не хотели говорить правду».
Мои родители здесь мне помочь не могли. У отца образование составляло всего четыре класса румынской школы, у мамы и того не было. Хотя отец, работавший разнорабочим и в свое время мечтавший стать агрономом, в свободное время любил читать. Но все же вряд ли имело смысл обсуждать с ним эту проблему.
Один из моих приятелей под большим секретом рассказал мне, что он слушает по вечерам зарубежные радиостанции, правда, его интересовали главным образом музыкальные передачи. У нас дома был хороший приемник «Ригонда» с двумя коротковолновыми диапазонами. Иногда, глубоко за полночь, возвращаясь с работы (в десятом классе мне приходилось подрабатывать грузчиком, на хлебозаводе, в магазине), я включал его и слушал Би-би-си, «Немецкую волну», «Голос Америки», иногда даже «Свободу». В советское время эти передачи глушили, но у нас они, как правило, были неплохо слышны. Однажды одна из этих радиостанций в течение нескольких вечеров подряд передавала отрывки из книги одного английского историка, чье имя я в то время не запомнил, которая называлась «Большой террор». Позднее я узнал, что его звали Роберт Конквест. И хотя у меня не было возможности слушать эти передачи каждый вечер, даже того, что я услышал, было достаточно, чтобы заронить во мне еще большие сомнения относительно истории той страны, в которой я жил. Конечно, если бы я не читал речи Вышинского, я мог бы подумать, что все, сказанное в книге «Большой террор», – антисоветская пропаганда. А так все складывалось в некую единую картину. Получалось, что не только «заблудшие» партийные вожди, но и сотни тысяч других, ни в чем не виновных советских людей, были незаконно репрессированы – расстреляны, отправлены в лагеря, сосланы. Нет, конечно, мне доводилось иногда встречать в книгах упоминания о «нарушениях социалистической законности» в 30-е годы, в том же школьном учебнике упоминался XX съезд и постановление «О культе личности и его последствиях», но я и представить не мог, что эти репрессии разворачивались в таких чудовищных масштабах и что они привели едва ли не к тотальному уничтожению ведущих деятелей большевистской партии, сподвижников Ленина.
Уже после знакомства с книгой Конквеста я неожиданно нашел подтверждение тем ужасам, о которых в ней рассказывалось. И не где-нибудь, а в советской философской энциклопедии. В статье «Культ личности» там говорилось: «Старые большевики, особенно те, кто помнил ленинское „Завещание“, понимали ненормальность складывавшейся обстановки. Как выяснилось много лет спустя, в дни XVII съезда ВКП (б) (1934) у некоторых делегатов возникла мысль о смещении Сталина с поста генерального секретаря; при выборах в ЦК некоторые делегаты проголосовали против Сталина. После съезда Сталин принял свои меры, уничтожив больше половины участников XVII съезда: 1108 из 1966 делегатов. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде, погублено 98 человек. С каждым годом репрессии усиливались, Сталин все шире и настойчивее действовал через карательные органы, вывел аппарат госбезопасности из-под контроля партии и лично сам, через специально подобранных людей, направлял его деятельность».
В результате мое представление об СССР, как о самой справедливой стране мира, было сильно поколеблено, но было бы преувеличением сказать, что я стал каким-то диссидентом. Я оставался обычным советским молодым человеком. Но какая-то дополнительная «аллергия» на несправедливость у меня возникла.
Школа жизни
После школы я бы мог попытаться поступить в институт, где была военная кафедра, чтобы потом либо не служить вообще, либо проходить службу в чине лейтенанта. Но я решил все-таки отслужить в армии рядовым. Тем более к тому времени я еще не определился, кем стать во взрослой жизни. Никто в нашем селе не смотрел на призыв в армию как на трагедию, наоборот, считалось существенным пробелом в биографии, если молодой человек по каким-то причинам не служил в армии. Первоначально меня хотели призвать в погранвойска. Были шумные проводы, как это было заведено в то время. Однако со сборного пункта меня отправили домой – случился перебор. Пришлось ждать еще полгода, после чего меня призвали уже в ракетные войска.
Нас привезли на полигон Капустин Яр, а оттуда отправили в город Аральск, где я и проходил службу. На всю жизнь запомнил, как нас везли на грузовиках, а вдалеке виднелось неласковое Аральское море. Этот пейзаж настолько врезался в мою память, что когда я работал над одним из своих романов, мне пришла в голову идея сделать эту негостеприимную местность ареной одного вымышленного жесточайшего международного конфликта.
Наши казармы находились примерно в километре от моря. В них стояли двухъярусные кровати. Их было очень много. Первая ночь прошла тревожно, я несколько раз просыпался. Во время одного из своих пробуждений, я услышал чей-то шепот: «Вот, привезли молодняк, надо нам завтра с ними познакомиться». Мне показалось, что интонация, с которой эти слова были произнесены, не предвещала нам ничего хорошего.
Но все обошлось. Мои сослуживцы почему-то сразу прониклись ко мне уважением. Не помню, чтобы у нас возникали какие-то конфликты, не говоря уже о драках. Быть может, это было связано с тем, что незадолго до нашего прибытия четверо старослужащих были осуждены за издевательства над молодыми солдатами к различным срокам лишения свободы. Так что вообще-то дедовщина была и тогда, но с ней решительно боролись, никому из офицеров и в голову не приходило покрывать какие-то эксцессы.
Через несколько месяцев службы меня отправили в сержантскую школу на тот же самый полигон Капустин Яр, где я проучился полгода. Откуда я вернулся старшим сержантом, командиром отделения. Впоследствии я даже «дослужился» до звания старшины, и в моем подчинении оказалось 60 человек. У нас были две «команды», и мы соревновались между собой. Наша команда, как правило, занимала первое место по многоборью, чистоте и дисциплине.
Я сам проводил кроссы по пересеченной местности. Мы бежали в сторону Аральского моря. У меня разворачивается перед глазами эта картина, как в документальном кино: бегут 60 человек, и вдруг у одного сапог попадает в ямку – это норка суслика. Солдат падает, на него наталкивается следующий бегущий и тоже падает, за ним следующий и так далее – эффект домино. Потом все поднимаются и бегут дальше. Вместо утреннего душа – купание в Аральском море. Со временем оно уже не казалось мне таким мрачным.
У меня был очень хороший наставник – капитан Алшинбаев. Восточный человек по происхождению и по манерам, очень мягкий, он учил меня, что не надо никогда повышать голос на подчиненных, а тем более угрожать применять силу. Настоящий руководитель – не тот, кто на всех орет, матерится и размахивает кулаками, а тот, кого уважают и к кому прислушиваются – в переносном и даже прямом смысле, если он говорит тихим голосом.
Но все же, честно говоря, иногда приходилось на кого-то прикрикнуть. Каюсь, я и сейчас могу повысить голос, если кто-то меня сильно разозлит. Но никогда никого не унижаю и долго зла не держу, даже если мой собеседник, что называется, «на взводе» и так и нарывается на конфликт.
В моей команде служил солдат по фамилии Коркин. Он был неимоверно худой, хотя кормили нас прекрасно. Наверное, в детстве он сильно недоедал. И вот однажды, после отбоя, я слышу какой-то странный звук: «крум-крум-крум». Пытаюсь понять, откуда он идет, думаю, может, мыши завелись. Потом понял. Пришлось поднять весь личный состав и построить. Спрашиваю строго: «Кто это ест по ночам, что за суслики такие?» Все стоят, головы опустили. И тут выходит Коркин и говорит: «Это я, мне не хватает». Никак я его не наказал, просто пообещал, что повар будет ему две порции давать. И мне показалось, что после этого он стал заметно тщательнее относиться к службе. Кстати, никто из сослуживцев ему этот факт не поставил в упрек, просто посмеялись.
Когда я уходил на дембель, солдаты писали мне пожелания в альбом и называли «Анатолием Григорьевичем», хотя я до сих пор всегда представляюсь как Анатолий, без отчества.
Когда я говорю, что армия мне очень много дала для моей адвокатской практики, многие смотрят на меня с глубоким недоумением. А иные представители «либеральной» среды и вовсе крутят пальцем виска: да что же можно найти в армии хорошего? Это же потерянное время жизни! Поскольку именно такие люди очень любят оглядываться на заграницу, то можно привести пример Израиля. В этой стране обязательную военную службу проходят все, за исключением арабов и ультрарелигиозных ортодоксов – «харедим», которые могут служить или не служить по собственному выбору. Военная служба стала там исключительно престижным делом. И вопрос «в каком полку вы служили?» является далеко не праздным. Отслужившим в элитных подразделениях практически гарантируется успешная карьера в гражданской жизни. Многие израильские премьеры были либо видными военачальниками, либо служили в спецназе Генштаба и тому подобных элитных соединениях, куда отбирают лучших из лучших. И никто из них не жаловался на то, что армейская служба помешала его учебе или каким-то образом воспрепятствовала развитию их природных способностей. Более того: именно Армия обороны Израиля стала тем горнилом, в котором «выплавилась» новая еврейская нация. Ведь до образования государства Израиль далеко не все евреи отдавали должную дань спорту и здоровому образу жизни. А теперь процент таких людей резко возрос. И когда 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили вторжение в Израиль, не только резервисты, находившиеся в стране, поспешили на призывные пункты, но и евреи, проживавшие за границей, бросили все и немедленно купили билеты на самолет, чтобы встать на защиту своей родины. А ведь еще незадолго до этого израильское общество пребывало в состоянии глубочайшего раскола в связи в проводимой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформой. Такое отношение к собственной армии, безусловно, заслуживает всяческого уважения.
Советская армия, при все своих недостатках, была «плавильным котлом», где перемешивались самые разные национальности, конфессии, мировоззрения и вырабатывался некий приемлемый для всех стандарт поведения. Этот опыт мне впоследствии пригодился. Ко мне как к адвокату приходят люди самой различной культуры, порой совершенно несовместимые по своим взглядам, идеологии, традициям. И мне нередко приходится выступать своего рода посредником, примирять их, делать так, чтобы бывшие враги становились если и не друзьями, то, по крайней мере, партнерами. И всякий раз, когда это удается, я с благодарностью вспоминаю службу в армии. Вообще, успех в работе адвоката во многом основан на искусстве человеческого общения. А лучшую школу такого общения, чем армия, наверное, сложно представить. Хотя, конечно, это очень суровая школа.
Кроме того, служба в ракетных войсках научила меня не бояться неожиданностей и стрессовых ситуаций, которые там, как нетрудно представить, случаются постоянно. Поэтому, когда у меня, к примеру, ночью звонит телефон, и мне сообщают, что случилось нечто непредвиденное, я не впадаю в панику, а действую спокойно и осмысленно.
Армия учит общению с самыми разными человеческими типами. В Москве нередко интеллигентные люди выбирают себе очень узкий круг для общения, исключительно состоящий из таких же, как они сами, людей – мягких, обходительных, образованных, утонченных, приятных во всех отношениях. И когда такой человек попадает в непривычную или, того хуже, враждебную среду, он теряется, не знает, как себя вести, допускает непоправимые ошибки. Мне же, что называется, не привыкать к самым разным людям. И если кто-то, скажем, следователь, прокурор или не в меру ретивый сотрудник ГИБДД, начинает, что называется, «гнать жуть», меня это не пугает, скорее, даже смешит. Ведь уверенный в себе человек не прибегает к угрозам, а те, кто это делает, как правило, сами чего-то бояться.
Мои битвы с гаишниками
Кстати, расскажу пару характерных случаев из моей последующей жизни. У меня есть водитель, но нередко я сажусь за руль сам. А поскольку адвокат должен подавать пример законопослушания я, естественно, стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Это обстоятельство, однако, не спасло меня от нескольких неприятных встреч. В один из ноябрьских вечеров 1998 года я вышел из своего офиса на Пречистенке, сел за руль автомобиля и направился в сторону дома. Впрочем, слово «вечер» здесь употреблено мной весьма условно – в то время я обычно работал у себя в офисе до глубокой ночи и совсем даже не помышлял о здоровом (или как некоторые говорят – правильном) образе жизни – это пришло много позднее. Недалеко от метро меня остановили.
Бывало, сотрудники ГАИ (так тогда называлось это ведомство) узнавали меня, и сразу же желали счастливого пути, но в этот раз такого не случилось. На мне была куртка и вязаная шапочка – вид не слишком представительный. Я вышел из машины.
– Документы! – рявкнул гаишник.
– Пожалуйста, представьтесь, – попросил я с максимальной вежливостью.
Гаишник не соизволил представиться и, пробормотав что-то невнятное, забрал у меня техпаспорт, водительское удостоверение и направился к патрульной машине.
– Не могли бы вы мне все же объяснить, какое правило дорожного движения я нарушил? – столь же вежливо поинтересовался я.
Конечно, я мог бы, наверное, сразу назвать себя и попрощаться, но здесь у меня взыграло любопытство: а что же будет, если действовать «по правилам?»
– Эй, «подкрути» там ему скорость, – закричал гаишник своему напарнику, стоявшему возле патрульного автомобиля.
– Позвольте, – начал я, направляясь вслед за гаишником к патрульной машине, – я ехал со скоростью 50 километров в час, здесь и разогнаться-то негде…
Но ретивый страж безопасности дорожного движения был уже тут как тут: оттолкнув меня на перила ограждения, он достал рацию и истошно завопил: «Внимание, нападение на сотрудников ГАИ!»
В свою очередь, я извлек из кармана сотовый телефон и быстро набрал номер одного из руководителей московского правительства, с которым у меня уже давно установились дружеские отношения. Гаишник с отборным матом бросился на меня, как разъяренный лев, стараясь вырвать мой телефон. После отчаянной борьбы за право свободной передачи информации мне все же удалось сообщить моему другу, в чем дело и где я нахожусь.
Минут через пятнадцать к месту происшествия подъехали две милицейские машины. Прибывшие стражи порядка, ожидавшие, очевидно, встретить вооруженного до зубов преступника или, по крайней мере, пьяного дебошира, были заметно разочарованы моим смиренным и законопослушным видом.
– Ладно, забираем, – произнес наконец капитан милиции, очевидно, главный из них.
Но в этот момент площадь огласилась воем сирен и осветилась огнями «мигалок»; из подъехавшего автомобиля вышли прокурор одного из округов Москвы и представитель столичного ГУВД…
Надо было видеть лица гаишников. Один из них наконец-то взглянул на мое водительское удостоверение, повертел его в руках и растерянно произнес: «Что же вы не сказали, кто вы такой? А то вот в шапочке – я и не узнал»…
На следующий день мне прислали мои документы вместе с уведомлением об увольнении незадачливых правоохранителей из органов внутренних дел…
Все хорошо, что хорошо кончается. Но если бы на моем месте оказался никому не известный, но столь же законопослушный российский гражданин? Думаю, не миновать бы ему как минимум бессонной ночи, проведенной в отделении милиции, многочасовых допросов, а скорее всего, и побоев «при задержании», крупного штрафа и лишения водительских прав, а то и суда по обвинению в нападении на сотрудников органов внутренних дел. И все лишь потому, что он стремился защитить свои законные права…
С тех пор прошло много лет, и, казалось, поведение сотрудников ГИБДД и обстановка в этом ведомстве в целом изменились к лучшему. Однако где-то в октябре 2011 года со мной произошел аналогичный случай. Дело было в Одинцовском районе Московской области, где сотрудники ГИБДД остановили меня после пересечения железнодорожного переезда и потребовали предъявить документы. Свое обращение ко мне сотрудник ГИБДД начал так: «Уважаемый, приветствую!»
В свою очередь, я попросил их представиться и объяснить, какой пункт Правил дорожного движения я нарушил. Почему-то они этого не сделали и продолжали грубить дальше. Мне не оставалось ничего другого, как позвонить одному из руководителей ГИБДД области и разъяснить ситуацию. Впоследствии этим сотрудникам ГИБДД было объявлено административное взыскание, на чем я, разумеется, никак не настаивал.
Это ничтожное происшествие я бы оставил без внимания, если бы не тот шум, который раздули из него отдельные СМИ. Под пером некоторых журналистов я буквально не узнавал себя. Утверждалось, что я пересек железнодорожный переезд на красный свет под самым носом у шедшего поезда. Ну, прямо как тот водитель из банды «Черная кошка» из фильма «Место встречи изменить нельзя». Кстати, выполнить такой трюк физически нереально, поскольку вместе с красным сигналом светофора перед переездом поднимается специальное заграждение, делающее проезд невозможным. Далее утверждалось, что у меня имеется некий документ, позволяющий нарушать любые правила дорожного движения и запрещающий сотрудникам ГИБДД проверять мой автомобиль. Интересно, в силу каких обстоятельств мне он мог быть выдан? Я же не секретный сотрудник какой-нибудь спецслужбы. И уж совсем нелепо звучали утверждения о том, будто я хамил сотрудникам ГИБДД и оскорблял их. Любой сотрудник правоохранительных органов, который когда-либо общался со мной, подтвердит, что такой стиль общения просто не в моих правилах. Единственное, чего я добивался, чтобы сотрудники ГИБДД действовали в соответствии с законом и своими служебными обязанностями. При этом я далек от того, чтобы по этим двум эпизодам оценивать сотрудников ГИБДД в целом. Их служба, в самом деле, и трудна, и порой опасна.
Никогда не использовал свою известность для получения каких-то особых прав. Но столь же странно было бы терпеть беззаконие.
Как Николай Добролюбов и Мартин Иден направили меня на путь истинный
После службы в армии в моей жизни начался очень сложный период, когда человек оказывается на перепутье и уже порой начинает жалеть, что он вообще появился на свет.
Ну а мне в тот момент помог Николай Добролюбов. Случайно я наткнулся на его предсмертные слова: «Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать… ничего!.. Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное… теперь ничего, ничего!»
И я заинтересовался: неужели и в самом деле ничего? На самом деле Добролюбов оставил колоссальное наследие – литературное, поэтическое, педагогическое, всего не перечислишь. Он был – редчайшее в то время явление – противником физических наказаний для детей, выступал против скучных и лживых учебников, учил видеть в ребенке не «объекта воспитания», а человеческую личность.
Блистательный литературный критик и человек прогрессивных взглядов, Добролюбов был менее всего похож на нигилиста или революционного фанатика, вроде Базарова или Рахметова. Он обладал тонким чувством юмора, о чем свидетельствуют его литературные маски Конрада Лилиеншвагера, Якова Хама и Аполлона Капелькина.
Вот стихотворение Якова Хама «Неаполю»:
- «Гордись!» – стих каждого поэта
- На всех наречиях земных
- Гласит тебе: – «ты чудо света?
- Гордись красою вод твоих,
- Гордись полуденным сияньем
- Твоих безоблачных небес
- И вековечным достояньем
- Искусства мирного чудес!
- Гордись!..»
- Но лестию лукавой,
- Неаполь мой, не возносись:
- Всем этим блеском, этой славой,
- Всем этим прахом – не гордись!
- Пески сахарские южнее,
- Стоит красивее Царьград,
- И Эрмитажа галлереи
- Твоих богаче во сто крат!..
- Не в этом блеске суетливом
- Народов мощь заключена,
- Но в сердце кротком, терпеливом,
- В смиренномудрии она!..
Под «австрийским поэтом» Яковом Хамом немедленно угадывается историк, философ и славянофил Алексей Хомяков, никак не осмеливающийся, говоря словами Козьмы Пруткова, «положить охулку» на красивую чужестранку ввиду ее полного равнодушия к красотам «святой Руси».
Доставалось от него и мелкотравчатым обличителям. Таков еще один вымышленный поэт Конрад Лилиеншвагер, пародирующий «отважного обличителя», генерал-майора Якова Розенгейма, причем пародия начиналась уже с обыгрывания фамилия: «Розенгейм» по-немецки: «роза» плюс «дядя», «Лилиеншвагер» – «лилия» плюс «свекор»:
- Я видел муху в паутине —
- Паук несчастную сосал;
- И вспомнил я о господине,
- Который с бедных взятки брал.
- Я видел червя на малине —
- Обвил он ягоду кругом;
- И вспомнил я о господине,
- На взятки выстроившем дом.
- Я видел ручеек в долине —
- Виясь коварно, он журчал;
- И вспомнил я о господине,
- Который криво суд свершал.
- Я видел деву на картине —
- Совсем нага она была;
- И вспомнил я о господине,
- Что обирал истцов дотла.
- Я видел даму в кринолине —
- Ей ветер платье поддувал;
- И вспомнил я о господине,
- Что подсудимых надувал…
- Лягушку ль видел я в трясине,
- В театре ль ряд прелестных лиц,
- Шмеля ли зрел на георгине,
- Иль офицеров вкруг девиц, —
- Везде, в столице и в пустыне,
- И на земле, и на воде, —
- Я вспоминал о господине,
- Берущем взятки на суде!..
Просто невероятно жалко, что жизнь такого блистательного и разностороннего человека оборвалась столь рано! И тогда я подумал, что, возможно, еще ничего не кончено, а напротив – все впереди!
Некоторые в подобных ситуациях начинают терзать себя из-за допущенных в прошлом ошибок. Не стоит этого делать. Прав Стив Джобс: «Что проку оглядываться назад и говорить: жаль, что меня тогда уволили, жаль, что меня не было там, сожалеть о том, сожалеть о сем. Поэтому давайте думать о завтрашнем дне, а не сожалеть о том, что произошло вчера».
Вообще же многие люди страдают от самоедства. Человек ложится спать и не может заснуть – перед его мысленным взором бесконечной чередою проходят эпизоды не только прошедшего дня, но и всего его прошлого: «как глупо я себя повел!», «напрасно я это сказал!», «как мог я так обидеть человека!», «а у меня забурчало в животе, и, наверное, все это слышали», «я рассказал анекдот, а никто даже не улыбнулся» и т. д. Эти воспоминания подобны яду, который пропитывает мозг и тело и отравляет всю дальнейшую жизнь. И так несчастный ворочается до полуночи, а когда сон все же сжалится над ним, к нему опять в каком-то фантастическом водовороте возвращаются все те же мысли и эпизоды.
