Бункер (записки Аллана Рамсэя)
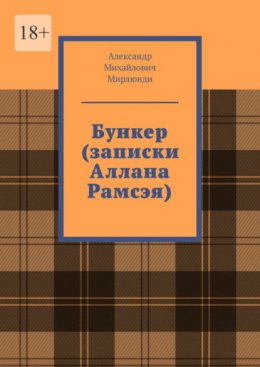
© Александр Михайлович Мирлюнди, 2025
ISBN 978-5-0068-1327-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
БУНКЕР
(Записки Аллана Рамсэя)
Посвящается Аркадию и Борису Стругацким
1.
Поминки по профессору Уинки выдались на славу и закончились сексуальной оргией. Как того и хотел покойный. Утром мы поехали в больницу на прощание. Профессор с каждым прощался лично и довольно быстро. «Бросай ты этот гэльский, Гиши, – шепнул он мне по-английски, – и займись чем-нибудь приличным. А главное, больше трахайся!». Уинки всегда называл меня, как и отец, Гиши. С ударением на первый слог. Затем я вместе с другими прощавшимися зашел в небольшой зал с нежными кремовыми стенами и молочными креслами. Панели разошлись, и мы увидели за стеклом маленькую палату для эвтаназии с кушеткой-каталкой посередине. Заиграла весёлая музыка. Сбоку, пританцовывая, вышел Уинки в одних просторных, похожих на шорты, трусах. Я видел его танцующим первый раз в жизни. Все остальные, думаю, тоже. Танцевать он не умел, а просто размахивал по сторонам руками и ногами, и гримасничал, не глядя на нас. Дойдя до середины комнаты, он вдруг остановился, словно вспомнив о чём-то, затем развернулся, и резким движением снял с себя трусы, показав нам свой тощий голубоватый зад. Все засмеялись и зааплодировали. Уинки лёг на кушетку, вошёл доктор с широкой улыбкой, держа в руке шприц. Он что-то сказал профессору, отчего тот хохотнул, затем доктор весело брызнул из шприца наверх, аккуратно взял руку профессора, нашёл там вену, и небыстро, но весьма энергично ввёл в неё раствор из шприца. На экране сбоку нам показали крупный план профессорского лица. Профессор подмигнул нам глазом, свёл зрачки к переносице, открыл рот и сильно высунул из него язык, скривив его к подбородку. Затем чуть дёрнулся, и так и застыл в этом положении. Препарат подействовал. Ударили фанфары. Полетело конфетти. Не стало последнего официального педагога гэльского и ирландского языка. Кто-то громко всхлипнул.
– Мой Уинки просил радоваться в эту минуту, – раздался обиженный голос Барози, к этому времени уже вдовы профессора. – Поэтому попрошу радоваться, иначе на поминки не возьму!
Но на поминки, естественно, были взяты все, и уже скоро мы сидели возле чудесного дома Барози в южной части Гренландии. В ухе Барози блестела новая серёжка. По её просьбе прах мужа под огромным давлением превратили в кристалл. В другом ухе у вдовы сверкали две похожие точки. Должно быть родственники, а может, родители. Вся площадка была заставлена геликоптерами. Они стояли даже возле бассейна. Было много народу, но никто не вспоминал, что Уинки был последний специалист по Шотландии. Наверное, все знали, какое разочарование пережил профессор в том, чем занимался всю жизнь. Даже сын его от первой жены, прилетевший из Австралии, не говорил об этом. Хотя он вообще ничего ни говорил об отце. Сидел с бокалом крепкого, шестиградусного шампанского, и играл в карты с супругой и неизвестными мне людьми. У некоторых австралийцев еще до сих пор в порядке вещей азартные игры. И конечно же, они очень легкомысленны. Легкомысленны по отношению даже к собственным детям, которые, ни у кого не спросив разрешения, одели чьи-то «летучки», и стали летать едва-ли не в сотне метрах над землёй. Лишь изредка жена сына профессора отвлекалась от разговора, вяловато кричала малышам, чтобы не летали слишком высоко, и тут-же, не дождавшись ответа, возвращалась в игру.
Кто-то засмеялся, и бултыхнулся в воду. Я обернулся: весёлые, полностью раздетые мужчины и женщины прыгали с геликоптеров в бассейн. Дети с любопытством спикировали вниз, но на них не обращали никакого внимание. Потихоньку все стали раздеваться. Со смехом голая женщина повалила юношу на газон, и стала снимать с него рубаху. Юноша смущался, но нельзя было не заметить радости, которую он получал от процесса раздевания. Жена сына профессора Уинки подошла, и не спеша увела детей в дом, приговаривая, что дяди и тёти будут заниматься делами, о которых детям знать пока рановато. Не был забыт и я. Напротив появилась обнаженная девушка с неширокими бёдрами, прекрасной линией талии, и небольшими грудями. Розовые щёчки чуть подрагивали от глубокого дыхания. Всё её голое тело было облеплено веснушками. Это была Ирис, куда без её преследований. Она призывно смотрела мне прямо в глаза. Я молчал. Кивком головы она призывно отбросила огненно-рыжие волосы с веснушчатого лба. У неё появился шанс раздеться передо мной, и она им воспользовалась.
– Ты красивый! – сказала Ирис, и как-то извиняющееся улыбнулась.
– Ну, куда мне до вас! – самое интересное, что я действительно так считал, Ирис мне нравилась. И в таком виде нравилась даже очень.
– Извините, что помешала! – Ирис сжала губки, развернулась, и медленно пошла в сторону бассейна, где обнаженных становилось всё больше и больше.
– Мне нравится твоя выдержанность, Аллан! Особенно на фоне всего этого! – я увидел подходящую Барози, очевидно, наблюдавшей за сценой со стороны.
Я улыбнулся. Барози старше меня лет на пятнадцать, но годившаяся Уинки по возрасту во взрослые дочери, относилась ко мне скорее как к младшему приятелю, а не как к ученику супруга.
– Не везёт мне с мужьями, – продолжала Барози. – Один в батискафе захлебнулся, другой сгорел, возвращаясь с Луны. Хотела найти счастье с умным пожилым человеком, да тот, заболев, сошёл с ума на половом вопросе. Был Л…
Она не договорила, и закрыла лицо руками. Я ничего не знал про первых двух мужей. Очевидно, те два кристалла из трёх были именно первые два мужа.
– Как без книжек живётся? Привык? – спросила Барози.
– Нет, конечно.
– И старые бумажные забрали?
– Да, отец сам с этими людьми приезжал… Оставили дрянь какую-то.
– А библиотеки?
– С окончанием университета запрет. Безумие, конечно.
– Да везде безумие, и это тоже, – кивнула Барози.
Шума возле бассейна заметно прибавилось. Уже человек двадцать мужчин и женщин, полностью раздетые, превратились в стонущее колышущееся одеяло телесного цвета. Кто-то в шутку столкнул в бассейн робота, разносившего напитки и закуску.
– Идиотизм, конечно, полный! – в голосе Барози преобладало раздражение.
Некоторое время мы сидели в тишине. Точнее, не в тишине, а в собственном молчании. Тишины не было, её поглотили возбуждённые крики совокупляющихся людей.
– Что у тебя с Марой?
– Всё отлично, – я постарался придать голосу непринуждённость. – Недавно связывались по сюэклю, скоро встретимся.
– Понятно…, – кажется, Барози действительно было всё понятно. Мне почему-то от этого стало неприятно. Будто влезают в мою личную жизнь.
– Биче как?
– Без изменений.
– А Джок?
– Всё там же.
– Понятно… Знаешь, я всегда шла на поводу этого похотливого дурака. Ну почти всегда. Два раза не ходила. Один-когда отказалась раз и навсегда участвовать в групповом сексе, а второй, когда соврала… Подожди, сейчас! Сюрприз для тебя будет!
Барози быстро пошла к дому. Я был заинтригован сюрпризом. Но «похотливый дурак» произвёл большее впечатление. Я не думал, что Барози могла сказать подобное про Уинки, тем более на поминках.
Со стороны бассейна появилась Ирис, которая вела за руку также обнаженного человека с бородой. Остановившись шагах в двадцати от меня, они стали целоваться, постепенно медленно опускаться на газон, и в сидячей позе занялись любовью, и Ирис чуть вскрикнула. Мужчина находился спиной ко мне. Его таз делал характерные быстрые движения.
Я знал этого человека. Это был бывший пастор, из неопуритан, разочаровавшийся, как и Уинки, в деле всей жизни, и примкнувший к Людям Полового Невоздержания, которых на поминках было значительное большинство. Некоторые знакомые профессора, узнав о его последнем желании, не пришли даже на прощание.
Ирис обхватила мужчину под мышки, сцепила свои руки на его спине, прижавшись скулой к его полной шеи. Заметив меня, она, не прекращая движений, подражая Уинки в последние мгновение жизни, свела зрачки к переносице, и показала мне язык, согнув его к подбородку. Я улыбнулся.
– Вот, держи! – подошедшая Барози сунула мне в руку предмет в пакете. – Хоть будет, что почитать. И конечно, не говори никому.
Мы некоторое время молча смотрели на совокупляющуюся пару. Наконец мужчина застонал, дёрнулся, и они обессиленные повалились на землю.
– Он ведь гравюры сжёг. Килт с шапочкой сжёг. Меч старинный переплавил в статуэтку фаллоса, что в гостиной на столе стоит. Бусы деревянные времён Марии Тюдор в кофемолке растолок. Смеялся, говорил, что ничего этого не нужно. Где этот чёртов дневник, говорит, давай его сюда, в огонь брошу. Там гэльский, его не должно существовать! А я сказала, что сама уже сожгла в камине. Первый раз в жизни ему наврала. И последний. Он аж руки потер от радости, и засмеялся, муж и жена говорит, одна сатана, ещё б стесняться перестала, совсем бы мне цены не было… Мудак он, полный мудак…
Барози тихо заплакала.
Я приобнял её. Мне было не по себе. Я не мог представить себе, что Барози назовёт бывшего мужа этим допотопным и мерзким словом.
Мы встали и пошли к дому.
– Ты уже? – протерев глаза, спросила Барози.
– Да, а что здесь делать ещё?
– Ну да… Скорее всё это уже закончилось.
– Ты смотри, чтоб дети не увидели.
– Пойду к ним, кстати, а то эти австралийцы до сих пор в карты играют, а окна открыты.
– Увидимся!
– До встречи!
Мы обнялись с Барози, она пошла в дом, а я к своему геликоптеру, стоявшему на краю полянки. Некоторые совокупляющиеся, не из университетских, не прекращая своих дел, смотрели на меня с интересом. Очевидно, забавное зрелище я представлял для них в своей точной копии костюма допотопных времён, и со своей причёской.
Геликоптер медленно набрал высоту, и плавно полетел. Почему-то я не мог выбросить из головы эту конопатую родственницу Ирлы. Скоро будет океан, а там и до моего Ньюфаундленда полтора часа лёта. Я включил автопилот, откинулся на сидение, и открыл пакет, который отдала мне Барози.
Там лежала книга. Я достал её. Небольшой, но толстенький блокнот с золотистыми точками на обрезе. Когда-то обрез этой книги из допотопной эпохи был полностью золотой. Я открыл посередине. Написано стилусом от руки. Тоненькие рисовые страницы. Буквы мелкие-мелкие, при этом очень чёткие. Каждая буковка понятна. Ни одной нечеткости. И буковки прямые, никакого наклона. Полистал. Старый, высокого штиля английский допотопного периода, местами переходящий в гэльский. И я был одним из последних людей, кто мог это прочитать. Я с удовольствием прикоснулся рукой к обложке этой книги, отделанной шершавой материей в чёрно-красную клетку, с пересекающимися двумя параллельными белыми тоненькими полосочками. В углу голова единорога, обвиваемая ремнём с застёжкой. На ремне надпись «ORA ET LABORA». Так, это клан… Клан… Клан Рамсэев!
Точно! Я открываю обложку, и читаю надпись:
2.
ЗАПИСКИ АЛЛАНА РАМСЭЯ
4 августа 2052 года: – Я, Аллан Рамсэй, когда-то в годы юности некоторое время вёл дневник. Потом мне стало просто не до него. Но сейчас, когда за стенами нашего бункера грохочут молнии и стеной идёт дождь, когда плиты нашей Земли сдвинулись и изменились полюса, когда мы не знаем, что происходит в мире, по причине отсутствия связи, когда мы не знаем даже, живо ли само человечество, я понял, что должен записывать всё это. Хотя бы просто потому, чтобы не сойти с ума.
(Несколько абзацев зачеркнуто-перечеркнуто. Один абзац тщательно закрашен. Несколько страниц вырвано)
5 августа: – Совершенно не знаю, с чего мне начать. Нам всем очень страшно. Вода пребывает. До дома далеко, да и двери бункера полностью герметичны, но нам всем очень и очень страшно. Клайд жутко воет всё время. Эйлис зовёт меня. Сейчас приду, любимая.
На коротких частотах в первые сутки были какие-то разговоры вдалеке, которые тут же пропадали. А сейчас вообще ничего нет.
Понял, с чего я начну. С глубокой признательности тому человеку, благодаря которому мы, присутствующие в бункере, продолжаем жить. С благодарностью моего любимому отцу. Ведь это он настоял в своё время на строительстве бункера, отдав за него большую часть нашего состояния.
И это он меня зачал так, что я появился на свет именно 2 августа.
СПАСИБО ТЕБЕ, ОТЕЦ!
6 августа: – Смотря на этот ужас, решил, что буду писать краткую семейную хронику. Воспоминания, уверен, помогут моим мыслям войти в привычную рациональную колею. Надо держать себя в руках. НАДО БЫТЬ СИЛЬНЫМ! Дождь не прекращается. А главное, мы ничего не знаем про Фергуса… Спаси меня, дневник! Спаси меня, семья моя!
Спаси нас всех, Господи!
Мой клан увяз своими древними корнями где-то в Нормандии. Мой далёкий предок пришёл в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем, а уже из Англии в Шотландию в свите короля Давида Первого прибыл рыцарь Саймон де Рамсэй, самый первый Рамсэй, имя которого упоминает история. Давид Первый даровал своему рыцарю земли в Лотиане, где Саймон воздвиг замок Дальхьюзи, ставшего на многие года столицей нашего клана. Отец любил говорить, что Рамсэев в Лотиане как червей в навозной куче. Там, невдалеке от развалин замка, и наше имение с конюшнями.
Мне сложно писать. Я не знаю, что стало с нашим имением… я не знаю, существуют ли ещё Лотиан.
Или его затопило водой?!
Всё, на сегодня хватит.
7 августа: – Дождь всё не прекращается, и, кажется, льёт ещё сильнее. Воет Клайд. Истерика у Эйлис. Зовёт Фергуса, Сандру, а ещё чаще выкрикивает имена Роба, Джона и Инессы. Но самое невыносимое для меня, когда она несколько раз подряд прокричала-«Джеймс! Джеймс!». Судя по всему, истерика и у Абигейл. Она сидит у себя в комнате. Шеймас почти всё время рядом с ней. Мне это не нравится. Алекс и Мэри на удивление спокойны, не смотря на положение Мэри. Слуги готовят и подают еду точно к сроку. Настоящие британцы! Даже Акихиро!
До сих пор никакой связи.
Надо быть сильным!
НАДО БЫТЬ СИЛЬНЫМ!!!
НАДО БЫТЬ СИЛЬНЫМ, РАМСЭЙ!!!
Рамсэй… Как мне всегда нравилось одно это слово, Рамсэй! Какой-то полёт в нём, величественное парение и взгляд на всё сверху вниз. Нормандия дала название нашему клану, в оригинале звучащее Рамс-Эйя, в переводе означает Остров Воронов. Поэтому неизвестно, какая птица изображена на нашем гербе, орёл или ворона?
Но сейчас я, Рамсэй, с частью моей семьи и слугами на острове, и какая разница, кто уже изображён на нашем гербе? А вода всё пребывает…
Опять меня Эйлис зовёт.
9 августа: – Слава тебе, Господи! Сегодня Эван поймал сигнал SOS, и мы все радовались, как дети. Но вскоре сигнал пропал…
11 августа: – Сегодня утром плакал… Впервые во взрослой жизни.
НАДО БЫТЬ СИЛЬНЫМ!!!
НАДО БЫТЬ СИЛЬНЫМ!!!
НАДО БЫТЬ СИЛЬНЫМ!!!
Надо сконцентрироваться.
Главной артерией нашего клана были Рамсэи оф Дальхьюзи, принимавшие в 14—15 веках весьма активное участие в Бордерских войнах и регулярных набегах на Англию. Позже многие из них стали сторонниками Роберта Брюса, а один даже подписывал среди прочих Арбротскую Декларацию Шотландской независимости. В 15 веке Александр Рамсэй оф Дальхьюзи победил английскую армию при Пипердене. Один из Дальхьюзи участвовал в звании генерал-майора в сражении при Ватерлоо и позже был главнокомандующим в Индии. Внучка королевы Виктории, принцесса Патрисия Коннахтская была женой одного из Рамсэев. Еще есть линия Рамсэев оф Банфф, линия Рамсэев в Файфе, диаспоры Рамсэев в Швеции, Финляндии, и России. Один из Рамсэев был основателем города Александрия в Вирджинии, а другого французский король произвел в рыцари. Вилья Рамсэй изобрёл инертные газы, и получил за это премию Нобеля. Один из Рамсэев был соавтором глобального научного труда «Воспоминание о шотландском характере и образе жизни». Стыдно, что я так и не прочёл его. Другой Рамсэй писал что-то про Эрика Рыжего. Ещё один был сотым архиепископом Кентерберийским. В моём кабинете главного офиса на Кинг-Кроссе висит копия прекрасного автопортрета Аллана Рамсэя-младшего, сына поэта Аллана Рамсэя-старшего, из Национальной Портретной Галереи Лондона.
Замечательный у меня клан. Только что заметил, что стал переходить на гэльский время от времени. Я и не помню, когда писал на нём. До чего же прекрасный язык!
Успокоился.
Дождь не прекращается, и вода всё подступает.
Помилуй нас, Господи! Помилуй и спаси!
12 августа: – Чуть больше полночи. Дождь всё идёт. Сегодня молился с Эйлис после того, как ей сделали укол успокоительного. Стало удивительно хорошо. Решили, что помолимся завтра все вместе.
Но всё по порядку. По большому счёту, наша ветвь началась с моего прадеда. Точнее, она началась значительно раньше, но кто был, допустим, отец моего прадеда, неизвестно. Дед говорил моему отцу, что прадед мало говорил о них, а если и говорил, то общими словами типа «очень бедные, но очень достойные люди», или «я уверен, им на небесах сейчас очень хорошо». Отец даже в своё время пытался найти наши корни, но всё тщетно. Довольно распространённая фамилия. Еще бы, фамилия целого клана. Это как будто выпустили в поле пару тысяч одинаковых кошек, которые тут же разбежались в разные стороны, и сказали тебе: «Среди них одна твоя-пойми, какая, и догоняй!».
Итак, мой прадед Вальтер Рамсэй. У нас в гостиной в Лотиане висит увеличенная старая фотография. Полненький улыбающийся человек в национальном костюме, этакий диккенсовский Пиквик. Такая же круглая голова, как и помпончик на берете. Такие в фильмах играют в основном комичных, слегка мягкотелых простаков с добрым сердцем. Но это был жесточайший, даже местами жестокий человек со взрывным, страстным темпераментом. Аскет и убеждённый пресвитерианец-кальвинист, за любую маленькую шалость готовый выпороть ремнём или розгами, которые у него всегда были под рукой. Возле него на фотографии сидит на стуле худенькая миниатюрная женщина в наглухо застёгнутом платье. Это моя прабабушка. Ей во время фотосъёмки было около сорока лет, но по фотографии меньше шестидесяти не дашь. Вокруг них стоят семь детей. Пять мальчиков и две девочки. Мальчики, так-же как и отец, в национальных костюмах, девочки, как и мать, в наглухо застегнутых платьях. Семь детишек разных лет. Некоторые уже подростки. Это те семь, кто выжил из тринадцати. Под фотографией надпись с кудрявыми завитушками: «Haddington/ Baile Adain/ Haidintoun 1934 год». Хаддингтон по-английски, по-гэльски, и по-шотландски. На окраине этого города прадед открыл маленькую гостиницу «Дальхьюзи», понятно дело, в честь клана Рамсэй. Это было полностью семейное мероприятие. Над входом в гостиницу висела эмблема Рамсэев-голова единорога в круге из ремня и надписью на латыни «Ora et labora». «Трудом и молитвой». Жизнь хозяев и их детей полностью соответствовала надписи. Все трудились с раннего утра до позднего вечера, и обязательно молились в строго определённое время. Обслуживали постояльцев в национальной одежде с клановым черно-красным тартаном с тонкими белыми линиями. Если в гостинице останавливался англичане, и когда гости готовились съехать, то входная дверь открывалась, и перед удивлёнными англичанами стояло пятеро мальчиков-братьев, размалёванных в сине-белые национальные цвета, с палками в руках. Самый старший из них, (не дед), выходил вперёд, поднимал руку кверху, и говорил: «Я Уильям Уоллос! Вы мои узники, англичане! Но за пол-пенса я готов предоставить вам свободу! Всего за пол-пенса, и только для вас, обычно никто, меньше чем за гинею, не выходил из этих стен!». Гости смеялись шутке, и отсыпали если не пол-пенса, то какую-то мелочь. Если же на постояльцев находило возмущение, что бывало нередко, то появлялся прадед, делал вид, что это в первый раз, начинал ругать сыновей, и извиняться перед гостями: «А ну, проклятые, что вы придумали! Сейчас я вам взбучку устрою! Ах, извините, сэр, эти мальчишки, знаете, такие хулиганистые, ничего не могу с ними поделать!». Как только дверь за недовольными гостями закрывалась, прадед начинал ворчать, что нет во вселенной народа более скупого и жадного, чем англосаксы. А этот скупой и жадный народ, тем не менее, приносил какие-то дополнительные деньги в семью. Идея с Уильямом Уоллосом, конечно же, была идея прадеда. Эти рассказы пришли ко мне от отца, а к нему, соответственно, от его отца, моего деда Джона, которого прадед считал строптивым, бестолковым и никуда не годным. Даже на футбол он его долго не хотел брать.
Раз в неделю, по воскресеньям, после обязательной церкви, прадед неизменно посещал матчи своего любимого «Хартса». Разумеется, если игра была домашняя и проводилась в Эдинбурге. Со временем он стал брать на неё по одному из братьев. И не по очереди, а кто больше работал за неделю, чем-то отличился, или просто вёл себя прилежно и исполнительно. Проходили месяцы. Кто-то из братьев посещал стадион уже три-четыре раза, в то время как дед так и не познал радости быть болельщиком. Наконец прадед плюнул, сказал, что берёт его на футбол исключительно из жалости к его никчёмности, и они поехали в Эдинбург. Это был первый матч в жизни деда, и что это был за матч! Это было принципиальное дерби с «Хайбернианом», проигранное «Хартсом» 1:3 и произведшее сильное впечатление на деда. Такое сильное, что по приезду домой он заявил, что «Хайберниан» ему понравился значительно больше, и теперь он впредь будет болеть только за них. Прадед схватился за сердце, стал кричать, что не потерпит «хибс», (так называются болельщики «Хайберниана»), в своём доме, и выставил деда за дверь, сказав, что теперь он зайдет в неё только тогда, когда изменит своё мнение. Когда через час прабабушка тайком пошла проведать деда, за дверью никого не оказалось.
Спустя несколько дней пришла телеграмма от деда, где он говорил, чтоб о нём не беспокоились, и что он в Глазго устроился на работу на завод. Через некоторое время дед стал присылать деньги, и беспокоиться о нём перестали. Единственное, о чём просил прадед, чтобы дед не забывал вовремя молиться, посещать по воскресеньям церковь, и оставаться добрым пресвитерианцем.
Как это часто бывает, молодые люди, в семье считавшееся, и по делу, бестолковыми и не работоспособными, в иных обстоятельствах, выйдя за приделы семьи, менялись совершенно в противоположную сторону. У деда оказалась исключительная работоспособность, спящая на гостиничном поприще. И светлая голова. Он спросил у старшего по цеху, почему завод простаивает во время обеденного перерыва? Не лучше ли, чтобы в этот час безработные могли бы заработать себе хоть и мизерные, но деньги? Об этом доложили директору завода. Директор удивился, и решил попробовать дедушкину идею. И завод увеличил производство почти на одну восьмую. Безработные вкладывались в этот час как в три часа. Директор захотел познакомиться с человеком, идея которого сильно увеличила выработку и мощь его предприятия, и очень удивился, увидев перед собой юнца.
– Как тебя зовут, сынок? – спросил директор деда.
– Моё имя Джон Рамсэй, сэр! – сказал дед.
Директор удивлённо улыбнулся, и крепко пожал ему руку.
– Моё тоже! – сказал директор.
Он оказался полным тёзкой деда.
Через какое-то время с дедом случилась профессиональная травма. Ему оторвало на станке два пальца. Узнав об этом, директор полностью оплатил ему лечение. И сделал его одним из своих секретарей.
– Разве я могу выбросить тебя на улицу, сынок, после всего, что ты для нас сделал? – сказал директор деду. – Тем более Джон Рамсэй никогда не бросит Джона Рамсэя!
А затем… А затем началась Вторая Мировая война.
Как мне нравится писать эти воспоминания о нашей семье, рассказы, услышанные от отца! Будто ничего и не было. А дождь тем временем всё не прекращается. Но Клайд уже несколько дней как не воет. Полностью охрип. Акихиро делал ему сегодня мясной бульон. Всё, пошёл спать.
Господи, спаси и сохрани нас грешных!
13 августа: – Какой-то замечательный день! Сегодня я чувствовал Бога!
Месса была в зале на одном из нижних уровней, большой комнате где-то в пятьдесят-шестьдесят квадратных метров, с крестом на дальней стене и низким помостом под ним, будто и предполагавшейся для богослужений.
Эван был в чёрном костюме, с Библией в руке, прям как самый настоящий священник. На службе, (пишу без кавычек, ибо в данном положении это была самая настоящая служба), присутствовали все. Можно сказать, что это была символическая церковь Великобритании. Я, Эйлис, Шеймас и Абигейл католики. Алекса и Кеннета крестили и в католическом, и в пресвитерианском храме, (на последнем настоял отец). Кеннет считает себя «неверующим, но лояльным». Эван и Гризель пресвитериане. Бабушка Гленна, Мэри и Томас англикане. Акихиро непонятной нам веры, но он тоже был на богослужении. На богослужение присутствовал даже Клайд. Мы долго спорили, пускать его или нет на нашу своеобразную службу, и в итоге пришли к компромиссу. Оставили дверь открытой, но запретили ему входить. Клайд лежал за дверью и наблюдал за нами, высунув язык. Казалось, что этим подергивающемся языком он приветственно машет нам. Хрипота не прошло, но он больше не пытается выть. Ты какой конфессии, старина Клайд?!
Томас торжественно стоит за коляской бабушки высокой сосной. Он всю жизнь в нашей семье. Меня на руках качал! Рядом с бабушкой Гленной сидит Мэри, и держит бабушку за руку. Бабушка смотрит на Мэри и нежно говорит: «Мэри!». У Мэри большой животик. Рядом с Мэри Алекс, в свою очередь держащий за руку мать, мою Эйлис. Нашу Эйлис, которая настояла на богослужении, вспомнив, что Эван сын священника, прекрасно знает службу, и в нашем экстремальном положение просто обязан провести её. С другой стороны Эйлис-я. Эйлис время от время выходит из какого-то забытья и снова произносит дорогие ей имена. В том числе имя Джеймс. Я молчу. Что мне говорить? Кеннет сидит рядом с Гризель, и, что-то улыбаясь, пытается говорить ей на ухо. Гризель отворачивается, и делает вид, что не слышит. Мне это не нравится. Но больше мне не нравится, что Шеймас с Абигейл сидят, взявшись за руки. У них ничего не может быть между собой! Ничего! Как ничего не может быть между братом и сестрой. А Шеймас мне как сын, а Абигейл как дочь. Всю жизнь я им это пытаюсь донести, а они не понимают. Акирихо одиноко стоит в углу. Он, наверное, первый раз на христианской службе. Да и некоторые из нас, христиан, что греха таить, годами не посещали мессу. Стоит стойкий запах перегара. Понятно дело, мы позволяем себе в такие дни лишнее. В тишине Эван запел пресвитетерианские духовные гимны. Гризель местами подхватывает, видно, что она тоже хорошо знает службу. Я даже и не знал, что у неё такой красивый голос. После гимнов Эван прочел полностью восьмую главу из «Бытия». «И вспомнил Бог о Ное, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились… И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышления сердца человеческого-зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал:
Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся»
Эйлис опустила голову мне на плечо и успокоилась. И я успокоился.
Затем Эван провёлся пальцами по кнопкам ноутбука, как по клавишам, и из двух больших колонок, поставленных специально по бокам, заиграл орган и запел хор. Отдельные моменты из «Страстей по Матфею» Баха, не самые страстные. И так хорошо мне стало. Я даже и не помню, когда мне было так хорошо, спокойно и одновременно свободно. Наверное, в детстве. В далёком детстве, когда гулял с бабушкой Гленной в Лотиане, и когда я тайком пробирался в конюшню к лошадкам. Я закрыл глаза и слушал, слушал, прекрасную музыку Баха, и казалось, что сердце Господа смилуется над нами, и дождь вот-вот прекратится. И плывёт наш бункер по штурмующим волнам, словно ковчег, и скоро, очень скоро мы причалим к тихому берегу. И вот голубка летит к нам со свежим масличным листиком в клюве…
После Баха было несколько фрагментов моцартовского «Реквиема». На «Dies Irae» Эйлис проснулась, и снова заплакала. Надо на будущее Эвану сказать, чтобы вся музыка была умиротворяющей. Потом мы встали, и Эван выдал каждому по листочку бумаги, на котором мелким шрифтом было напечатано несколько псалмов. Мы хором пропели их. Последний из псалмов, под номером пятьдесят, мы пропели несколько раз. Прости нас, Господи, прости нас! После музыки было то, что больше всего хотела Эйлис. Ради чего была наша служба. Эван причастил нас всех. Даже неверующий Кеннет причастился. И даже Акихиро, увидев, что все открывают рот для облатки, и запивают её вином, сделал тоже самое. Не причастили одного бедолагу Клайда, который, увидев, что все что-то едят без него, тихо и хрипло скульнул. Я ещё вдруг заметил про себя, что Эван и Гризель принимают символические тело и кровь Христовы, а я с Эйлис и детьми-настоящие плоть и кровь Христовы. А что принимают англикане? Мне стыдно, но я не помню отношения англикан к причастию. И ещё мне стыдно, что я так мало посещал церковь. Господи, если ты спасешь нас, обещаю, буду регулярно посещать храм твой святой, и молиться тебе регулярно обещаю.
После причастия ощущение, даже уверенность, что беды пройдут, дождь прекратится, и что всё будет хорошо.
Эван сделал Эйлис ещё один успокаивающий укол, после которого она погрузилась в сон. Я некоторое время сидел возле постели Эйлис, сжимая её кисть, и слушал её дыхание.
Вода пребывает. Дождь идёт. Связи нет. Пытались запустить маяк, но он, очевидно, сломан окончательно.
У меня приступы паники. Слава Богу, что алкоголя у нас более, чем достаточно. Буду продолжать писать о семье.
Началась Вторая Мировая война. Самая страшная война в истории человечества, уничтожавшая множество народа, оставившая огромное количество людей без крова, без средств к существованию, без родных и близких. Война, морально изуродовавшая целую нацию, поверившую неудачному художнику со смешными чаплинскими усиками под носом. Война, втоптавшая в грязь и изменившая весь мир, тем не менее, возвысила небольшую горстку людей. Среди этих последних был и мой дед. После того, как Германия объявила Британии войну, множество заводов были переведены на «военные рельсы», круглосуточно работавших на оборонную промышленность. Завод, на котором работал дед, и изготавливающий какие-то болванки, (не помню уже, какие и для чего), стал изготавливать снаряды. Все братья и сёстры дедушки отправились на фронт. Дед тоже рвался в окопы, но из-за травмы руки его не взяли. «Сынок, ты здесь нужнее!» – убедил его тёзка-директор. И он был прав. Очень скоро дедушка стал его правой рукой. («Правая рука» без пальцев – только сейчас об этом подумал))). Завод был одним из лидеров Глазго по производству снарядов. Кроме оригинальных идей, у деда было одно потрясающее качество. Он точно видел, на каком месте человек нужнее. Это был редкий талант. Талант видеть идеальное сочетание места и человека. Доходило часто до абсурда. Дед предлагал поменять, допустим, сотрудников местами. Ему возражали: как же так, этот сотрудник получал образование, долго учился, чтобы работать на ЭТОМ месте, а этот сотрудник, наоборот, получал образование, чтобы работать на ЭТОМ месте. Дело не в образование, спокойно отвечал дед, а в людях. Меняйте! Работников меняли местами, и удивительное дело, оказывалось, что они будто были рождены для работы на том месте, на которое указывал дед! Более того, работники получали удовольствие от этой работы намного большую, чем от предыдущей, чувствовали больший стимул и большие перспективы. На заводе деда искренне любили, и поэтому, когда после болезни умер директор, перед смертью просивший поставить на своё место деда, то никто не возражал. Не возражал и владелец завода, которой незадолго до этого познакомили с дедом. Джон Рамсэй сменил Джона Рамсэя. К концу войны у деда был уже небольшой капитал. Небольшой для небольшого буржуа, и огромный для человека из той среды, откуда дед вышел. Двое из его братьев погибли в Северной Африке, третий сложил голову под Шербуром, а четвёртый в Арденнах. Одна из сестёр погибла во время последних немецких военных успехов. В госпиталь под Дувром, где она была санитаркой, попала ракета Фау-2. Из всех шести детей на войне выжила только Норма Рамсэй, зенитчица из A.T.S., женского вспомогательного территориального корпуса, закончившая войну уже после капитуляции Германии в конце мая 1945 года. Присутствовала при аресте немецкого правительства во главе с гросс-адмиралом Карлом Дёницем. Сам Монтгомери вешал ей медаль на грудь, которой бабушка Норма гордилась всю жизнь. Мать деда, моя прабабушка, умерла во время войны после второй похоронки. Неизвестно, какова бы судьба деда, не оторвало бы ему два пальца и окажись он на фронте. У прадеда осталось только двое детей. Все обиды к деду были забыты. Вальтер Рамсэй не сдержал слёз, чего с ним не было раньше, когда блудный сын приехал к нему в «Дальхьюзи» на окраину Хаддингтона после войны. Бабушка Норма вернулась с войны с женихом из американской армии союзников. На последний день рождения прадеда дед сделал ему замечательный подарок. Поехал в Эдинбург на тренировочную базу «Хартса», поговорил, и заплатил хорошую сумму денег. И представляете, когда во время празднества открывается дверь, и входит основной состав «Хартса» с главным тренером, с тортом в виде футбольного поля с горящими свечами, и с мячом с автографами всей команды. Тут уж прадед рыдал, не стесняясь никого, а потом веселился, бегал с колпаком на голове, дудел в разворачивающуюся дуделку, обкидывал всех конфетти и хорошенько выпил вместе с футболистами и тренером. На следующий день сказал, что это был лучший день рождения в его жизни, и он может теперь спокойно умереть. Мужчина сказал-мужчина сделал. Через несколько месяцев прадед спокойно умер, завещав положить с собой в гроб мяч с автографами. Мяч не вмещался в гроб. Его просто невозможно было закрыть. Мяч был спущен, и уложен в ногах. Гроб с трудом, но закрыли. Просьба прадеда была удовлетворена.
После смерти отца бабушка Норма вышла замуж за американского жениха и переехала жить к нему в окрестности Бостона. А у деда тоже совершился неожиданный и удивительный скачок в личной жизни. Дед познакомился с молодой девушкой из клана Ротшильдов, и они влюбились друг в друга. Я до сих пор не понимаю, как, где, и при каких обстоятельствах мой дед, молодой директор шотландского завода из небогатой семьи, мог познакомится с девушкой из Ротшильдов. Но отец говорил, что дед был такой человек, что если надо бы в простой деревенской конюшне найти зебру, жирафа, и питона, то он обязательно бы обнаружил их. Причём не в единственном экземпляре.
В общем, мой дед и девушка из Ротшильдов решили пожениться. Дед поставил непременное условие невесте-перейти из иудаизма в христианство. В пресвитерианскую конфессию. Девушка вроде бы как согласилась. Через несколько дней Ротшильды назначили деду встречу в одном из лучших ресторанов Глазго. За шикарном столиком в дорогих костюмах сидело двое Ротшильдов. Папа невесты и его старший брат. Дед был в рабочем пиджаке. Приносили вкусные дорогие блюда, в фужеры наливалось вино из древних погребов, Ротшильды расспрашивали деда про жизнь, про семью, про завод, и потихоньку подошли к теме женитьбы, и дедушка промолвил, что, в общем, он, как добрый христианин, хочет, чтобы и его жена перешла в христианство, и чтоб непременно пресвитерианской конфессии.
– Вообще-то, молодой человек, – жестко сказал отец невесты, – это мы выбираем, куда переходить, и в какую конфессию!
– Ну, значит, разговор окончен! – дед встал, раскланялся и обвёл рукой шикарный стол. – Не беспокойтесь, я расплачусь.
Ротшильды переглянулись.
– Постойте, молодой человек, – мягко улыбнулся второй Ротшильд, который почти всё время молчал. – Мы не для того прилетели из Лондона, чтобы за нас оплачивали наши ужины.
В общем, что произошло, мы точно не знаем. Отец говорил, что дед, конечно же, что-то умалчивал, когда рассказывал ему эту историю. Но Ротшильды приблизили деда к себе. При этом помолвка с еврейской невестой расстроилась. То ли они действительно охладели друг к другу, но Ротшильдам понравился бескомпромиссный характер деда, толи всё-таки дед пошёл на компромисс, приблизившись к сильным мира сего ценой размолвки с любимым человеком. Тем не менее, дед и его бывшая возлюбленная сохранили тёплые отношения на всю жизнь, и дед обзавёлся семьёй уже после смерти бывшей любви, умершей на руках мужа и детей. Ему к тому времени было больше, чем мне сейчас. Пятьдесят с небольшим.
Деду всё время предлагали купить какое-нибудь звание. Графа, лорда, или сэра. Дед с презрением отвергал такие предложения. Родившийся в трудовой среде, он уютно себя чувствовал только с выходцами из простых сословий. Он испытывал к ним по-настоящему тёплые чувства. К крупным дельцам, банкирам, аристократам, то есть к людям, составлявшие его основной круг общения, он испытывал лишь два чувства. Или чувство уважения, или чувство отсутствия уважения. Ротшильдов он уважал. А одному бизнесмену, когда тот сокрушался при потере на акциях, сказал с брезгливостью: «С вашим состоянием так сокрушаться по поводу потери пару сотен тысяч фунтов можно только в том случае, что вы не смогли потратить их на благотворительность!». Сам дед занимался благотворительностью серьёзно и регулярно.
Когда дед уже ни о какой семье не помышлял, как-то, проезжая рядом с Сент-Панкрасом, он увидел на скамеечке плачущую девушку. Чуть отъехав, он попросил водителя поставить свой лимузин на стоянку, отпустил его, сказав, что доедет сам, и подошёл к девушке. Никаких личных чувств он не испытывал, тем более он и не успел толком её разглядеть. Дед часто помогал простым людям, не открывая своего социального статуса. Дед спросил девушку, что случилось, и не может он чем-нибудь помочь. Девушка сначала не хотела говорить с незнакомым человеком, кто знает, какие камни за пазухой у него могут быть, но доверительный тон деда успокоил её. Она рассказала, что из бедной семьи, отец давно ушёл от них, а мать тяжело больна. В Лондоне она присматривала за ребёнком из хорошей семьи, получала приличное жалованье. Взяла кредит на лечение мамы. Но хозяевам попросили устроить дальнюю бедную родственницу, и поэтому они извинились перед девушкой, сказали, что берут эту родственницу на её место, выплатили выходное пособие, еще раз извинились, дали рекомендацию, и, не смотря на плач ребёнка, который очень любил свою няню, попросили в течение суток собраться и уехать. Пусть даже и с рекомендацией, она оказалась никому не нужна. Сколько таких как она в Лондоне?! Сейчас успокоится, сядет на свой поезд до Лестера, и поедет домой. Может, в родных краях повезёт, кто знает. Может, действительно, где родился, там и пригодился? Конечно, в Лестере никто не будет платить таких денег, как в Лондоне, но зато к маме поближе. Вдвоём не так одиноко. Да и за кредит надо хоть как-то платить. Поэтому, спасибо, сэр, за вашу сердобольность, что выслушали меня. Мне это очень помогло. И простите, мне пора, скоро поезд, а мне ещё билет надо купить.
И тут, как говорил дед отцу, он «что-то такое почувствовал». Дед сказал девушке, что его очень тронул её рассказ, что он очень понимает её положение, и предложил поработать у него некоторое время, убирая квартиру, стирая бельё и с приготовлением пищи. Девушка сказала, что согласна с условием, что интимные услуги ни в коем случае не предлагать, иначе она тут-же без разговоров развернётся и уйдёт. Дед сказал, что она могла бы об этом не говорить, и что он себе никогда такого не позволит. Девушка извинилась, и сказала, что не сомневалась в благородстве деда, и сказала это так, на всякий случай. Они подошли к дедову лимузину, и дедушка открыл перед девушкой дверь, предлагая садится. – Это ваша машина? – удивлённо воскликнула девушка.
– Нет, что вы, – вырвалось у деда, – я работаю водителем у одного знатного джентльмена!
– Наверное, вы прекрасный водитель! – только в автомобиле девушка увидела, что у деда нет двух пальцев.
– Ещё никто не жаловался! – гордо и честно сказал дед.
У деда в Лондоне, кроме большого дома, была ещё квартира в Ислингтоне. Скромно обставленная, она специально предназначалась для любовных утех. Дед приводил сюда ночных бабочек. Разумеется, девушка об этом никогда не узнала.
– Грязновато, конечно, но зато район хороший! – сказала девушка, взглянув на квартиру.
– Зато есть, что убирать, – сказал дед, попросил хорошенько прибраться, и оставив денег, попросил приготовить еду.
Боже, уже утро, а я и не заметил. Всё вспоминал и писал, затем смаковал, затем снова вспоминал, писал, и перечитывал. Перехожу на гэльский всё чаще и чаще.
Дождь идёт.
14 августа: – Проспал до обеда, но оказывается, почти вся семья сегодня ещё более сони, чем я, и ещё спали. Вода пребывает, и на связь никто не выходит. Ко мне подошёл Акихиро, и сказал, что большие запасы еды, приготовленные на юбилей, через некоторое время кончатся, и попросил осмотреть получше пищевые кладовые. Алкогольные запасы хоть и не закончились, но мы уже осмотрели винные подвалы. Вина там, правда, немного, но приличное количество виски в больших канистрах и здоровые запасы этилового спирта в двадцатилитровых бидонах. Мы взяли Эвана и спускаемся в подвалы. Проходя вниз мимо медицинского отдела, снова поблагодарил отца. В том числе и за кресло для родов. Если у Мэри будут схватки раньше времени, Эван сказал, что поможет. Этот спецназовец всё умеет. Вот и спустились. Налево-алкоголь и вода, направо-пища. Заходим в пищевой. То, что раньше осмотрели бегло, рассматриваем основательно. И конечно меня вновь и вновь потрясает творение отца, этот бункер. Эти широкие сухие коридоры, вырубленные в горе. Я провёл рукой по стене. Сухо-сухо. Гладко-гладко. Сколько же их рубили? Как? Вдоль коридоров стояли высокие стеллажи с лестницами. На стеллажах-мешки, мешки, мешки. Двухпудовые мешки из прочнейшего прозрачного пластика, недоступного для зубов крыс. Да и нет тут никаких крыс. Но отец всегда страховался на всякий случай. На мешках этикетки-мука пшеничная, мука рисовая, мука гречишная, мука ещё так какая-то, и отдельно пшено, рис, греча, ещё там что-то. Сухой картофель. Сухие баклажаны. Сухие разные другие овощи. Сухие яйца. Сухое молоко. Ещё там что-то сухое. Потом помещение с ящиками, полные вакуумных пачек с галетами. Потом помещение с консервируемыми и сухими супами. Следующее помещение с большими кирпичами в обёртках, судя по всему, оставшиеся после стройки бункера. И только приглядевшись, мы обнаружили маленькие этикетки на каждом кирпиче, что это шоколад. Швейцарский шоколад. Причём разный. Белый, чёрный, коричневый. Помещение с невероятным количеством разных макарон, также запаянных в пластиковые мешки. Помещение с мешками соли, сахара, перца, специй, чая, кофе, каких-то «витаминных сухих напитков» и травяных сборов. Помещение с мешками сухой сои. И потом очень широкий ангар с мясными консервами. Отец узнал, что в своё время Наполеон консервировал мясо во время похода в Россию по особому рецепту, после которого консервы можно было есть спустя полтора столетия. Он нашёл этот рецепт. Ничего там особенного не было, за исключением некоторых тонкостей. И законсервировал мясо именно по этому рецепту. Мы долго осматривали консервы. Они были как в больших десятилитровых стеклянных баках, так и в обычной жести. Кроме мясных, всевозможное количество всяческих рыбных консервов. Сардины, сайра, лосось, шпроты, анчоусы, мидии в масле, мидии в рассоле, акульи плавники и прочие морские гады. Долго обходили коридоры со стеллажами, и за всё время нам удалось обнаружить только две чуть вздутые банки. Мы их не стали, конечно, трогать, а взяли наугад первую, что под руку попалось. А под руку попалась обычная говяжья тушенка. Пошли обратно, зашли в галетную, и взяли упаковку галет. Затем взяли наугад банку консервированного супа. Переглянувшись, открыли её. Это был красный борщ. Пахнет, вроде, приятно. Открыли галету, разломали её на три части. Акихиро достал три ложки, которые предусмотрительно взял с собой. И первый попробовал борщ. Чмокнул, закрыв свои узкие глаза, затем открыл их и улыбнулся. «Вкусно!» – со смаком произнёс он. Мы с Эваном последовали его примеру. В общем, борщ мы съели моментально. Это было действительно вкусно. А если подогреть, то думаю, что было бы ещё вкуснее. Затем открыли и съели тушенку. Прекрасная, высокого качества тушеная говядина. Почти лет сорок лежала тут, в подвале, а такое чувство, будто вчера закрыли. Спасибо тебе, Бонапарт, за прекрасный рецепт! И галеты вполне даже ничего. «Да тут нам на несколько лет пищи хватит!» – сказал Акихиро. «На несколько десятков лет!» – уточнил Эван.
Сели обедать мы только около четырёх. Кеннет, не стесняясь, плещет себе в стакан коньяк. Мы молчим. Он хоть не лицемерит, и не пьёт втихую, как я. Пытается усадить Гризель себе на колени. Я сделал сыну замечание. «Извини, отец, против природы не попрёшь!» – ухмыльнулся Кеннет, но Гризель всё-таки отпустил. Меня передёрнуло. При всех сказать такое за столом. Как мерзко. Все сделали вид, будто не услышали, и дальше обедали в тишине. Когда подали чай, бабушка Гленна, впервые за всё время, обнаружив отсутствие старшего правнука, вышла из своего внутреннего мирка, и, как всегда, улыбаясь, спросила: «А где-же Фергус со своими? Всё спит? Томас, сходи, разбуди Фергуса, скажи, что обедать пора. И поставь ему прибор». Эйлис, в это время размешивающая ложечкой чай, остановилась, некоторое время смотрела в пустоту перед собой, затем тихо застонала, опустила голову в ладони и зарыдала.
Мы отвели её в спальню, Эван сделал Эйлис укол, и моя любимая вновь провалилась в сон. В её состоянии лучше спать.
Встретил в коридоре Гризель. Она, как всегда, опустив глаза, пыталась незаметно проскользнуть мимо. Я остановил её, и сказал, если Кеннет ещё что-нибудь будет позволять себе того, что ей не понравится, она может в любой момент обращаться за заступничеством ко мне. Ох, как жарко она поблагодарила меня, и как мило улыбнулась. Её аристократическую кровь видно невооружённым глазом. И как она мила с этим подносом! Прям «Шоколадница» Лиотара!
Выходил сегодня с Эваном и Акихиро наружу под дождь. Маяк, представляющий собой высокий полый четырёхсторонний треугольник с зеркальным вертящимся фонарём сверху, был сломан. Толи от землетрясения, но скорее от сильнейших порывов ветра фонарь был сброшен вниз, на вертолётную площадку, и разбит вдребезги. Вместе с фонарём упал и разбился и передатчик сотовой связи. Мы из верхнего дома протянули провод, и Эван лазил на вершину конуса, чтобы укрепить новый передатчик, который он паял сегодня всю ночь. Интересно, есть ли область, в которой Эван ничего не понимает? Наверное, нет. Я крепко держусь за металл пирамиды. Несколько раз резкие порывы ветра едва не сбили меня с ног. Если бы конус не был полым, точнее даже, треугольным скелетом, а был чем-то обтянут, наверное, его снесло бы уже давно. А дождь… Я помню, был в специальной душевой кабине, где вода с разных сторон била по телу и делала тем самым массаж. Но в кабине было приятно. И ты знал, что в любой момент можешь выйти из неё. А тут чувствуешь страшную, беспощадную, и при этом равнодушную к тебе стихию. Эван уже намертво прикрутил передатчик, и спускался вниз. Мы зашли в дом, и заглянули в смартфоны
Связи как не было, так и нет.
Вечер. Пили виски небольшой мужской компанией. Вода поднимается. Кеннета пришлось нести в комнату. Очень пьян. Долго сидел у Алекса и Мэри. Как они любят друг друга! Удивительно, со средним сыном у меня никогда не было никогда глубоких чувств, а сейчас будто заново знакомлюсь с ним и заново открываю его для себя. Он не выпускает руку жены, и всё время занимает её какими-то рассказами и смешными историями. Я даже не думал, что Алекс способен рассказывать смешные истории. Но совершенно не нравится те же самые чувства между Шеймасом и Абигейл. Я хотел поговорить с ними, но я выпил, а выпивши серьёзные разговоры вести не буду. Тем более с меня слово отец взял, что выпивши-никаких серьёзных разговоров. Поэтому снова окунусь в воспоминания. На чём мы там остановились?
Вспомнил. Точнее, подсмотрел. Дед оставил девушке деньги, попросил убраться, приготовить пищу, а сам поехал к себе в Челси, оставив девушку одну в Ислингтоне, отдав ей ключи от квартиры. Ночью деду сообщили, что ему надо срочно вылетать в Америку на деловую встречу. Из аэропорта он много раз звонил в Ислингтон, но трубку никто не брал. Дед вспомнил, что это он сам попросил девушку не отвечать на звонки. Через три дня дед вернулся и открыл квартиру, которую было не узнать. Всё было чисто, мебель была переставлена так, что было ощущение уюта, а не бесформенной анархичной холостяцкой норы.
– Я подумала, что так лучше, – сказала девушка, – но, если не нравится, я могу переставить обратно. А главное скажите, Бога ради, где вы были? Я вся изволновалась!
Дедушка наврал, что хозяину приспичило на рыбалку, а рыбачить хозяин привык исключительно с дедом, и дед звонил, чтобы сказать об этом, и только потом вспомнил, что сам попросил не брать трубку. Раньше телефоны были другие. Непереносные. Такие неуклюжие аппараты, где трубка связана с основной базой проводом, изогнутым в колечки. Я их в интернете видел. Сотовая связь появилась позже, при отце. Дедушка с девушкой договорились, что он будет звонить, через два гудка бросит трубку, а затем позвонит снова. Это будет знак, что звонит именно он, и девушка ответит. А затем девушка сказала, что давно приготовила пищу, и она испортится, если дед не поест. Дед потом говорил отцу, что решил всё для себя точно во время второго блюда. Но никак не мог решиться. Он просил приготовить ещё еды, давал денег, уезжал, приезжал на следующий день с твёрдым решением, но в последний момент не решался, и уезжал снова. Они много разговаривали. Дед честно рассказал ей всю свою жизнь до того момента, как ему оторвало пальцы. Потом он говорил, что пошёл водителем, и, не смотря на отсутствие пальцев, дослужился до одного важного человека, имя которого он не может сейчас вслух произнести. Девушка понимающе кивала головой. Дед платил ей жалованье, больше, чем было договорено, девушка не хотела брать, но дед говорил, что он стал получать больше, и, как порядочный человек, хочет, чтобы девушка оплатила лечение своей матери, и что он сам заинтересован в том, чтобы у девушки, которая прислуживает у него, всё было хорошо в семье. Несколько раз он отпускал девушку в Лестер к матери. А потом, увы, отпустил и на её похороны… За несколько месяцев их знакомства он ни разу не ночевал в Ислингтоне, хотя и проводил там много времени. Говорил, что обязан ночевать у хозяина, так он может в любое время сорваться по делам. И срывался на деловые встречи как в сам Лондон, так и в Америку, Испанию, Австралию, Чили и другие страны, откуда он неизменно привозил девушке сувениры.
И всё не мог решиться.
Однажды он, как всегда, ехал от девушки к себе в особняк, и на светофоре, когда ждал зелёного света, увидел молодую пару, целующуюся под дождём. И тут дедушка представил, что и девушка, такая молодая и приятная, рано или поздно влюбится, и будет также целоваться под дождем. А он, старый хрыч, будет также стоять на светофоре, смотреть на возлюбленных, и проклинать себя, что так никогда не смог сказать девушке то, что он хотел ей сказать. Он развернул свой роллс-ройс и поехал обратно в Ислингтон.
– Ой, вы вернулись! – искренне обрадовалась девушка.
То, что девушка обрадовалась его возвращению, придало деду сил.
– Да вот, решил побыть с вами ещё чуть-чуть, – сказал дед, и попытался пошутить. – А то вот найдёте себе жениха, выйдите замуж, уедите, и уже не посидишь с вами!
– Ой, да вы что! – зарделась девушка. – Мне пока и здесь хорошо! Да и мама недавно умерла, какая женитьба?
– Ну, как влюбитесь, – продолжал дед, – иначе будете думать.
– Ну, как влюблюсь, там и посмотрим.
Некоторое время они сидели в тишине.
– А вообще, мне кажется, я вообще никогда не выйду замуж, – сказала девушка. – Я старомодна.
– В каком смысле?
– Читать люблю. Дома сидеть люблю. Готовить люблю. А слово «эмансипация» терпеть не могу. Как, впрочем, и изнеженных мужчин. Женщина должна быть женщиной. А мужчина – мужчиной.
– О, сейчас такие слова не часто услышишь!
– Я же говорю вам, я старомодна! Кому я такая нужна? Я и не понимаю, как можно всё бросить, и карьерой только заниматься? Я и няней стала, потому что детей люблю. Сидеть с малышом, это такое счастье, даже деньги неудобно как-то за это получать.
– Ну вы даёте! Молодёжь сейчас так совершенно не думает!
– Ну сколько же можно повторять – я старомодна!
– Ну и где-же вы мужа молодого найдёте с такой старомодностью?
– Муж не баранина для жаркого – молодость тут не главное.
– Ну, так думать, вы так и женихов всех молодых пропустите, останутся только какие-то потрёпанные типы. Типа меня. Старого барана.
Дед очень волновался, но перевёл всё в шутку и рассмеялся.
– А кто вам сказал, что вы потрёпанный тип? – тоже рассмеялась девушка. – Старый коньяк стоит больше, чем молодое божоле.
– Ну, получается, если вам человек, ну вот, примерно моих лет, – деда внутри трясло, но внешне он был спокоен, – и примерно моего социального статуса, предложит вам руку и сердце – вы что, не откажитесь?
– Ну вы и скажите! Ну и это смотря что за человек. Главное ведь, это человек, а не его возраст и социальный статус.
– Ну, допустим, такой вот, как я.
– Ну… – девушка долго смотрела на деда, а затем тихо сказала. – За вас бы я пошла.
– А если я сейчас, прямо вот сейчас сделаю вам предложение руки и сердца, – деду было тяжело дышать. – Пойдёте?
– Пойду, – через какое-то время сказала девушка, глядя деду в глаза.
– И что, вас не пугает моё положение простого водителя? Не пугает, что у меня только и есть, что эта несчастная квартира?
– Несчастная квартира?! Да вы жизни не видели! У нас в Лестере иной раз живут в таких берлогах, будто медведя позавчера оттуда выгнали. И хорошо живут, с любовью. А это замечательная квартира. И я работать пойду, не на шее мужа ведь сидеть. Да и большего мне не надо. Я и не понимаю роскошь эту. Я привыкла довольствоваться малым, даже и не думаю о большем. И вообще, мне кажется очень странным, что у такого добрейшего и благородного человека как вы, до сих пор не было жены.
И девушка взяла дедушкину кисть, ту, на которой не хватало двух пальцев, и поцеловала её с благодарностью.
Дедушка отвернулся, скрывая слёзы, и сказал, что сейчас они должны поехать в одно место, посадил удивлённую девушку в лимузин, и поехал в Челси.
– Вы хотите познакомить меня со своими хозяевами? – испугалась девушка, когда дед въехал в ворота своего шикарного особняка.
– В некотором роде да! – сказал дед.
Он ввёл девушку в свой дворец, и громко попросил всем слугам собраться.
– Встречайте вашу хозяйку, будущую миссис Рамсэй!
Девушка недоумённо посмотрела на деда.
– Я думаю, что тот, кто искренне довольствуется малым, достоин немного большего. – скромно ответил на её взгляд дед. – Ещё у меня несть недвижимость за океаном, в Новой Англии, несколько квартир и большое поместье под Эдинбургом с прекрасной конюшней. Я приглашаю вас поехать туда завтра, и покататься на лошадках.
Бабушка Гленна, а это была она, упала в обморок.
Отец говорил, что отец рассказал ему эту историю один раз, и, когда рассказывал, то отворачивался, краснел, очень волновался, и проживал всё по-настоящему заново. Бабушка Гленна, наоборот, очень любила эту историю и раньше часто рассказывала её в семейном кругу.
Когда я учился в Оксфорде, увлекался литературой, посещал лекции на филологическом факультете, я помню, как в воспоминаниях жены Достоевского описано признание великого писателя ей в любви. Очень похоже. Когда я читал потом бабушке эти куски, её глаза были на мокром месте, и она шептала: «Всё так! Всё так!».
Сижу, перечитываю написанное и сам плачу!
Только что ко мне постучалась Гризель, и сказала, что «Кеннет позволяет себе лишнее». Я сказал, что обязательно серьёзно поговорю с ним. Затем я взял Гризель за руку, и сказал, что её никто не унизит в моём доме, и я дам отпор любому, будь он хоть мой сын. Гризель поблагодарила, и улыбнулась мне. Я не люблю сравнений, но она чем-то напоминает бабушку Гленну. Из простой семьи, но с внутренним природным стержнем. Совсем не похожа на отца, хотя тот и говорил, что он, Макгрегор, королевского рода, а настоящие короли бастардов не бросают. Потом бабушка, когда ещё окончательно не поселилась на перламутровых берегах, просила Гризель в дом взять. Говорила, что чувствует родственную душу. И она была права. Я тоже что-то чувствую, когда Гризель просто кладёт приборы за обедом или наливает суп из супницы. Гризель аристократка больше, чем сводные брат и сестра, рождённые в официальном браке, пусть и носит фамилию матери.
Я много выпил. Надо спать.
3.
Я долетел до Ньюфаундленда, и некоторое время смотрел на рощу из окна геликоптера. Потом вышел, и направился к дому. Две панели мягко расступились в разные стороны. Робот-слуга включился, и спросил, что я желаю. Я сказал, что желаю, чтобы он продолжил свой отдых. Робот мне ответил, что я отлично пошутил.
Я поднялся на мансарду, открыл шкаф, и спрятал дневник за оставшимися книгами. Была когда-то богатая библиотека. Но год назад значительно поредела. Прилетевшие люди долго отбирали книги, спорили между собой, затем забрали три четверти томов, предварительно всадив в них чипы, и улетели. Книги вернуться только через девяносто девять лет. Я их уже не увижу. Скоро окончание учёбы, которой нет, факультет закрыт, диплома специалиста я не получу, в связи с упразднением специалистов в этой области, следовательно, пропуск в закрытую библиотеку мне будет заказан, и что дальше? Послушаться отца, и отправиться в первую марсианскую колонию преподавать детям послепотопную историю с литературой? И прожить, возможно, всю жизнь под колпаком в искусственной атмосфере?
Я беру с нижней полки книгу в цветастой обложке, на которой нарисован смеющийся мальчик в условной ракете, летящий на фоне звёзд, над которыми сверху стоит размашистая надпись: «Антология послепотопной детской поэзии». Открываю книгу. Никакой послепотопной детской поэзии там нет. Давно вырвано и выброшено. Но есть описание от руки шотландских кланов и расцветки тартанов. В детстве, когда дедушка был ещё жив, под его присмотром рисовал и записывал. Дедушка их туда засунул. В твёрдой обложке листы было удобнее хранить. И поэтому они сохранились. Посмотрели на корешок, и отодвинули в сторону, даже не раскрыв. Отец про эти листы не знал, в отличии от тех книг и дневников бабушки Бренды, которые забрали. Открываю страницу, на которой изображён лев в короне с открытой пастью в круге из ремня, с выведенной на ремне надписью ««S RIOGNAL MO DHREAM». «Мы королевского рода». Расцветка тартана похожа на рамсэевскую, с преобладанием черно-красного, но на пересечении этих цветов квадраты тёмно-зеленого цвета, и белые линии чуть потолще. Герб и цвета клана Макгрегор. Отцом Гризель был Макгрегор. Кто знает, может, моя дальняя родственница.
Я ведь тоже из Макгрегоров.
Мой дальний предок, первый Макгрегор в моём послепотопном роду, служил на копии английского морского корабля-фрегата «Виктория», принимавшего участии в Трафальгарской битве за несколько веков до Потопа, где допотопные люди в допотопном мире убивали друг друга. Но мой предок никого не убивал. И каюты корабля были заполнены не воинствующими матросами, а туристами, отдыхающими и курсирующими по маршруту Ливерпуль-Монреаль, и отдавшие очень большие допотопные «деньги», чтобы сделать этот маршрут именно на этой копии старинного фрегата.
Мой предок не был в техническом персонале корабля, а состоял в команде развлекательного обслуживания. Его отобрали из нескольких сотен претендентов на это место. Он умел поиграть с отдыхающими на палубе в волейбол, наверное, слышали про эту древнюю игру, увлечь разговором и рассказать хорошую историю, или, как раньше это называли, анекдот, а также выйти в группе музыкантов в национальной одежде и сыграть на волынке. В тот роковой вечер он как раз и играл на волынке. В воспоминаниях говорилось, что внезапно корабль дёрнуло из стороны в сторону, горизонт перекосило, но никто ничего не понял. Затем буквально через несколько минут раздался сигнал тревоги, и голос капитана из колонок, в которых он просил всем покинуть палубу, что все и сделали, кроме одной подвыпившей девицы с бокалом в руках, которая не желала спускаться в трюм, и говорила, что они с родителями заплатили большие деньги за путешествие, и за эти деньги капитан обязан слушаться её приказов, а не она его. Моему предку, как человеку, умеющему найти язык и подход почти к любой женщине, попросили нежно и без грубости уговорить девушку покинуть палубу. Если бы это доверили не такому обаятельному человеку, как мой предок, может быть, девушка и спустилась бы к родителям. Но, увидев моего предка, она стала отчаянно с ним заигрывать. Первым делом она задрала ему юбку, и обнаружив на Макгрегоре трусы, сказала, что он никакой не шотландец, так как настоящий шотландец трусов под юбкой не носит. Затем она стала требовать, чтобы Макгрегор дал ей поиграть на волынке. Предок сказал, что даст, но только в том случае, если после этого девушка спуститься в каюту. Девушка согласилась, затем пару раз неудачно дунула, отдала обратно волынку, но в трюм спускаться и не думала, побежала к лодкам, откинула полог, схватила спасательный жилет, и принялась его одевать на себя. Подбежавший предок сказал, что этого делать нельзя, и из-за этого могут быть проблемы. Девушка снова сказала, что за те деньги, которые они с родителями потратили на эту поездку, проблем из-за какого-то спасательного жилета быть просто не может. А вот если предок не поможет ей одеть жилет, проблемы будут у него. А ей одеть сейчас жилет просто необходимо, ибо ей не терпится узнать, какого-го это, быть одетым в спасательный жилет. Предку ничего не оставалось, как помочь девушке одеть спасательный жилет. Затем девушка снова стала бегать по пустой палубе, где кроме них никого не было, и кричать: «Догоняй, шотландец, догоняй!». Мой предок, вышедший из себя, решил всё-таки прийти к радикальным мерам. Он догнал девушку, схватил её за руку, и сказал, чтобы она сейчас же снимала жилет, и спускалась в трюм.
– А иначе что? – рассмеялась девушка.
– А иначе я выброшу вас за борт! – сказал рассвирепевший Макгрегор.
Вдруг девушка что-то увидела за спиной предка. Что-то такое, от чего широко раскрыла от ужаса глаза.
Мой прапрапрадед обернулся. На них надвигалась огромная стена, которая, казалось, достигала неба. Это была огромная, просто громадная волна. Он завороженно смотрел на неё, и вдруг оказался высоко-высоко в небе. После этого Макгрегор полетел вниз, и потерял сознание.
Пришёл он в себя уже в воде. Девушка с спасательном жилете завязывала кусками материи, оторванной от своего платья, у волынки под мундштуками, чтобы не вышел воздух. «Что смотришь, давай помогай!» – жёстко сказала отрезвевшая девушка, увидев, что мой предок открыл глаза. Вдалеке, в паре километрах виднелась «Виктория», заваленная набок. Они завязали под мундштуками, и застегнули ремни волынки на последние дырки, чтобы крепче сидела и не сползла. И тут что-то бабахнуло вдалеке. «Викторию» не было видно в клубах дыма. Затем сквозь дым стали показываться языки пламени. Корабль не перевозил никакого горючего, а был туристическим удовольствием. Допотопной штучкой, которую могли себе позволить за допотопные «деньги» лишь избранные. Более сотни пушек стреляли, понятно дело, не ядрами, а конфетти, фейерверками и разными взрывчатыми салютами, хранившимися в очень больших количествах на корабле для веселья пассажиров. И вот они, очевидно, каким-то образом сдетонировали и взорвались. И теперь корабль горел. Девушка жутко закричала, и поплыла в сторону корабля. И тут Макгрегор увидел вторую волну, не меньше первой. Он поплыл за девушкой, догнал её, развернул её к себе, влепил оплеуху, крепко привязал шнурками ремень волынки к её спасательному жилету и крепко прижал к себе. Волна снова подкинула их высоко-высоко в небо. А потом была еще одна волна. И еще, и еще, и еще… А потом хлынул дождь. Мы не знаю тонкостей, о чём они говорили, когда были в море, о чём они думали, отбивались ли от акул, этого до нас не дошло. Известно только, что катастрофа их застала не так далеко от берега, буквально через сутки они увидели за стеной дождя землю. И погребли к ней. Бывает, что волны отбрасывают человека далеко в море. А бывает, наоборот, прибивает к земле. Этим двум повезло, им выпал второй вариант. Земля под ногами дала энергию и стимул этим обессиленным людям. Макгрегор с девушкой, поднявшись и взявшись за руки, стали забираться вверх по крутому берегу. И им снова повезло. Сверху им стали кричать, а затем сбоку по невидимой за дождём тропинке появились два человека, которые помогли подняться наверх, где стоял большой дом, где они, упав на кровати, провалились в долгий и тяжёлый сон.
Проснувшись, они познакомились с хозяевами дома, пожилой парой, которая сообщила, что они находятся на острове Ньюфаундленде, на канадской территории. Пожилые люди сказали, что они потомственные рыбаки. И их сын с женой тоже рыбаки. Вся их семья из поколения в поколение ловили рыбу и креветки, и сдавали их по фиксированной цене государству. Вчера утром, задолго до землетрясения и начавшимся после него дождём сын, взяв жену и подросшего ребёнка, которого с детства приучал к рыбному делу, и отправился на своём тральщике на работу. Связь прервалась сразу после первого земляного толчка. Видели огромные волны, но так как их дом находится с внутренней стороны небольшого полуострова, в лобовую волны по ним не били. И сейчас связи до сих пор нет. Никакой связи. Совершенно никакой. И они всё это время не отрывались от мониторов, и ждали, что сын с невесткой и внук приплывут, и, увидев Макгрегора с девушкой, не разобрав за дождём лиц, решили, что это они, и побежали к берегу.
Их сын с семьёй так и не вернулся в отчий дом. Но вернулась связь, и Макгрегор с девушкой узнали, что все их родственники или погибли, или пропали без вести, что после Потопа было примерно одним и тем-же. Джейн, так звали девушку, которая тоже была шотландкой, скоро забеременела от Макгрегора, который стал ловить рыбу, отдавать её людям, и помогать восстанавливать жизнь. Они остались у этой рыбацкой пары, которая стала относиться к ним, как к собственным детям, и которые, в свою очередь, заменили им отца и мать. Первенцем была девочка, которую назвали Брендой. Второй была моя прапрабабушка Сара.
Эти наши родословные легенды, знакомые с детства, я слушал от деда в тайне, так как отец не мог терпеть всё, связанное с нашим родом и Шотландией, и требовал, чтобы мы смотрели в будущее, а не оглядывались в прошлое.
Прадеда моего Сара родила очень поздно, на самой границе репродуктивного возраста, уже далеко после Последней Войны, когда так называемые «капиталисты» хотели вернуть допотопный «капиталистический строй» и «государства». На этой войне был и Макгрегор, воевавший против этих самых «капиталистов». Его рассказы о войне сильно повлияли на Сару, навсегда внушив ей отвращение к словам «нация», «самоидентификация», и «родной язык». Она считала это мерзким наследием того самого «капитализма» и «национализма», ещё одной страшной допотопной болезни, когда люди определённой местности ненавидели людей из другой местности, и считали себя лучше. Гэльскому языку, которому её выучил отец, детей она не учила. «Нации остались в допотопье. Один язык. Одна планета. И на этой планете все друг другу братья и сёстры, друг друга понимающие с полуслова!» – впитали её дети с детства. Я бы так и не узнал ничего ни про историю Макгрегора и Джейн, ни про их допотопную жизнь, ни про жизнь Сары, если бы не дневники её сестры Бренды, которые она кропотливо вела всю свою почти вековую жизнь. В этих страницах, написанных большей частью на гэльском, живёт душа этой бездетной женщины.
Эти дневники, чудом сохранившиеся в коробках на пыльном чердаке, вызвали интерес у моего чудаковатого дедушки, который с детства любил уединение и чтение. Он захотел во чтобы ни стало их прочесть. Гэльский он учил по программе очень быстро, моментально влюбившись в этот непростой, но удивительно музыкальный язык, после чего заинтересовался Шотландией, собрал внушительную библиотеку не только гэльской, но и старой допотопной английской, валлийской, и ирландской литературы.
Дед собрался поступать на кафедру исчезающих языков, единственной в мире, где еще изучали гэльский, благо, она была рядом, в университете Квебека. Это привело в ярость прадеда, впитавшего с молоком мировоззрение своей матери о единстве языка и народа, и раздражавшегося даже от французского языка, на котором в Ньюфаундленде говорили некоторые люди. Но дедушка был непреклонен. А главное, его поддержала мать. В итоге они все разругались до такой степени, что прабабушка с дедом остались на Ньюфаундленде, а прадед с другим сыном уехал постоянно жить на Балканы, где вскоре нашёл себе другую женщину. Прабабушка, в свою очередь, нашла себе новую любовь, и покинула наш остров, прихватив с собой сына. Новым возлюбленным был специалист по затопленным городам, тогда как раз начались разговоры, что в будущем, благодаря новым технологиям, возможно их восстановление. Этот возлюбленный спускал деда на батискафе к затопленным британским городам. И дед со слезами на глазах смотрел на заросшие ракушечником и кораллами Ливерпуль, Килмарнок, Ньюкасл, Абердин, родной город первого послепотопного Макгрегора, Лондон, Бирмингем, Брайтон, Эдинбург, родной город Джейн Макгрегор, и другие города, жителями которых сейчас являются рыбы, крабы, каракатицы, да медузы. В Грампианских горах, Ам Монадх, дед поставил небольшой капсульный дом, и проводил там большую часть от учебы время, подружившись с местными Хранителями, людьми, считающими себя носителями шотландских традиций, но уже тогда заменявшие в гэльском более половины слов английскими аналогами. С дедом вместе учились на гэльском отделении три человека. На ирландском было четыре. На литовское и латвийское отделение в тот год не было желающих учиться, и отделения навсегда закрыли. Как и ещё несколько других. Дед говорил, каких языков, но я забыл. Никогда и не слышал про них.
С дедом учились вместе один юноша и две девушки. Юношей был Уинки. И две девушки. Тура и Лая. Тура стала в итоге женщиной Уинки. А Лая моей бабушкой.
Вскоре родился мой отец Рональд. С детства бабушка с дедушкой принялись наполнять сына Шотландией. Они заставили его выучить гэльский. Заставляли регулярно читать Вальтера Скотта и Роберта Бёрнса. Заставили изучать историю Шотландии и Великобритании. Заставили его выучить наизусть допотопный альманах «Птицы южно-шотландской возвышенности». И, наконец, научили его худо-бедно играть на волынке.
Шотландию отец ненавидел.
Всё больше и больше он проводил время у своего деда, моего прадеда, на Балканах, возле Андриатического моря, с его семьёй. Благодаря прадеду нелюбовь к Шотландии увеличилась в несколько раз. В шестнадцать лет он сообщил отцу и матери, что будет жить на Балканах, и Шотландия ему, мягко говоря, чужда, далека, и неприятна, и своё будущее он видит инженером- роботоусовершенствователем, как и его дед. Это было сильным ударом для моих дедушки и бабушки, ведь больше детей у них не было, как они не старались. Через пару лет после рождения отца родилась девочка, которая прожила меньше года. Капсула с её прахом висела в их спальне возле фотографии новорожденного ребёночка. Больше никого не было.
Еще немаловажным фактом для отдаления от дедушки с бабушкой было то, что они были верующими. Отец некоторое время, как, впрочем, и многие другие люди умственного склада и мироощущения, считал это психической болезнью, и с ужасом вспоминал встречи верующих, на которых присутствовал в детстве, службы, вечерние и утренние молитвы.
Отец сменил имя. Из Рональда стал Сиши, с ударением на первый слог. Имя он придумал себе сам. И, как и многие жители Земли, отказался от фамилии. Это был ещё один удар по дедушке с бабушкой. А затем отец стал жить с женщиной намного старше себя, и родился я. Гиши. Так меня нарёк отец. И категорически запретил своим родителям даже говорить со мной о Шотландии, не говоря уже об изучении гэльского языка. Он даже не оставлял меня с ними наедине. Так и не узнал бы я ничего про Шотландию, и учился бы сейчас, наверное, на роботоусовершенствователя, как и мои отец с прадедом, а деда собственного, наверное, вспоминал бы как чудака со странностями, если бы не смерть моей матери, когда мне было пять с половиной лет.
Я смутно помню прощание с ней, впрочем, как и саму мать. Строгая женщина, казавшаяся если не ровесницей бабушки, то ненамного её моложе. Бабушка часто шутила, что мать, если похудеет, то вполне сойдёт за её младшую сестру-погодку.
– Опять твоя мать смеялась надо мной! – словно в тумане я еле различаю далёкий разговор родителей.
– Что поделать, Тэва, они все пропитались допотопным прошлым с его многоязычным дебилизмом. Их уже не переделаешь. Надо признать, да, они глупы, но они мои родители, и я люблю их такими, какие они есть. Постарайся не обращать внимание на их дурацкие шутки в следующий раз. Главное, чтобы они Гиши не заразили своими глупостями, особенно христианством.
– Это-не самое страшное, Сиши, замечательная легенда об очень добром и любящем человеке…
– Тэва, мы живём не в допотопную эпоху, чтобы верить разным легендам и сказкам, какими бы они не были прекрасными.
– Ты прав. И ещё, не хотела тебе говорить, но, мне кажется, в том, что Гиши не может уснуть в отдельной комнате, виноваты твои родители.
– Я так не считаю, Тэва, хотя, кто знает…
Я почему-то в детстве не мог уснуть один в комнате. Мать возлагала эту вину исключительно на бабушку с дедушкой. У меня вообще был ужасный сон, в отличии от матери, которая спала очень глубоко.
Так глубоко, что в одно прекрасное, а точнее, ужасное утро взяла, и не проснулась.
По-моему, на церемонию меня и не взяли. Помню, каких-то голубей гонял возле Дома Прощания, и думал, когда же мама придёт за мной. Но мама так и не пришла.
Через некоторое время возле нашего дома на Балканах по проекту отца роботы-строители соорудили небольшой каменный грот с тихим, еле журчащим ручейком у входа, в котором ступени вели вниз, в комнату, в которой включался рассеянный свет, стоило только приоткрыть в неё дверь. Стены в комнате были обтянуты серым плюшем. Комната была пуста.
Через некоторое время на одной из стен появилась небольшой квадрат в темной раме, под стеклом которого поблёскивал маленький кристаллик, под которым стояла надпись из четырёх букв. ТЭВА.
Родители моей матери умерли еще до смерти своей дочери. Вроде, они и меня не застали.
Затем были два нервных сумасшедших года. После смерти матери отец почти не вылазил со своего белградского завода по усовершенствованию роботов. Работа помогала ему хоть как-то забыть о потери любимого человека. Все свои силы он отдавал роботам, которых он, не скрывая, недолюбливал. Думаю, как крупный инженер, он видел все их несовершенства, в чем-то винил себя, и нелюбовь была скорее профессиональной. Особую неприязнь отец испытывал к роботам-нянькам, которые, кстати, были не в его специализации. Он считал, и я с ним полностью согласен, что ребёнком должны заниматься родители, а не механизмы. На свой завод, с которого, как я уже говорил, он почти не вылезал, он меня не брал, а оставлял с близкими знакомыми, и всё чаще со своими родителями, моими бабушкой и дедушкой, предварительно жёстко предупредив их, чтобы ни про какую Шотландию и религию они мне не говорили. Они кивали головами, и, разумеется, поступали совершенно обратно, потихоньку учили гэльскому языку, и кормили британскими сказками, которые я проглатывал с неплохим аппетитом. При этом они попросили меня говорить отцу, что все эти шотландские картины на стенах, предметы на столах и каминной полке, и особенно волынка вызывают у меня скуку и отторжение. И когда я говорил, что меня просили, отцу, тот сиял от моих слов. Особенно ему нравилась моя «неприязнь» к волынке.
– Помни, Гиши, когда играют на волынке, – говорил отец, – она издаёт звуки умершего животного, из шкуры которого она сделана. Если из шкуры коровы, то она мычит, если из овцы-то она блеет, если из козла-то поёт по козлиному. Звуки с того света. Такое чувство, что трупом пахнет. И, представляешь, твои любимые бабушка с дедушкой заставляли меня на ней играть!
– Ох! – я делал вид, что в ужасе от этой новости, закрывал ладонями лицо, и краешком глаза сквозь пальцы видел, как отец радуется на мою «реакцию».
Отец стал оставлять меня у бабушки с дедушкой намного дольше, уверенный в том, что я никогда не пойду по их стопам.
За вполне короткий срок я уже мог говорить по-гэльски небольшими и несложными предложениями. Вроде бы, уже ничто не мешало мне почти почувствовать себя настоящим шотландцем, но вот однажды… Однажды отец приехал, чтобы забрать меня домой. Площадка для геликоптеров была у дедушки с бабушкой не совсем возле дома, а метрах в ста от него. Отец сажает на неё свой геликоптер. Не сказать, чтобы я особо соскучился по нему, но на этот раз я не видел его недели три, а на такой большой срок я никогда с ним не расставался. Отец выходит из геликоптера, я бегу к нему навстречу и кричу: «Здравствуй, папа!». Всё бы ничего, но только кричу я по-гэльски, так как последние дни разговариваю, точнее, пытаюсь разговаривать, исключительно на нём. Автоматически отец отвечает мне на гэльском. Затем мы оба некоторое время смотрим друг на друга молча. Молчат и бабушка с дедушкой. Отец медленно переводит свой взгляд на них. Они опускают глаза, и виновато улыбаются. Отец берёт меня за руку, и, не говоря ни слова, сажает в геликоптер. Всю дорогу отец молчит, и когда уже мы были дома, под Белишче, отец, посадив геликоптер, тихо произнёс: «Ты мне соврал. Отцу соврал!». И снова молчит. Лишь желваки на его щеках дергаются, и будто пританцовывают. Поздно вечером, лёжа в кровати, я слышу, как отец срывается по сюэклю на своих родителей, и кричит, что не позволит сделать из своего сына «допотопное животное», и с этого дня он позволит им видеться со мной только в его присутствии.
Но не прошло и двух месяцев, как взошло солнце. Моё солнце.
Это было солнце со светло-кофейной кожей, иссиня-чёрными густыми вьющимися волосами и радостным смехом. Это солнце звали Биче, она была новой женщиной отца, и совершенно не разделяла его взгляды на то, что на Земле должна быть только одна нация под названием «земляне» и один язык. И особенно была несогласна с отцом, что допотопная культура и национальные особенности мешают человечеству двигаться дальше. Биче называла себя итальянкой, прекрасно говорила на итальянском, или, как его ещё называют, латинском языке, была танцовщицей в театре итальянского национального танца, и была влюблена в культуру своей родины. И поэтому, узнав, что отец запрещает мне изучать шотландскую культуру, Биче пришла в ярость, и сказала, что не будет жить с человеком, который, по её выражению, «культурно кастрирует собственного сына». И сказала, что уйдёт, если так будет продолжаться дальше.
Отец за ужином, не глядя мне в глаза, негромко произнёс, что «в некоторых элементах воспитания он был не прав». Биче чуть лягнула меня ногой под столом и улыбнулась.
Я стал снова проводить большую часть своего времени на Ньюфаундленде. В отличие от отца, меня никто не заставлял учить гэльский. Я выучил его сам и довольно быстро. Меня никто не заставлял регулярно читать Вальтера Скотта и Роберта Бёрнса. Я сам читал их. Меня никто не заставлял выучить наизусть допотопный альманах «Птицы южно-шотландской возвышенности». Я так часто его просматривал, что автоматически знал почти наизусть. Меня никто не заставлял учиться играть на волынке. Я сам научился на ней играть. Бабушка с дедушкой были, как говорили в допотопье, на седьмом небе от радости, души не чаяли в Биче, и называли её «доченька», «радость наша», и «самая вкусная шоколадка на свете». И Биче, которую вырастила тётка, тоже танцовщица, полюбила родителей своего мужчины как своих, и горячо интересовалась шотландской культурой, заставляла отца вспомнить язык, и говорить со мной по-гэльски, и, в свою очередь, рассказывала про латино-итальянскую культуру. Несколько раз в неделю она летала на геликоптере к себе в Милан для танцевальных представлений, на которые приходило довольно большое количество людей. Отец стал работать на удалении, почти не приезжая на завод, и всё время сопровождал Биче. Он был очень ревнив. И его можно понять. Помню, у отца собрались другие инженеры с завода, чтобы что-то обсудить, да и просто душевно пообщаться, попить кофе или пива под спокойную беседу. Все они прилетели, когда Биче долго нежилась в ванной. И вот она входит на веранду в своём шёлковом недлинном халатике бежевого цвета, позволяющим увидеть полностью ноги, верхняя часть халата приоткрыта, светло-коричневая кожа влажная, кое-где блестят капельки воды. На плечах тонкий халатик прилипает, и принимает форму тела. Биче удивлённо смотрит на оторопевших мужчин, вспоминает, что отец ей говорил про гостей, улыбается, и медленно с растяжкой произносит своим чуть низковатым голосом: «О-о-о, ма-а-а-альчики!». И каждому показалось, что эти «О-о-о, ма-а-а-альчики!» относится исключительно к нему. Все раскраснелись, и бросали на Биче тайные взгляды. Разговор, до этого довольно бойкий, совершенно расклеился. Тогда Биче взяла всё в свои руки, сказала, давайте познакомимся, и взяла беседу в свои руки. Отец сидел молча, и тяжело дышал. Биче рассказала какую-то историю, как у неё на сцене случайно задралась юбка, все засмеялись, отец вскочил, громко сказал, что у него внезапно заболела голова, что уже поздно, и пора всем разлетаться по домам. Все нехотя, бросая на Биче взгляды, разлетелись. Каждого Биче пригласила в Милан на танцевальные выступления в свой театр. После того, как улетел последний, отец взял Биче за руку, быстро повёл наверх в спальню, закрыл за собой дверь, и долго что-то говорил ей на повышенных тонах. Я из своей комнаты, перед тем как заснуть, слышал, как Биче шла по лестнице, и всхлипывала. Кстати, теперь я спокойно засыпал в одиночестве. Благодаря Биче.
Как я уже говорил, засыпать в одиночестве я не мог. Находясь у бабушки с дедушкой, в моей комнате, когда я засыпал, обязательно также спали или бабушка, или дедушка. Дома я спал в спальне родителей. После смерти матери засыпал в той же спальне, уже отца и Биче. Время от времени я отходил ко сну не сразу, и иногда слышал, как мать шептала отцу: «Погляди, не заснул ли он?». Отец подходил, наклонялся, я к этому времени закрывал глаза, и притворялся спящим. «Да вроде спит» -говорил отец, отходил, и они с матерью начинали сначала сильно ворочаться на кровати, а затем чуть подпрыгивать на ней. Это было недолго, потом всё затихало, и они, а вслед и я, засыпали. Я это застал всего несколько раз. С Биче же всё было по-другому. Сначала я просто просыпался от их возни и стонов. «Тише! Тише! -шептали они друг другу, -Гиши может проснуться!». Однажды я долго не мог уснуть, и услышал, как Биче шепнула отцу, что пойдёт посмотрит, «не уснул ли наш мальчик».
Я, как и раньше, закрыл глаза, и сделал вид, что сплю. Биче подошла на цыпочках к моей кроватке, и я услышал над ухом её горячее дыхание. «Ты не спишь, Гиши? – очень тихо спросила меня Биче, и тронуло плечо через тонкое одеяло. А затем сказала настолько тихо, что это слышал я. – Если не спишь, то хотя бы притворись спящим!». Затем вновь началась возня, стоны. А затем сильно заскрипела кровать. Я хотел открыть глаза, повернуться и поглядеть, что они там делают, но боялся. Затем я услышал немыслимое! Биче срывающимся шепотом очень сильно стала просить отца отхлопать её по попе! Послышались громкие шлепки. «Сильнее, Сиши, сильнее! Я хочу, чтоб искры летели!». Я очень испугался, зарылся в одеяло с головой, и уже и не помню, как и заснул.
На следующий день мы полетели смотреть пирамиды. Биче, в отличие от отца, всё время любила куда-то ездить, что-то открывать для себя, что-то смотреть, да и просто побывать и позагорать на пляже, на котором раньше мы никогда не были и не купались. Пирамиды произвели на меня большое впечатление. Из морской глади одиноко торчали три каменных острова-конуса. Самая большая пирамида возвышалась над волнами почти на сто метров, вторая чуть-чуть поменьше, а третья совсем маленькая по сравнению с двумя остальными. Метров двадцать над водой, не более. «Смотри, Гиши, – Биче показала рукой на самую большую пирамиду, – это твой папа. – Вот эта, -показала на пирамиду поменьше, это я, Биче. А это, – указала на самую маленькую пирамидку, – это ты, Гиши!» В нескольких километрах от пирамид была большая плавучая платформа для гостей, где мы посадили геликоптер, и пересели в батискаф. Можно было поплыть на экскурсию с экскурсоводом, или прослушать экскурсию в записи. Экскурсоводы были сплошные мужчины с куском белой ткани на голове, перетянутой толстой верёвкой. Все они улыбались Биче. Биче делала вид, что не замечает их взглядов, а отец сказал, что будем слушать экскурсию в записи.
(Сейчас я и не знаю, можно ли опуститься на батискафе к подножию пирамид, и остались ли они, эти самые экскурсоводы…)
Мы спустились на батискафе под воду, и долго плавали вокруг головы огромной фигуры человека-льва, так называемого Сфинкса. Поразительно, но его возраст был более четырёх с половиной тысяч лет! Примерно такой-же возраст был и у пирамид, у оснований которых мы тоже долго плавали, слушая про тайные комнаты и захоронения, которые были, и до сих пор существуют внутри пирамид, но экскурсий туда нет, так как это довольно опасно. После чего на части иллюминатора батискафа наступило затемнение, после которого пошла трансляция записи съёмок этих комнат, потом нам стали показывать саркофаги из музеев мира, изображения амфор, существ с головами зверей, птиц, и прочего, связанного с Древним Египтом, допотопной страной, над бывшей территорией которой мы сейчас плавали. Записи сильно завораживали. Точнее, завораживали нас с Биче, отец смотрел их довольно равнодушно. Кстати, мы часто платили отцу тем же самым, когда он возил нас на выставки новых роботов своего завода. Хотя, что скрывать, не всегда наше равнодушие было искренним. Некоторые экземпляры, например, робот-птица для института орнитологии, или робот-рука для универсальной помощи в быту производили впечатление. Робот-собака для одиноких людей, которого не надо было выгуливать и кормить, тоже был ничего. Не отличался от настоящей собаки. И ещё умел танцевать на задних лапать, вылаивал музыкальные песенки, и ходил в маркет за продуктами.
После пирамид, по дороге домой, мы отклонились от маршрута, и залетели на Мальту поужинать. Этот остров с россыпью островков вокруг него сплошь покрыты ресторанами и кафешками с замечательными кулинарами. Там подают даже мясные блюда. Но в определённых маленьких ресторанчиках, конечно. Когда-то Средиземноморье, как оно раньше называлось, было одним из самых населённых мест на нашей планете. Но во время Потопа, во время сдвига тектонических плит и землетрясений, Гибралтар, тогда еще не перешеек, защёлкнул свою пасть, превратив таким образом Средиземное море в Средиземное озеро, во внутреннее закрытое море, каким мы его знаем в современном виде. Эту историю мне рассказывает Биче, когда мы летим ужинать.
Наш ресторан называется «Серебряная Финта», с кабинетами, куда могут подать и рыбные блюда, которые мы, в отличие от отца, очень любим с Биче. Отцу нам так и не удалось навязать свои вкусы даже в пище. Мы с Биче заказываем суп из раков и стерляди и жареных креветок с сухарями. Отец себе сливочный суп с макаронами и пирог с соей и морской капустой. Первым делом приносят большой бокал брусничного морса для меня, маленькую бутылочку вина для Биче, и отцу кружку его любимого тёмного пива «Чебоксары», которое Биче тут-же пробует.
– Ого! Лихо! Градуса четыре будет!
– Три и восемь, – уточняет отец. Он если и выпивает, то делает это очень редко. Но никогда не берёт слабоалкогольного пива.
Биче наливает из бутылочки немного вина в бокал, и разбавляет его водой. Вообще-то Биче любит неразбавленное вино, но отец, в отличие от меня, этого не знает. Мы поднимаем наши бокалы с кружкой, и чокаемся. Через некоторое время отец выходит в уборную.
– Биче, а ты в чём-то провинилась перед папой, что просила его наказать себя? – решаюсь спросить я, вспоминая события прошедшей ночи.
– Чего?
– Ну… ты сказала, что, если не сплю, чтоб сделал вид, что сплю… Ну, я и сделал. Ты просила папу похлопать… ну… по своей попе… ты что-то натворила?
Биче недоумённо смотрит на меня, медленно отпивая из бокала, затем до неё резко доходит смысл сказанных мною слов. Она давится вином, начинает кашлять, вино летит мне в лицо, и Биче начинает громко, не сдерживая себя, хохотать. Занавеска откидывается, показывается робот-официант, и спрашивает, всё ли у нас хорошо. Биче душит смех, она хочет ответить, но не может, лишь кивает головой, и снова начинает смеяться. Официант говорит своей мембраной, как ему прекрасно слышать женский смех, и исчезает. Биче приходит в себе, и, вытирая мне лицо подолом платья, просит никому об этом не говорить.
– Совсем-совсем никому, хорошо, Гиши? – её лицо рядом с моим. Я вижу её гладкую коричневую кожу, я смотрю в её тёплые чёрные глаза. – И ещё. С этого дня ты будешь спать один в своей комнате. Один. Я сейчас кое-что сделаю, и ты не будешь бояться засыпать в одиночестве.
Она посмотрела из занавески, очевидно, не идёт ли отец.
– Закрой глаза, – шепчет мне Биче. – Не бойся, глупенький, закрой глаза.
Я закрываю глаза, и чувствую, как наши губы соприкасаются. А затем… А затем горячий язык Биче ловко скользит через мои губы, ящеркой юркает сквозь зубы, и нежно и не быстро гладит круговым движением мой язык своим языком. Затем так же быстро убирает его, откидывается на мягкую спинку диванчика, и подносит палец к губам.
– Только никому, Гиши, – я киваю утвердительно, – теперь ты не будешь бояться спать в одиночестве?
Я киваю ещё более утвердительно.
Биче подливает в мой бокал с морсом немного вина, и подмигивает мне. Я в ответ подмигиваю Биче. Мне нравится, что у нас столько тайн, о которых известно только нам вдвоём.
Входит отец, и Биче поднимает тост за меня, который с этого дня будет не бояться спать в одиночестве. Отец криво усмехается, но чокается и выпивает. Я тоже пью, и вкус у морса уже не тот.
Отец допил своё пиво, и Биче тут же стала требовать, чтобы отец выпил неразбавленного вина.
– Биче, я не сумасшедший!
– Любишь меня? – строго спрашивает Биче своим низковатым голосом с хрипинкой.
– Более того, Биче, я не допотопный!
– Люби-и-ишь ме-е-еня??
– Биче, тебе надо принять таблетку от алкоголя!
– Лю-ю-ю-юбишь ме-е-е-еня??? – Биче уже хрипит-шипит как дракониха из допотопных мультиков, которые показывали мне дедушка с бабушкой.
– Биче, ты знаешь, я не буду это пить!
Биче плещет вино из бутылки в пустую кружку от пива, и подносит её к лицу отца.
– Пе-е-е-ей!
– Ну Биче….
– Пе-е-е-ей! А не то сегодня по приезду вещи начну собирать!
Отец понимает, что никаких вещей Биче собирать не будет, но эта фраза, тем не менее, каким-то непонятным образом действует на него. Он берёт кружку, и, морщась, залпом выпивает вино.
– Какая гадость! – ещё больше морщится отец, и хватает себя за горло. Но через пару секунд выражение лица его меняется. Видно, это не так противно, но он не хочет в этом признаваться.
– Ну что, вещи останутся на своих полках? – улыбается отец.
– Я рада, что тебе понравилось, – хлопает в ладоши Биче, и кричит за занавеску. – Ещё вина! Ещё вина!
Отец снова начинает отнекиваться, но уже как-то вяло, и в итоге выпивает второй раз неразбавленного вина, потом третий, и кладёт свою голову Биче на колени. Биче, наливая вина себе, заодно, улыбнувшись, плескает и мне в бокал. Голова отца ниже уровня столешницы, и он не может этого видеть. Она чмокает меня на расстоянии, а я в ответ чмокаю её, она улыбается, мы чокаемся и выпиваем.
Морса у меня в бокале почти не оставалось, поэтому в этот раз я распробовал вино намного лучше. Реакция была как у отца, сначала что-то неприятное, которое если не через мгновение, то через несколько мгновений превращается во что-то вкусное.
В зале заиграла музыка. Биче хватает отца за руку, вытаскивает из кабинета, и при этом кивает мне головой, показывая, давай за нами. Я выскакиваю последним, успеваю схватить бутылку, и сделать глоток неразбавленного вина. В зале танцуют, и мы присоединяемся к ним. Я впервые в жизни вижу такого беспечного, а главное, радостного отца, весело скачущего вместе со всеми. После этого номера Биче подходит к музыкантам, (а это один из очень редких ресторанов, где выступают музыканты), и о чём-то говорит с ними. Они начинают темы на своих трубах и гитарах, но Биче отрицательно машет головой. Снова о чём-то договариваются, Биче машет головой ещё жёстче и отрицательнее. Музыканты ищут что-то, наигрывают, и наконец, Биче показывает большой палец. Музыканты начинают играть довольно лихой мотив, в руке у Биче появляется красный платок, и она начинает, как сама любит говорить, «подбрасывать коленца». Это тарантелла! Люди встают в круг, и начинают аплодировать Биче. Биче танцует! Не дёргает конечностями в разные стороны, а именно танцует. Лицо её сияет от радости. Её обнажённые ноги прекрасны. Платок в её руке похож на дерзкую красную бабочку. И вот моей прекрасной мачехе тесно внутри тарантеллы. Она делает знак музыкантам, призывая их увеличить темп, и уже несётся по кругу галопом, импровизируя на ходу. Платок уже не бабочка, а факел, переходящий от быстроты движений в изогнутую алую ленту. Все начинают хлопать Биче, и видно, как это её заводит. Несколько человек пытаются подражать ей, но моментально путаются, сбиваются с темпа, а один человек даже падает на пол. Биче подаёт ему руку, не останавливаясь в танце помогает ему подняться, несётся дальше и снова делает знак музыкантам увеличить темп, после чего встаёт в центр аплодирующего круга, и начинает бешено крутить фуэте. Окружающий её людской круг гудит от восторга. И вот последний фуэте, и Биче опускается в поклоне на колено, и получает водопад аплодисментов. Женщина рядом со мной говорит громко своему мужчине, что так танцевали раньше, и что это очень красиво. Я спрашиваю, если ей так нравится этот танец, почему бы ей не научиться танцевать также? Неожиданно мои слова вызывают смех и умиление. «Посмотрите, какой смешной мальчик!», «Ах, ну зачем танцевать как раньше, это время ведь прошло!», «Ах, эти дети! У меня ребёнок как-то увидел допотопный замок, и спросил, почему мы такие же не строим?», «А у меня ребёнок тоже самое спросил про допотопную песню!», «А у меня…». Голова моя кружится. Биче берёт меня на руки, и говорит отцу, что Гиши хочет спать. Идём к геликоптеру. Я на руках Биче, отец рядом. Он не замечает, что его сын откровенно пьян, так как сам пьян так, как не был пьян ни разу в жизни. Отец смеётся, что-то говорит, а я уже ничего не понимаю. Мы садимся в геликоптер, я утыкаюсь в подмышку Биче, и меня обволакивает запах её духов вперемежку с острым запахом пота, я проваливаюсь в сон, и прихожу в себя уже в Белишче, когда Биче меня раздевает, чтобы уложить спать. Уложить спать не в их с отцом спальне, а в моей комнате.
– Я не усну, Биче, я не усну, – пьяным языком я пытаюсь что-то сказать.
– Сможешь, – улыбается Биче.
– Нет, не смогу…
– Посмотри на меня!
Я смотрю на Биче, она улыбается мне, кладёт ладонь на лоб и долго смотрит в глаза. Долго-долго. я готов смотреть на Биче бесконечно.
У меня кружится голова и я проваливаюсь в сон.
Впервые в моей сознательной жизни я проснулся в своей комнате один.
Я прочитал довольно большое количество допотопных сказок. Особое место в этих сказках занимает место мачеха, жена отца главного персонажа, пришедшая на место умершей родной матери. Эта мачеха всю сказку, обычно со своими детьми, всячески унижает главного героя или героиню, и даже пытается лишить его или её жизни. Все эти мачехи похожи друг на друга своим скверным характером. И самое страшное, что подобных людей было довольно большое количество в допотопную эпоху. Да и вообще, своих детей любят больше, это понятно. Но у меня всё по-другому. Всё самое лучшее, самое нежное и светлое связано у меня с Биче. С моей мачехой Биче. Конечно, я многим обязан бабушке и дедушке. В первую очередь приучению к гэльской, но главным образом, к общей культуре допотопной Великой Британии. Но именно Биче осветила мне культуру тем светом, в котором она для меня существует. Бабушка и дедушка принесли мне угли. А Биче помогла их раздуть и разжечь огонь. Мне стыдно говорить, но я даже и не могу сказать, что дали мне отец и мать, которую я очень плохо помню. Хотя нет, они с матерью дали мне жизнь. Спасибо им за это. Они дали мне хороший холст, натянутый на крепкий подрамник. Бабушка и дедушка хорошо его загрунтовали, но нарисовала меня частично именно Биче, оставив мне другую часть для личного самосовершенствования. Я не просто так привёл в пример картину. Кроме танца Биче была просто помешана на живописи, и, конечно, таскала нас с отцом по музеям.
По московским музеям, дрезденской галерее, Прадо и мюнхенской Пинакотеке я могу с закрытыми глазами хоть сейчас провести экскурсию. (С закрытыми глазами по закрытым на век музеям…). Но самый любимый музей был в родном городе Биче, в Милане, на Сан-Сиро. Это был «Музей Утраченных Картин».
Допотопной живописи, в отличии от скульптуры и архитектуры, повезло меньше. Значительное количество великих музеев оказались в затопленных городах. Посетителями Лувра, Эрмитажа, Метрополитена, Рейксмюзеума, галерей Уффици, Бостона, Стокгольма и других прекрасных музеев и галерей стали рыбы и членистоногие. Мировая живопись растворилась в мировом океане. Кому-то повезло, как, например, Тициану, чья огромная выставка проводилась во время Потопа в Москве, где она в итоге и осталась, а вот от моего любимого Вермеера, увы, остались только «Географ» во Франкфурте-на-Майне, и «Мастерская художника» в Вене.
А от некоторых совсем ничего не осталось.
Буквально за полгода до Потопа все крупные музеи мира произвели оцифровку своих картин на самом высоком для того времени качестве. Где-то полвека назад на основе этой оцифровки и современных технологий, которые регулярно обновляются, и был создан «Музей Утраченных Картин» с удивительными голограммами, которые невозможно, как мне кажется, было отличить от оригинала. Подойдешь к картине, видишь тонкие застывшие старинные мазки, трещинки-кракелюры, видишь раму, чуть поеденную жучками, но стоит протянуть ладонь к картине, дотронуться кончиками пальцев до её поверхности, и рука проходит сквозь картину, и через секунду упирается в стену. Отец, равнодушный совершенно к живописи, но будучи инженером, ходил в этот музей чисто из-за этих технологий, и получал необъяснимое удовольствие, тыкая в ты или иную картины пальцем, кулаком, или даже локтем. Это выводило Биче из себя, и она делала отцу замечания. Больше всего Биче любила Ван Гога, художника, жившего лет за двести до Потопа. Мне он тоже нравился, но я не мог долго находится в зале с его картинами. Он был настолько ярок и экспрессивен для меня, что я уставал буквально после пятой-шестой просмотренной картины. Но, вернувшись к отцу, замечу, что он и любил в подобных музеях, так это ужасаться тому, насколько нецивилизованно жил человек до Потопа, и насколько цивилизованным человек стал в послепотопное время. При этом отец был крайне неравнодушен к музыке, и обожал терменвоксы, особенно после того, как учёные признали, что для психики человека это самый гармонический звук. Любил терменвоксы и я. До тех пор, как в нашей семье не появилась Биче, и уже после первого прослушивания «Маленькой ночной серенады» я напрочь забыл, что такое терменвоксы. Удивительно, но отцу тоже нравилась эта старинная музыка, но он считал, что для современного человека она чересчур страстная, поэтому в «Ла Скалу» мы ходили обычно вдвоём с Биче.
А ещё Биче учила меня итальянскому языку, и добилась разрешения у отца, чтобы дедушка и бабушка называли меня шотландским именем Аллан, которым они в тайне от отца называли меня между собой. Конечно же, отец долго не соглашался, и Биче жёстко сказала, что отец похож на допотопного человека, не желающего идти на компромиссы, ибо компромиссы даже в школе отдельным предметом изучают. Чего-чего, а сравнение с допотопным человеком отцу совершенно не понравилось, и отец пошёл на попятную. Я не мог и поверить в это! Так мне не нравилось быть Гиши, и так нравится быть Алланом! Более того, отец сказал, что я волен в будущем даже взять нашу старую фамилию. Это было так не похоже на отца, но через некоторое время я узнал секрет его чрезмерного великодушия. Оказывается, Биче была беременна! Фанфары Биче и её беременности! И прощай, Гиши, и здравствуй, Аллан Макгрегор.
Аллан Макгрегор… Звучит сильнее, чем какой-нибудь Владетель Баллантрэ!
Когда в школе я попросил называть меня не Гиши, и Алланом, все сочли это за мою очередную странность. В школе меня вообще считали человеком странным. Очень странным. У меня даже друзей там не было. Через какое-то время моего отца вызвали в школу. Вопросов по моему поводу было много. Почему такой прилежный ученик с хорошими отметками почти не находит тем со сверстниками и учителями, почему совершенно не увлекается точными науками, а отдаёт предпочтение второстепенным и не самым важным урокам истории и обществоведения, и совсем неважному уроку литературы? Почему ставит в тупик своими вопросами учителя компромиссов? А главное, откуда у него такая любовь к допотопью, а не к современному миру? Биче жёстко сказала отцу, что его сын это и её сын. И поэтому в школу за него пойдёт она.
В первый день недели я не сел в школьный аэробус, а вместе с Биче полетел в Будапешт на её геликоптере. Мы сидели в кабинете у Сальникова, человека без фамилии, названного, в свою очередь в честь фамилии героя Последней Войны генерала Сальникова. Кто-то из его дедушек-прадедушек воевал под командованием этого прославленного победителя капитализма. Сальников был единственным из всех учителей, с которым можно было поговорить о допотопной культуре и литературе. Он даже знал, хоть и смутно, о существовании Шотландии. В обществе уже довольно давно выводится из употребления слово «лучший» применительно к человеку, так как данное слово чересчур выделяет человека, заставляет его думать, что он в чём-то выше других, и унижает других людей, чувствующими рядом с ним ущербными. Но Сальников действительно был, наверное, лучшим учителем в школе, обладавший многосторонними знаниями, и в высшей степени знавший и понимавший свой предмет. Он был учителем биологии. И я был его любимцем. Я шёл хорошо почти по всем предметам, в том числе и по точным наукам. Если бы у нас в школах, как раньше, ставились так называемые «оценки», то, наверное, я был бы одним из «отличников». Но мне была глубоко скучна алгебра. К геометрии я потерял интерес буквально через несколько уроков. К физике-через нескольких месяцев. К химии относился с уважением благодаря одной моей страсти кроме гуманитарных наук. И страстью этой была биология. И наконечником этой страсти-генетика. Я помню, как первый раз посмотрел в микроскоп. Это было примерно тоже самое, что я испытывал от выдающихся произведений литературы или музыки. Или как ошеломление от игры Гвидо Альбертини. Аббревиатура ДНК звучала для меня почти так же, как Данте, а словосочетание «нуклеиновые кислоты» напоминало музыку Баха. Я не пропускал ни одного занятия, и даже был в факультативном кружке, где были собраны мальчики и девушки, думающие о том, что в будущем они будут связаны с генной инженерией, биофизикой, или другими прекрасными профессиями. Но в последний год страсть моя, под влиянием гуманитарных наук как-то поутихла. Литература и музыка всё больше и больше вытесняли из меня трансляции и функции клеток. Потихоньку я стал посещать кружок только ради Сальникова, чтобы не огорчать его, но, конечно, не мог скрыть, что теряю интерес к его предмету. В итоге я перестал посещать факультатив, чтобы просто лишний раз не видеть страдающие глаза этого замечательного учителя, потерявшего одного из самых перспективных учеников.
Сальников, как и ожидалось, сразу стал говорить о том, что мне ни в коем случае нельзя терять интерес к биологии, так как из меня в будущем может вырасти «гордость мировой генетики». Биче сказала, что сейчас такой возраст, когда надо выбирать или-или, так как совмещать это вряд ли получится, одно будет мешать другому. Сальников пытался возразить, сказав, что крупный допотопный писатель Чехов был прекрасным врачом, а отличный композитор Бородин крупным химиком. Биче сказала, что если бы я был бы русским, то, наверное, смог бы это совмещать, но я не русский. Сальников стал возмущённо говорить, что в современном мире нет национальностей, а если и есть, то все они равны, и я могу пойти по пути этих двух прекрасных людей. Биче ему ответила, что, если все национальности равны, то все люди разные, и не всем дано заниматься совершенно разными науками, и что ей, Биче, придётся перевести меня в гуманитарную школу, чтобы я сконцентрироваться на любимых предметах, а не был принуждаем к тому, к чему охладел.
Потрясённый Сальников через долгую паузу тихо сказал, что в первую очередь надо спросить у меня, хочу ли я перевода в гуманитарную школу. Я закрыл глаза, и сказал, что очень хочу перейти в гуманитарную школу. И добавил, что не могу больше смотреть на мучения Сальникова, который страдает от моей всё увеличивающейся холодности к его предмету, и не могу ничего сделать с этим охлаждением.
Ничего…
Когда мы выходили из школы, Сальников смотрел на нас из окна. Он стоял в проёме пожилой, седой, и какой-то сморщившийся. Я помахал ему рукой. Он, в свою очередь, помахал рукой мне. Мне стало очень жалко моего учителя.
Примерно через полгода я узнал, что Сальников умер.
4.
18 августа: – 49/29 и 13/7… 49/29 и 13/7… 49/29 и 13/7… Я не могу привыкнуть к этим цифрам. Я не могу привыкнуть к тому, что случилось. Я не могу привыкнуть к круглосуточному шуму дождя. Я не могу привыкнуть, что вода всё поднимается и поднимается. Я не хочу в это верить. Я не хочу верить во всё это. И больше всего не могу свыкнуться с мыслью, что может быть, именно МОЖЕТ БЫТЬ, что Фергуса и всей его семьи нет на этом свете. А сегодня Эйлис кричала, что их нет, и она это точно знает.
Не могу писать.
22 августа: – Сегодня у Эйлис день рождения. Как несколько дней назад она закричала, что Ферги с семьёй больше нет, как упала в беспамятстве, так больше в себя и не приходила. Сидел сегодня у неё возле постели, держал мою голубку за руку, и гладил её. Шеймас сидит рядом на банкетке, и, в свою очередь, гладит по голове тихо плачущую Абигейл. Они уже обнимаются без стеснений. Время от времени он что-то шепчет Абигейл на ухо, и целует в мокрую щёку. Я ничего не говорю. Начинается большая неделя дней рождений, которые мы всегда встречали все вместе, последние дни лета, самые мои любимые дни отпуска и года. Завтра день рожденье близнецов. А послезавтра вековой юбилей у бабушки Гленны. А потом Абигейл, Шеймас и Томас. А дождь всё идёт, и вода всё поднимается. И Клайд снова завыл. Всё воет и воет…
ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС!!!
1 сентября: – Сегодня ровно месяц с ТОГО дня, и дождь всё хлещет и не прекращается. И вода поднимается. Я буду писать. Я буду писать и вспоминать. Вспоминать…
Деда своего, Джона Рамсэя, человека, сделавшего всё благосостояния нашей семьи, я не застал. Я родился, когда он уже несколько лет был в могиле. Отцу дед говорил, что он человек двадцатого века, и чувствует, что даже «и не заступит и полшага за порог двадцать первого». Так оно и произошло. Не дожив до нового тысячелетия буквально несколько месяцев, дед, оставив своему сыну огромное состояние, скончался тихо, во сне, от остановки сердца.
Дед мечтал, что его любимая жена, моя бабушка Гленна, будет рожать через девять-десять месяцев после рождения очередного ребенка. Дед хотел большую семью. Но на деле всё оказалось иначе. Бабушка никак не могла забеременеть. Сдали анализы. Виной бездетности оказался дед. Это привело его в отчаяние. Не отличавшись до этого излишней религиозностью, дед ночи напролёт читал молитвы и делал большие пожертвования в пользу пресвитерианской церкви. Убрал из своей жизни алкоголь. Бросил курить. Стал вегетарианцем. Стал приверженцем гимнастики и массажа.
И бабушка Гленна забеременела! Бабушка говорила, что дед, до этого не гнушавшийся в разговоре употребить то или иное лихое слово, совершенно перестал браниться в период её беременности. Перестал ругать даже подданных. Я был знаком с работниками, помнящими дедушку, и они как один говорили, что в это небольшое время он производил впечатление какого-то святого человека. Прям какого-то Франциска Ассизского. И бабушка родила мальчика. Но тяжёлые роды дали последствия, после которых она больше никогда не могла иметь детей. Это крайне расстроило деда. Расстроило до такой степени, что он снова стал употреблять алкоголь, как и в прошлом, выкуривал по две пачки в день, снова стал кушать любимые стейки с кровью, забросил гимнастику с массажем, и, как и прежде, в подручных снова полетели слова ругательства, и дед уже не напоминал им Франциска Ассизского.
Его единственный сын, мой отец, родился 25 июля 1980 года, во время летней Олимпиады. Именно в этот день великий шотландец и уроженец Эдинбурга Аллан Уэллс выиграл в Москве золотую медаль, пробежав стометровку за 10,25 секунды. Дед очень хотел назвать отца Алланом, но бабушка Гленна настояла на том имени, о котором они договорились заранее, если родиться мальчик. В те времена заранее невозможно было определить пол ребёнка.
Отца назвали Робом. Но всю оставшуюся жизнь дед не забывал, в какой день родился его сын. «Ну что, вы готовы к забегу, Аллан Уэллс?» – спрашивал дед отца перед школьными экзаменами или скаутским походом. В отличие от великого спортсмена, отец никогда не брал золото ни на каких дистанциях. Он не входил не только в тройку призёров, его бы, говоря спортивным языком, вряд ли подпустили бы даже к районным соревнованиям. Скверно учился в школе. О поступлении в престижное высшее заведение не было даже и речи. Финансовый колледж, куда дед устроил отца, тот окончил кое-как. Главным его институтом был сам дед, который с ранних лет внедрял отца в положение семейных дел, учил правильному вложению акций, диалогу с подопечными, управлению заводами и так далее. То, что отец понимал хоть что-то в бизнесе, являлось заслугой деда, а не отца, который и не скрывал этого. Отец даже говорил, что если бы вместо него дед учил вести дела сосновое полено, то скорее всего, полено вело дела поумнее его. Последними словами деда были: «Ну что, вы готовы к забегу, Аллан Уэллс?», сказанные с такой иронией, в которых отцу послышалось: «Надеюсь, ты не просрёшь наше состояние, сынок?».
Главным достижением отца в финансовом колледже, которое он с грехом пополам окончил после смерти деда, был отнюдь не диплом с посредственными оценками, а знакомство со своей будущей женой и моей матерью Сьюзен, которая уже на втором курсе подарила отцу моего старшего брата Уэллса, названного в честь победителя Олимпиады, и которого, в отличии от меня, успел потискать дед. За год до окончания колледжа произошло прискорбное событие мирового масштаба, так или иначе связанное с нашим нынешнем пребыванием. Одиннадцатого сентября две тысячи первого года самолёты с террористами врезались в здания Всемирного Торгового Центра, находившегося в Нью-Йорке. Погибло очень большое количество народа. В том числе и некоторые наши родственники со стороны сестры деда, возглавлявшие филиал нашей фирмы в Америке, находившиеся в это время в своём офисе, на одном из самых верхних этажах одного из зданий. Это потрясло отца. Он перенёс офис нашей фирмы из лондонской высотки в елизаветинский особняк в Белгравии, и, как вспоминала бабушка Гленна, и без того замкнутый, отец совсем замкнулся в себе, и мог сесть в самолёт, только прилично выпив перед этим. Близких друзей у отца и так не было, а от немногочисленных приятелей он совсем отдалился. После падения небоскрёбов вовсю пошли разговоры о грядущей ядерной войне, в которой можно выжить только в глубоком бункере. Стали появляться предложения. Богатые люди скупали бункеры. На боязни одних другие заработали огромные деньги. Среди боявшихся был и отец. Вступив в право наследника, отец купил маленький остров в архипелаге Гебридских островов к северу от Ская, в нескольких десятках километрах от восточного побережья Льюиса-энд-Гарриса, почти полностью состоявшей из скальной породы. В самой высокой его части стали пробивать широкую шахту внутрь скалы, шахту, ставшую основанием бункера. К этому времени я уже появился на свет. Сам бункер и шикарный каменный дом над ним стоили отцу более трети состояния, и это не считая яхты, катерков, площадок для отдыха и вертолётов и вырубленных лестниц и лесенок, этаких скальных дорожек и тропинок. Над отцом открыто смеялись. Сейчас, когда я сижу в JR, и пишу эти строки, я особенно понимаю смысл пословицы «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним». Остров отец назвал Джон Роб, соединив в названии имя своё и своего отца. В жизни полное название почему-то не прижилось, и называли его по инициалам, JR, Джей-Эр. Однажды учительница в школе поинтересовалась у брата, как он проведёт уик-энд. Брат сказал, что полетит с семьёй на остров Джей-Эр. В понедельник мы с отцом, который привёз нас в школу, повстречали у крыльца учительницу брата, которая совершенно искренно спросила, как мы провели время на Джейн Эйр. Отец моментально среагировал, и сказал, что Джейн Эйр осталась довольна. Это был единственный момент, когда я видел, что отец остро шутит. И один из немногих, когда отец шутил вообще. После этого мы называли остров только Джейн Эйр. А JR не испарился, Джоном Робом мы позднее стали называть бункер, с которым отец нас познакомил довольно поздно, уже после смерти матери, которая произошла, когда мне было одиннадцать, а брату пятнадцать, до этого мы несколько лет уже летали на Джейн Эйр, и понятия не имели, что у нас под прекрасным домом расположен целый подземный дворец. Как сейчас помню, отец сказал нам, что нас ждёт сюрприз, и мы вместе с Томасом спустились в подвал, подошел к стене, на серединной части которой мозаикой была выложена «Прозерпина» Данте Габриэля Россетти. Томас поднял руку, и нажал на кусок мозаики, на котором находился хвостик граната. Стена плавно, почти беззвучно поехала вбок. Мы зашли в большой холл, устланный бежевым паласом. Отец открыл небольшую дверцу в стене, стилизованную под зеркало, за которым оказалось множество разных рычажков и кнопочек. Отец нажал самую большую из кнопок, ярко-желтую. Включился свет, и… В общем, мы первый раз посетили этот замечательный дворец с гостиными, холлами, коридорами, спальнями с находящихся в них туалетами и ванными комнатами. Ниже жилых этажей находилась большая зала и кухня с холодильной камерой. Ещё ниже – медицинский этаж с зубным кабинетом и кабинетом для родов. Пустые комнаты с кушетками. Комнаты со шкафами с медикаментами и медицинскими инструментами. Книги по хирургии и проведению операций. Как профессиональные, так и для простых людей, оказавшихся в критической ситуации. Ещё ниже было несколько этажей с длинными отсеками, занятыми консервируемыми и сухими продуктами, о которых я писал выше. И самый нижний этаж, где была малюсенькая стилизованная часовня и склеп. Мы не понимали, зачем нам в Джон Робе склеп? Но вот он и пригодился…
Не могу писать…
2 сентября: – Вечер. Чувств нет никаких. Выпил много, но почти не пьян. Все сидят по комнатам. Хочется вспоминать, вспоминать, вспоминать.
Что там у нас? Где я остановился? Так, понятно.
На самом нижнем этаже, кроме склепа, есть комната, о которой знают домашние и Томас с Эваном. Но не знает Мэри и не знала Сандра с детьми.
Дело в том, что отец никогда не доверял банкам и денежным операциям по инету. К карточкам относился двойственно. С одной стороны удобно, с другой стороны испытывал к ним какое-то презрение. Уважение отец испытывал исключительно к материальным деньгам. К банкнотам, к золоту, к драгоценностям.
В церквушке, за маленьким алтарём, находилась потайная комната за несколькими дверями, в которой находились кейсы с денежными купюрами, футлярами с ювелирными изделиями, стоящих баснословных денег, ящичками с драгоценными камнями и слитки золота. Открыть эту комнату не просто. Кроме меня это знают только Фергус, Алекс, и, к сожалению, Кеннет. Ну и Томас с бабушкой Гленной, естественно. И Эван. Во всём бункере стоят видеокамеры, распознающие лица, чужой человек, если он проникнет, допустим, в один из верхних этажей, будет заблокирован дверями, которые моментально закроются. Это только одна из нескольких систем защиты. Сейчас она выключена.
Так, алё, зачем я это пишу?! Надо потом не забыть заштриховать всё густо-густо.
Мать болела очень долго, большую часть года проводила в больнице. Сказать, что на нас с братом её смерть произвела глубокие трагические чувства было бы сильным преувеличением, а вот отец после смерти жены совершенно ушёл в себя. Как-то по инерции вёл бизнес, и был крайне вежлив с подчинёнными. Иногда проводил время на конюшне, доставшуюся от деда. О чём-то говорил с лошадьми. Постоянно смотрел матчи «Хайберниана» и мюнхенской «Баварии», которую поддерживал в еврокубках. Причем смотрел матчи, никак не выражая свои эмоции.
Мы с братом были совершенно разные люди, хотя и были названы в честь одного человека. Отец дал нам имя того, чьё имя мог носить сам. Мы с братом носили имя олимпийского чемпиона Аллана Уэллса. Старший брат был Уэллсом, а я был Алланом. Отец говорил, что это имя его грело с детства, и всегда напоминало о деде. Что это имя поможет нам в жизни, и мы, в отличии от отца, оправдаем его, и выиграем все свои «забеги».
«Ну что, Аллан Уэллс, вы готовы к забегу?».
Мы с братом отличались во всём, и бег наш, соответственно, разнился. Он бегал галопом, и резвыми скачками, а я так, рысью. Брат был хваткий, быстрый и смекалистый, меня же с детства называли романтиком. Я вяло болел за «Хайберниан» и писал, точнее пытался писать лирические стихи. Брат был болельщиком не только «Хибс», но и активно поддерживал «Ливерпуль», «Барселону», кроме британских сборных переживал за сборную Аргентины и все клубы, в которых играл Лионель Месси. Еще ему нравилась сборная Нигерии. И сборная Новой Зеландии по регби, особенно их танец. Он также, как и я, писал стихи. Точнее, четверостишия на приятелей и друзей, от которых те краснели, так как там всё время кто-то кого-то активно трахал. Сам он распрощался с девственностью в тринадцать лет. И потом требовал того же от меня, прожужжав все мои красные от смущения уши. Стал я мужчиной, правда, немного позднее, также благодаря брату, который взял меня с собой в сауну, подсыпал в пиво возбуждающее, и толкнул меня в комнату с джакузи, где уже меня поджидали затаившиеся, заранее снятые братом девушки. Мне было очень приятно. Но потом так стыдно и отвратно, что я несколько раз мылся. Терзало что-то, сам не знаю, что. Хотя брата вот ничего никогда не терзало.
Мы были с братом первые в нашем семейном роде, кто поступил учиться в высшее престижное заведение. Первым поступил, пончтно, брат. В Кембридж на экономику с менеджментом. Уже на первом курсе брат дал отцу дельный совет возродить в Америке наш филиал, почти сошедший на нет после сентября 2001 года, и перевести туда значительную часть активов, а то, как говорил брат, «бостонцы наши живут как нищие». Никогда наши американские родственники не жили как нищие, но тем не менее отец последовал его совету, и в будущем укреплённый филиал полностью оправдал себя, принося барыши в десятки раз больше прежних.
А потом появилась Она.
Я не помню, чтобы в школе у брата были друзья. (Хотя у кого в нашей семье они были?) Но в Кембридже такой друг появился. Джеймс Харди, его однокурсник из Глазго, ходивший с усами с тех пор, как над губой появился первый пушок. К 18-ти годам усы у него были хоть и довольны жидковаты, но Харди умудрялся их завивать, и в кембриджском костюме был похож на джентльмена с открытки начала двадцатого века, таких называли ещё «эффектными мужчинами». Семья Джеймса не обладала большим капиталом, но, тем не менее, они были весьма уважаемыми шотландскими бизнесменами. И брат, и Джеймс были во многом похожи. Оба высокие и статные. Оба обожали серфинг, женщин, мировую политику и футбол. Оба были «бело-зелёными». Брат был, понятно, «хибс», а Харди болел с пелёнок за «Селтик» из родного Глазго. И ещё они яростно поддерживали «Ливерпуль», и по возможности старались ездить на матчи, особенно на матчи Лиги Чемпионов, причём смотрели их на фанатских трибунах в бело-зелёных майках своих клубов. Их любили и уважали самые агрессивные и остервенелые хулиганы с Мерсисайда. И вот там, в «Ливерпуле», на стадионе «Энфилд Роуд» в один прекрасный день они и познакомились с лучшими подругами, ирландками Джуди и Эйлис, которые и стали их жёнами.
Это было как-то совсем быстро и невероятно. Я помню этот день. Была суббота поздней осени. Было темно. За окном шёл дождь и дул ветер, и удары капель в окна нашей гостиной в поместье в Лотиэне были отчётливы и гулки, будто по стеклу били маленькие молоточки, обёрнутые ватой. У меня закончилась школьная неделя, Уэллс приехал на уик-энд из Кембриджа, и мы ужинали. За столом прислуживал Томас, ему помогала Мирдза, его жена, выполнявшая по дому работу от служанки до кухарки. (Отец распускал часть прислуги на уик-энд, и вообще после смерти жены её сократил, считал, что это расточительно, и расслабляет нас, мы с братом застилали кровать и убирались в своих комнатах сами). По традиции бабушка Гленна за чаем и глинтвейном, (мне-безалкогольный), расспрашивала всех о том, как он провёл свою неделю, и какую пользу он из неё вынес. Я не помню, кто что рассказывал, но брат в конце своего, как всегда весьма смешного рассказа о недели сделал паузу, и добавил, что решил жениться. Добавил как-то в проброс, будто сказал, что на бензоколонке не было бензина, пришлось ехать на следующую бензоколонку. Возникла пауза, после которой отец, запинаясь и подбирая слова, стал протестовать, что жениться брату рано, что надо закончить университет, получить профессию, и уж тогда, но брат перебил его, и сказал, что вообще-то кто-бы говорил, и что отец сам зачал его, брата, будучи студентом финансового колледжа. Отец сказал, что не хочет, чтобы его брали в пример, и что у брата есть своя голова на плечах. Брат усмехнулся, и сказал, что еще можно ожидать от шотландца, которому дали имя Уэллс. Отец, что с ним случалось очень редко, стал говорить крайне пылко, но его перебила бабушка Гленна, до этого молчавшая, и сказала, почему бы брату не познакомить нас всех со своей возлюбленной. Брат кивнул, достал телефон, отошел в угол холла, сделал звонок, и шёпотом стал что-то говорить. До нас доносились обрывки разговора. «Какие к чёрту поезда?»… «только самолётом»… «все вместе-это даже лучше». Затем закончил разговор, подошёл к столу, и, улыбаясь, сказал, что завтра тут ожидается «очаровательная компанийка», после чего повернулся ко мне, и спросил, не хочу ли я что-нибудь сказать по этому поводу. Я ответил, что дождусь завтрашнего дня, и только после знакомства с пассией брата смогу ему уверенно сказать, жениться ли ему, или сломя голову бежать от венца. Мой ответ разрядил атмосферу, все заулыбались, мы помолились и пошли по своим комнатам готовиться ко сну, предвкушая день завтрашний.
А завтрашний день начался нестерпимо рано с возни внизу у парадных дверей, смехом, и восклицаниями: «А вот и мы! А вот и мы!». Мне не терпелось увидеть свою sister-in-law, мою сноху, но в выходной они могли бы приехать и попозже. В общем, позевывая, я неспеша оделся и спустился вниз. «А вот и наш младшенький!» – сказала бабушка Гленна, когда я появился в гостиной. Обычно во главе стола всегда сидел отец. Напротив него, на другом конце-бабушка Гленна, но сейчас, как говорится, уселись как уселись. Концы стола были свободны, на боковой стороне сидел брат с невестой, которая представилась Джуди, рядом с ним Джеймс с весьма похожей на Джуди девушкой, которая в свою очередь назвала своё имя-Эйлис. (Сейчас, вспоминая эти прекрасные дни, понимаю, что похожесть заключалась только в рыжих волосах и овальных лицах. Хотя этого достаточно). Бабушка Гленна с отцом сидели напротив брата с Джуди, и мне ничего не оставалось, как сесть напротив Джеймса и Эйлис. Подруги, чуть перебивая друг друга, скорее от смущения, чем от бестактности, рассказывали, что в Ливерпуле шёл проливной дождь, по дороге в аэропорт они были уверены, что рейс перенесут на несколько часов, но не успели они подъехать к Джону Леннону, как дождь прекратился, во время посадки светило солнце, получасовой полёт прошел отлично, Джеймс их встретил в Эдинбурге, и вот теперь они здесь. Томас и Мирдза принесли чай с теплым хлебом, маслом и джемом, сэндвичи с яичницей и беконом, и мы продолжили знакомство. Девушки были первокурсницами ливерпульского университета, и учились на археологии, к чему их привела любовь к древней истории Англии, к её замкам и древним балладам. Бабушка Гленна тут же заметила, что я тоже люблю литературу, не забыв сказать, что я пишу стихи в школьную газету, которые учитель литературы счёл весьма зрелыми для моего возраста, и напоминающие ему раннего Вордсворта. Эйлис сказала, что у настоящего трубадура рано или поздно появятся настоящая дама, и улыбнулась. Потом я довольно смутно помню, о чём мы говорили за столом. Вроде Джуди и Эйлис рассказывали что-то про будущую летнюю практику в Корнуолле, про какие-то раскопки. Затем брат меня спросил, одобряю ли я его выбор, и я ответил, что давно заметил, что самые красивые девушки часто выбирают себе в мужья полнейших остолопов. Бабушка с отцом смутились, но смутились абсолютно зря, так как подруги засмеялись, а брат с Джеймсом вообще заржали, как лошади. Через некоторое время мы уже слышали ржанье настоящих лошадей, так как пошли на конюшню хвастаться своими красавцами и красавицами с шёлковыми гривами. Мы покатались на лошадках. Ну, как покатались, Джуди сидела на серой Эсмеральде, любимице брата, который медленно вёл её под узды, Эйлис сидела на моём белом Мерлине, которого вёл, в свою очередь, под уздцы я. Джеймс шёл с другой стороны Мерлина, и всё время говорил, чтобы Эйлис крепко держалась, и была аккуратна. Но Эйлис, в которой ирландская кровь играла ярче, чем в подруге, всё время просила меня отпустить узду, и взяла с меня обещание, что я в будущем научу её, как она выразилась, «скакать как вакханка». Слезая с коня, она случайно задела коленом мою грудь. Я вспоминаю это колено, эти выбившиеся рыжие волосы, этот смех и родинку на подбородке, и вспоминаю, вызвала ли во мне в тот день Эйлис какие-то чувства? Точно нет. Я тогда был влюблён в Салли, свою одноклассницу по элитной школе, она перевелась к нам полгода назад откуда-то со стороны. Салли была храброй и имела абсолютно мальчишечий характер, курила на переменах, часто употребляла довольно жесткую лексику, и была совершенно нестеснительной. Я сидел за ней, и часто слышал, например, что, когда моя возлюбленная хотела по-маленькому, она громко шептала: «Что-то Саллинька, девочка, давненько не делала пи-пи!», после чего просила ей ненадолго покинуть класс. Когда же она хотела в уборную на больший срок, то говорила соседке: «Хоть отдохну от вас в тишине!». У Салли были голубые глаза, тонкие губы, крепкие груди и широкие плечи. Говорили, что она давно не девочка, но я не хотел в это верить. Я считал, что очень сильно люблю её, и почему-то думал, что и она меня рано или поздно полюбит. Я был уверен, что люди с именами Аллан и Салли просто обязаны быть вместе, несмотря ни на что. Салли на меня внимание совсем не обращала. Помню, на перемене, подходя к своей парте, увидела обложку книги, которую я, сидящий за ней, читал.
– Что это? – спросила Салли.
– Это Йейтс, антология, – говорю я, скрывая радость, и протягиваю Салли книгу.
– Ну и что мы узнаем из этой книжонки того, чего мы не знали раньше, – Салли лениво полистала книгу и заглянула в самый конец. – Шестьсот двенадцать страниц! Это же п..ец какой-то! – Салли протянула мне книгу обратно. – Да уж, Рамсэй, какой-то х..нёй ты занимаешься!
Это был, пожалуй, самый длинный наш разговор. И даже после него я не разлюбил её.
Затем в туалете, в котором она так любили отдыхать от всех, Салли едва не умерла от передозировки. Её еле откачали. А потом она с родителями эмигрировала в Мельбурн, и на удивление быстро забылась.
Я даже и не помню, как Эйлис вошла в моё сердце. Мы стали чаще видеться, когда я поступил в Кембридж на искусствоведа, и отправлялся с братом и Джеймсом на уик-энд не к родителям, а в Ливерпуль к их женам, или в какой-нибудь другой город. Часто и Эйлис с Джеймсом гостили у нас в Лотиэне или в Кинг-Кроссе. Я сдержал слово, и научил Эйлис кататься на лошадях, что не особо нравилось Джеймсу, который не то, чтобы не любил, а как-то побаивался лошадей. Во время лошадиных прогулок мы всегда о чем-то оживлённо болтали с Эйлис. Но я даже не мог и подумать, что у меня могут возникнуть к этой девушке какие-то чувства. Даже не в том дело, что Эйлис была женой лучшего друга моего брата, просто я был из тех людей, для которого разница в возрасте, а Эйлис была старше меня на два года, много значит. В начальных классах разница в два года огромная, как между средними веками и Ренессансом, и чем дальше по годам, тем разница ощущается все меньше и меньше. В мои восемнадцать разницу к двадцатилетней Эйлис я всё-таки ощущал довольно сильно, хотя мои сокурсники, поднаторевшие в любовных похождениях куда больше меня, утверждали, что самые лучшие женщины это за сорок, которые «и умеют, и научат, и претензий не предъявят». У меня же те дни, когда неженатый брат снимал девочек и толкал меня хмельного в их объятия были далеко позади, а настоящей девушки у меня никогда не было, хотя я нравился многим одноклассницам и однокурсницам. Даже стихи им посвящал. Но я был однолюбом. И объекты любви так и не знали, как сильно я их любил. Ни Салли, ни Бонни, которая была до неё из параллели, ни болезненная Софи, которая умерла в пятом классе от рака.
