Метод чекиста
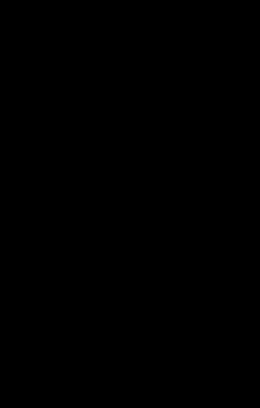
© Шарапов В., 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Глава 1
Земля задрожала. Совсем близко резанул атмосферу пронзительный паровозный гудок. Прошел резкой волной ветер от пронесшегося скорого пассажирского поезда Москва – Рига.
– Слушай, Дольщик. Я тут было по доверчивости своей рассудил, что ты из деловых, – поморщившись от пробирающего до печенок паровозного гудка, укоризненно произнес Турок.
– Никак ошибся? – с легкой насмешкой спросил его собеседник.
– Ты не деловой. Ты, милок, шпион.
Тот, кого только что обвинили в шпионаже, задорно рассмеялся, демонстрируя на редкость ровные зубы.
– Посмешить меня решил? – отсмеявшись, поинтересовался он. – Тебе удалось.
Отношения выяснялись возле железнодорожных путей, идущих от Рижского вокзала. Эти места последние годы облюбовал уголовный элемент для своих кулуарных встреч и разбирательств. Оно и понятно. При облавах, если шустрых пацанов-наблюдателей по уму расставить, ни один милиционер незаметно не приблизится, а после тревожного свиста можно рвануть врассыпную и затеряться среди железнодорожных строений, а затем и среди бесконечных улочек Марьиной Рощи.
Татуированный с ног до головы, в фуфайке, ватных штанах и кепке, высокий и массивный, пышущий агрессивной силой Турок, первый в драке и пьянке, сверкая фиксами и покачиваясь, стоял, набычившись, напротив своего соперника по горячему спору. Дольщик же, наоборот, был совершенно спокоен. Гладкий, в ладном драповом пальто, невысокий, с округлыми покатыми плечами, в нем ощущалась какая-то крестьянская надежная основа – в поведении, в рассудительной речи, в наивной и вместе с тем хитрой улыбке.
В это же время Саня Клещ и Леха Пятак – крепкие и умеренно татуированные парни, годков эдак двадцати пяти, – сидели на корточках в сторонке и с интересом наблюдали диспут на волнующую и вечную в блатном мире тему: «Кто кого подставил и кто кому должен». В шпионов они не особо верили, но видели, что их до того верный и надежный, как часы московского завода имени Кирова, подельник и вдохновитель на славные дела Дольщик крутит что-то явно сомнительное. А может, он и правда шпион? От этого у умственно и культурно недалеких, но не лишенных романтики парней аж дух захватывало и жизнь открывалась новыми интригующими гранями.
Между тем Турок, дав собеседнику посмеяться всласть, продолжил:
– С тем последним дельцем. С тарантасом тем у Смоленской. И с бумагами в нем. Мало того что дело мутное на поверку вышло. Так у нас теперь на хвосте кроме легавых еще и ЧК висит.
– Да ты не бойся, дорогой мой человек, – беззаботно отозвался Дольщик. – Подымят и успокоятся.
– Э нет, те псы на кровушку натасканные. И не успокоятся, пока дичь не загонят. Так что подвел ты нас под монастырь, Доля. Вот теперь у меня забота – сиди и думай, а может, тебя этим чекистам сдать? И прощение себе выторговать.
– Никак решил сойти с пути порока? – опять улыбнулся Дольщик; улыбка была широкая и немного наивная, без каких-либо намеков на гнусность и непотребный подтекст. – Искупить честным трудом. Стать достойным гражданином СССР.
– А ты не ерничай! – подался вперед Турок.
Его страшно раздражала в Дольщике правильная речь. Сколько общались, ни разу не слышал от него ни одного блатного лихого словечка. А это создавало трудности в общении. Блатной язык гораздо более емко отражал характер многотрудной преступной деятельности. Но похоже, Дольщик блатных просто презирал, хотя сам дела преступные воротил с удовольствием и изощренностью.
– Мне Совдепия не мать родная, а ведьма лютая! – поостыв, произнес Турок. – Ничего хорошего от нее в жизни не видел. Поэтому и базарю с тобой, а не на Лубянку маляву толкаю. Но ты не по-людски поступаешь. Мы тебя за своего держали. А ты нас втемную, как фраеров каких дешевых, пользовал. Нехорошо.
– Да брось ты, друг мой ненаглядный.
– Хоть брось, хоть подними. А теперь должок за тобой.
– Ох, Турок, – держа руки в карманах пальто, как-то по-детски обиженно произнес Дольщик. – Твои слова просто ранят.
– А могут и убить.
– И много хочешь в порядке заглаживания моей вины?
– Да для начала самую малость.
Турок обозначил объемы своего аппетита. Новый свисток приближающегося паровоза заглушил эти слова, так что пришлось повторить снова.
Дольщик аж крякнул. Да, малость оказалась вовсе не малой. И, судя по алчному выражению на лице Турка, суммы будут только расти. А шантаж углубляться и усугубляться.
Почуяв изменение в настрое собеседника, Турок отступил на шаг, и рука его скользнула в карман телогрейки.
– Ты не дури, агент империализма! От маслины в лоб краше не становятся!
– Да куда мне против вас, таких решительных, – вздохнул Дольщик. – Значит, деньги, говоришь. Ладно. Ты же свой. Сколько с тобой дел понаделано.
Воркующие интонации и абсолютное отсутствие агрессии в собеседнике на миг расслабили Турка.
Земля дрожала все сильнее от напора длинного товарного состава. Вновь свистнул паровозный гудок.
Тут Дольщик с завидной стремительностью шагнул вперед. Рука вырвалась из кармана. В ней что-то блеснуло.
Неприятный треск – будто бильярдные шары столкнулись. И Турок как подкошенный рухнул на землю, задергался. Страшный удар кастетом проломил его толстый череп и не оставил шансов пожить еще хотя бы чуток.
Леха Пятак вскочил на ноги, потянулся рукой за пазуху. Но на него уже смотрел черный зрачок ствола вальтера.
– Спокойно, ребятишки, – примирительно произнес Дольщик. – Вы же теперь мои. Родные. Одного родственничка мы только что потеряли. Так в память о нем давайте будем душа в душу жить. Ведь так?
Мягкий деревенский говор звучал безобидно. И вместе с тем от этих воркующих интонаций у парней мороз по коже полз еще позабористее, чем при поножовщине с самыми отпетыми психопатами. Что-то в голосе было такое, даже не угрожающее, а рациональное и окончательное. Так говорят судьи – им незачем рожи корчить и угрозами сыпать. Достаточно произнести «расстрел», и все становится на свои места, притом бесповоротно.
– Пятак. Ты же по дверным замкам мастак, – посмотрел на парня ласково новый пахан. – Вот вам мой первый родственный наказ…
Глава 2
Все же умеем, когда захотим, делать надежные вещи. Вон старенькая эмка на всем ходу сшибла столбик с дорожным знаком «извилистая дорога», вылетела с дорожного полотна, перевернулась и вновь встала на колеса, снеся еще и молодую березку. Но при этом вполне сохранила изначальную форму – спасибо доброму металлу и надежной конструкции. А вот о ее ездоках такого не скажешь. Там конструкция не такая надежная, и материал похлипче.
Точнее, еще недавно это были ездоки. Теперь это всего лишь два искореженных безжизненных тела. Как пишут в протоколах: «тела, принадлежащие заместителю начальника лаборатории номер 15 Института геологии рудных месторождений АН СССР Вадиму Кушниру и водителю той же лаборатории Максиму Золотареву». Вот так – еще недавно были два человека, и теперь их нет. Остались только «принадлежащие им тела».
Жуть, конечно, жуткая и мрак мрачный. Были и нет – будто кто-то из списка живых вычеркнул недрогнувшей рукой. Но меня сейчас больше всего интересовал другой вопрос: где портфель Кушнира?
Портфель – это ведь не просто предмет обихода. Это какой-то вечный, почти мистический, всепоглощающий объект моих профессиональных забот и тревог. Портфель с печатями в руках дипкурьера, руководителя, военного, ученого легко может стать ящиком Пандоры и выпустить наружу неисчислимые беды в случае, если его откроет враг. И в первую очередь беды обрушатся на тех, кто по долгу службы обязан досмотреть за документами, хранящими фетиш органов госбезопасности – Государственную Тайну.
К сожалению, нет такой силы, которая бы заставила наших увлеченных трудовыми свершениями и громадьем планов ответственных товарищей отказаться от того, чтобы пихать в свои солидные портфели важные документы, записки, блокноты, черновики, которые для врага дороже злата и каменьев.
Так что эти самые портфели мне нередко снятся по ночам – кожаные, клеенчатые, из кожзаменителя, дерматина, красивые и безобразные. Но там обязательно лежит Он – Важный Секретный Документ. Бумажка, за которую летят головы. Поэтому у нас при любом ЧП первый вопрос: где портфель с документами? И что за документы там были?
И, к моему сожалению, перерастающему в ужас, именно такие вот бумажки и бумаженции должны были быть в том самом солидном портфеле, который взял с собой Кушнир, отбывая на совещание в Москву.
Представившись, махнув удостоверением, я прорвался через милицейское оцепление и начал все беседы с этого самого портфеля.
Прокурорский следователь кивнул мне приветственно. Круглые очки придавали ему вид студента-заучки, но рулил он осмотром места происшествия умело. Он жестом указал на салон эмки, откуда уже извлекли тела. И я увидел, что пухлый черный кожаный портфель лежит там, между сиденьями. Тут же половина горы у меня с плеч упала. Вторая половина упадет, когда я узнаю, какие там были бумаги и целы ли они.
Я было потянулся за портфелем – от избытка чувств, конечно. Но меня остановил окрик следователя:
– Не трогать! Сначала эксперт!
Ну да, виноват. Первая заповедь при осмотре места происшествия – не тянуть шаловливые ручки куда не просят, и не хватать, что приглянется. Право первого касания здесь всегда у эксперта.
Опылив портфель криминалистическим порошком и сняв с него отпечатки, эксперт сфотографировал его со вспышкой и протянул следователю. А тот – мне.
Портфель был набит вчерашними газетами, блокнотами, даже стопка чистой бумаги для машинописи имелась.
Холодок пополз, и стало как-то пусто внутри. Папки с докладом, украшенным всеми возможными грифами секретности, не было. А ведь должна была быть!
Черт, не зря меня одолевали самые худшие опасения, что это не обычное ДТП, а происки с той стороны. Которая давно интересуется лабораторией номер пятнадцать. Если доклад у них… Аж голова заходила ходуном от такой перспективы.
Стоп. Пока паниковать рано. Покуда надо разбираться.
– Что вы можете сказать о происшествии? – спросил я следователя, поежившись от налетевшего порыва ветра. Середина апреля, а холод пока собачий, и эти ветра жить не дают.
Следователь только пожал плечами и официальным тоном проинформировал:
– Выводы делать рано. Вот закончим осмотр.
И, больше не обращая внимания на меня, двинулся в сторону эксперта, который на дороге нашел какие-то страшно важные осколки.
Понятная ситуация. Смотрят на меня как на паразита. «Мы работаем, а контрразведка дурацкие вопросы задает! Все бдят и из мухи слона раздувают!» Устроить, что ли, им тут разнос или пока рановато?
Рановато, конечно. Я огляделся и в толпе сотрудников, понятых и вообще непонятно кого разглядел того, кому любые версии и выводы по плечу.
Дядя Степа – милиционер. Лучший друг граждан СССР. Вон он, прохаживается в привычной манере. Правда, от канонического михалковского Дяди Степы его отличает совсем уж плюгавенький рост, развязная приблатненная походка и блатная кепочка. Ну а что вы еще хотите от оперативника уголовного розыска?
С одной стороны, хорошо, что я его увидел, – близкая душа все же. С другой – само его присутствие настораживало. Ведь тянул он лямку в отделе по убийствам Московского управления уголовного сыска – бывшего МУРа. И чего его сюда занесло? Как, впрочем, и прокурорского следователя. Возможный ответ на этот вопрос мне оптимизма не совсем добавлял.
– Степан, ты ли это, дружище? – бросился я к нему как к неожиданно найденной на просторах страны родне.
Пожали крепко друг другу руки. Похлопали по плечам, выбивая пыль. Я был рад встрече. Он был рад встрече. Мы оба были рады. Все же есть нам что вспомнить, – как пули свистели, как граната рванула и как бандитов раскладывали штабелями. Да, было у нас общее горячее дельце в позапрошлом году.
– Какими судьбами? Территория не твоя. – Я обвел окрест себя рукой – вокруг была лесополоса на подъезде к столице.
– С прошлого года наша. Столица расширяется. Здесь будет стройка – не век березкам шуметь.
– Ты же по убийствам, – напирал я. – А тут ДТП.
– Оптимист, – хмыкнул капитан. – А ты знаешь, кто такой оптимист?
– Плохо информированный пессимист?
– Именно. – Дядя Степа помахал рукой, подзывая судебного медика – молодого, по виду только после института и с упрямым блеском в глазах, как у всякого амбициозного молодого специалиста. – Серега, скажи товарищу из высокого кабинета, как оно у нас!
– Оба убиты ударами тупого тяжелого предмета, – четко доложил медик.
– Какого?
– Молоток. Кастет. Или еще чего.
У меня едва стон душевной боли не вырвался. Ох, как же это все плохо. Рубь за сто, что это вражеская акция в отношении секретоносителя первой категории.
– Анализируем следы и механизм происшествия. Получается, что машину снесли с полотна. А потом забили пассажиров чем-то тяжелым и категоричным, – расписал удручающую картину Дядя Степа. – Мотив? У тебя хочу полюбопытствовать. Опять ваша тематика? И потерпевшие с вашего объекта?
– Ты, как всегда, проницателен, – кивнул я.
Дядя Степа вздохнул, а потом с надеждой спросил:
– Дело себе заберете?
– Размечтался! Пока это убийство, а не диверсия или теракт. Так что уголовный розыск, как всегда, в первых рядах.
– С шашкой наголо, – вздохнул Дядя Степа.
– Но работать вместе будем. Указания от руководства получишь незамедлительно.
– Ну да, вам править и удила натягивать, а нам копытом землю рыть.
– Согласился бы тогда на наше предложение о переходе в контрразведку – сам бы сейчас указания раздавал. Теперь не взыщи.
– Да ладно. Мне и так хорошо.
– В общем, ищешь эту проклятую вражью машину. Она повреждена. Ее или в отстой поставят. Или в ремонт загонят.
– Не учи ученого, – отмахнулся Дядя Степа.
– Работаем, капитан!
– Работаем. – В глазах Дяди Степы вспыхнул азартный блеск охотника.
А я направился к новенькой «Победе», которую выделили нашему отделению месяц назад. Кинул на заднее сиденье шляпу. Сел за руль. Повернул ключ.
Машина тронулась, набирая скорость. Меня ждала «пятнашка»…
Глава 3
Тяжелые механические ворота закрылись со скрежетом. И этот скрежет казался мне сейчас зловещим, как движение заржавевшего ножа гильотины. Да уж, ситуация по основной сути своей до боли схожая. Ведь именно здесь через несколько минут все станет на свои места и решится вечный вопрос – казнить или миловать?
Моя «Победа» проехала еще несколько десятков метров и замерла на круглой площадке с пока еще лысой клумбой в центре, прямо перед ступенями длинного трехэтажного здания лаборатории номер пятнадцать.
Такие вот желтые строения с высокими потолками, парадными колоннами, островерхими крышами, портиками, массивными дверьми и широкими гранитными ступенями, какие-то домашние и уютные, сейчас возводятся по всей стране. Видел я их в вырастающих в самых дебрях лесов новых городах и секретных объектах. И нередко за стенами, выглядящими мирно и успокаивающе, работают люди, которые двигают науку, открывают тайны материи, поднимают промышленность и мощь державы, чеканят надежный ядерный щит.
Итак, я в «пятнашке». Это один из наших объектов в ближнем Подмосковье. На обнесенной высоким забором с колючей проволокой территории, охраняемой внутренними войсками, кроме главного здания имелись несколько пристроек, возвышалась штанга антенны дальней радиосвязи – вещь для профиля данной организации весьма нужная, поскольку ее интересы распростерлись на огромных пространствах, в том числе труднодоступных, а порой непроходимых, куда только радиоволны и могут долететь.
Я едва лишь успел распахнуть дверцу машины, а ко мне уже широким шагом двигался высокий, почти двухметровый, атлетически сложенный и сильно бородатый начальник пятнадцатой лаборатории Артур Владимирович Сторожихин. За ним едва поспевал худой и мелкий, старавшийся казаться убедительным и строгим, что просто необходимо при таком роде деятельности, сотрудник первого отдела, отвечавший здесь за режим секретности.
– Вас ждали. Вы у нас сейчас как свет в окошке! – эмоционально схватил мою руку доктор наук, но сжимал осторожно, будто боясь раздавить кисть своей мощью экскаватора.
Как я и предполагал, в лаборатории царили возбуждение, растерянность и нездоровый ажиотаж. Всем хотелось куда-то бежать и что-то делать, но только куда и что – вопрос? Да и много не набегаешься без соизволения одной хитрой инстанции, которую сейчас представлял я. Вот они и ждали меня с такой надеждой – мол, сейчас опричник приедет, все рассудит, кому надо бошки снесет, и все будет как прежде.
– Всем никуда не уходить, – объявил я делегации из еще нескольких сопричастных, ждавших нас в просторном фойе.
Мы с начальником прошли в большой кабинет аж на три окна, достаточно аскетично обставленный. Стены были завешаны многочисленными физическими, географическими картами СССР и мира, между которыми чернела грифельная доска. Шкафы завалены кусками каких-то минералов. Книжные полки внушали уважение избытком самых разных книг – от кожаных, с золотыми тиснениями солидных дореволюционных фолиантов до дешевых серых брошюрок. И кипа бумаг на столе. Здесь присутствовал ровно тот беспорядок, который говорил о том, что в помещении работают, а не тешат начальственное самолюбие.
Люди предсказуемы. Я уже знал, как пойдет разговор. Он так и пошел. Сперва начальник лаборатории терзал меня вопросами, а точно ли его подчиненные погибли и нет ли здесь ошибки. Когда все его надежды были мной жестоко разбиты, он начал интеллигентно, но потрясенно стенать, схватив бороду, будто желая выдернуть ее:
– Кушнир! Бедняга! Всего сорок лет пожил, а сколько всего сделал для Родины! И сколько еще сделал бы. Дурацкое ДТП. Дурацкий день… По-дурацки хрупка наша жизнь.
– Никто не застрахован, – слегка осадил его я, ощущая, что драматический монолог может затянуться. Интересно, что бы с ним было, сообщи я ему, что его подчиненные не просто жертвы ДТП, а жестоко убиты. Но это ему пока знать не стоит. – Сейчас не это главное.
– Да, да, конечно. – Сторожихин будто очнулся и собрался.
– Итак, Артур Владимирович. Что у нас получается. В одиннадцать ноль-ноль ваш заместитель на служебной машине должен был отправиться на заседание в Первое главное управление Совета министров СССР, на котором должен был председательствовать сам товарищ Берия. Так?
– Именно так, – согласно закивал начальник лаборатории.
– Ему предстояло доложить по перспективам урановых разработок. С оценками, представляющими гостайну особой важности. Для чего взял с собой текст доклада.
– Только есть одно обстоятельство. Утром мне позвонили и уведомили, что товарища Берии не будет. Совещание скомканное, в урезанном составе и по общим вопросам. Основное намечается через неделю.
– Главный вопрос: доклад был у вашего зама с собой?
– Должен был. В общем-то… Если…
Мысли его теперь приобрели нужное направление, и он, сжав пудовые кулаки, уставился куда-то в окно.
– В этом сейчас и убедимся, – продолжил я. – Для начала вскроем сейф в кабинете Кушнира. Комиссионно.
– Да, конечно! – Начальник лаборатории снял трубку, набрал номер и теперь уже иным, властным, голосом произнес: – Гурий Никитич, зайдите.
Через минуту в кабинет аккуратно и интеллигентно постучали. Зашел мужчина среднего роста, крепкого телосложения, с правильными, даже красивыми чертами лица и пышной седой шевелюрой. В былые времена он наверняка разбивал хрустальные женские сердца. Был свободен в манерах, самоуверен, легко шел по жизненному пути. Теперь ему перевалило за сорок, и эти сорок были совсем нелегки – жизнь согнула его и обесцветила былой лоск. На его губах застыла угодливая и вместе с тем какая-то вызывающая улыбка. Улыбка человека, готового не только приспосабливаться, но время от времени и взбрыкнуть.
Кандидат наук, старший научный сотрудник «пятнашки» Бельш – я его, конечно, хорошо знал. Не только знал, но и тщательно изучил всю его подноготную. После некоторых событий у меня возник прямо непреодолимый интерес как к лаборатории, так и к ее работникам. Особенно если они с пятнами в биографии.
– Гурий Никитич. Собирайте комиссию по вскрытию кабинета и сейфа. По списку, – велел начальник лаборатории.
– Все уже на месте, – отозвался Бельш.
– Зови. Сейчас и приступим, – произнес начальник лаборатории совсем уж угрюмо.
Осторожно ступая, будто боясь разбудить кого, Бельш вышел из кабинета. Перед этим быстро, мимолетно окинув нас взором.
И я этот его взгляд поймал – был он опасливый и вместе с тем ненавидящий.
Комиссию собрали быстро. Начальник лаборатории. Главный режимник. Начальник канцелярии. Ну и где-то в стороне, как положено, не отсвечивая, ничего не подписывая, только присматривая, стоял Ваня Валеев – куратор объекта от МГБ.
Комиссия проникла в кабинет. Там врос в дубовый паркет огромный сейф, с узорчиками, выкрашенный в совершенно неподходящую для его солидности незамысловатую серебряную краску. Замок был обычный, без каких-либо шифров и хитростей, но ключ очень сложный. Насколько знаю, этот механизм никакая отмычка не возьмет – приходилось уже сталкиваться с австрийским дореволюционным качеством.
Представитель первого отдела достал тубус с запечатанными ключами. Заполнил акт, записывая все наши действия. Вскрыл тубус. И начал возиться с замком.
Ключ не проворачивался. Замок не поддавался. Напряжение росло, казалось, еще чуть-чуть – и грянет гроза. Сердце у меня колотилось уже около горла, готовясь выпрыгнуть наружу. Потому что от сакраментального «казнить или миловать» отделял один оборот ключа.
А ключ и не думал двигаться.
– Вы уверены, что ключ тот? – спросил я.
– А какой же еще! У нас все на месте. Как положено.
Ключ опять не двинулся. Режимник чертыхнулся. Надавил сильнее, рискуя его сломать.
– Дубликат, с ними такое случается, – растерянно протянул режимник.
Вот номер, если ключ не тот. Хотя в той чертовщине, которая уже давно творится на объекте, может быть что хочешь, и что не хочешь – особенно.
Режимник отчаянно, изо всех сил, крутанул ключ… И он провернулся. Со скрежетом замок поддался. А потом повернулась и ручка.
Завороженно все глядели на медленно открывающуюся дверцу сейфа. Будто там была бомба, которая прям сейчас взорвется.
Внутреннее пространство сейфа было забито достаточно плотно. Бумаги. Папки. Табельный наган – геологам он положен. Начальник геологической партии не только вооружен, но и отвечает за секретность – геологические изыскания засекречены. Так что от ворога обязан отстреливаться в любом случае. И, кстати, обязан был взять оружие с собой при перевозке совсекретного документа.
Старший лейтенант Валеев начал раскладывать папки. Какие-то текущие документы, финансовые расчеты. Все не то.
Весы с «миловать» резко качнулись в сторону «казнить». Ноги мои стали ватными, когда воображение услужливо подсунуло картинку кошмара, который начнется, если документ утрачен.
Если только доклад утерян… Если утерян… Стоп, надо брать себя в руки.
– Документ номер 505 сс, – ровным тоном произнес Валеев.
Все же «миловать». Не «пли», а пока что «отставить, ружья к ноге!».
– Доклад о состоянии горных работ по Проекту на 1 апреля 1952 года, – унылым голосом вещал старший лейтенант, но я представлял, насколько ему фигово. Еще хуже, чем мне. Потому что объект его, лично. И ответственность его, личная.
Я вытер пот со лба. Начальник лаборатории широко улыбнулся. И у режимника появилась на лице кривая и дурацкая улыбка, плюс к этому он нервно заколотил ладонью о кулак, похоже, не соображая, что делает.
Уф, все же нервная система – вещь хрупкая. Так и инфаркт имени миокарда когда-нибудь прихватит. Проще надо относиться к жизни и ее гримасам, спокойнее. Но не получается.
Если бы доклад достался врагам… Нет, небо на землю не рухнуло бы. Но приличный кусок стратегической информации оказался бы по ту сторону Атлантики. И противник получил бы некоторое преимущество в ядерной гонке. Потому как знал бы куда больше о наших планах и возможностях. А нам бы головы поснимали – и можно только надеяться, что в переносном, а не прямом смысле…
Глава 4
Двое лиходеев пребывали в оглоушенном состоянии. Собрались они в съемном частном деревенском доме в селе Тропарево в ближнем пригороде на западе от Москвы, где уже почти год хоронился Клещ. И обсуждали, как жить дальше и долго ли эта самая жизнь продлится при таких гнилых раскладах.
На столе гордо возвышалась стройная бутылка самогона. На газете, которую использовали вместо скатерти, лежала простенькая закуска – любительская колбаса с черствым хлебом.
Главная тема дискуссии – в какую же болотную тину их затащил горячо любимый пахан. Не, ну то, что с Дольщиком все непонятно, непросто и что он, скорее всего, завязан в шпионских делах, – это и раньше было ясно как божий день. И в принципе им было на это глубоко наплевать, хотя ситуация и будоражила кровь новизной и ощущением прямо-таки международного масштаба своей незаконной деятельности. Никаких добрых чувств к социалистическому отечеству два молодых уголовника не испытывали. Они относили себя к тем, для кого любое место на Земле – отечество, если только там можно что-то безнаказанно стащить, кого-то жестко нагнуть, сладко жрать и крепко спать на перине, при этом нигде не работая.
Но дела закручивались что-то слишком серьезные и рисковые. Да еще Клещ, на досуге и от скуки обновив свои познания в уголовном законодательстве, вычитал своими глазами, что за государственные преступления вернули смертную казнь. Слышал об этом и раньше, но его как-то это не интересовало. А вот теперь интересует. И даже очень интересует.
Этим соображением он поделился с Пятаком. Тот спросил:
– А что мы помогали документы воровать из машин и квартир – это государственное преступление?
– Добавь еще два трупа. Тут и бандитизм. И терроризм. И измена Родине, – мрачно перечислял Клещ. – Все в наличии.
– То есть Дольщик нас под вышку подвел, получается? – выпучил глаза Пятак.
Жертв, которых забил лично Дольщик своим страшным кастетом на той дороге, им жалко не было совершенно. Чего жалеть не пойми кого – так и жалости на всех не хватит. А вот теперь настала пора пожалеть самих себя.
– Подвел, – твердо сказал Клещ.
– Сука. – Пятак задумался. – Теперь уже не спрыгнем.
Самогончика они уже опрокинули, и в голове Клеща спиртовые пары поднимали наверх отчаянные идеи, толкали его на необдуманные решения.
– Кто не спрыгнет? Я? – выпятил он нижнюю губу.
– Дольщик нас на ремни порежет. И собакам скормит, – грустно и как-то покорно произнес Леха Пятак.
– Кого? Меня?! Да я сам кого хочешь скормлю!
Посидев немного и смотря в опустевший стакан, Клещ вдруг неожиданно резко поднялся со скамейки:
– Идешь со мной?
– Куда?
– На волю. В бега. Где он нас не найдет.
Пятак испуганно потряс головой:
– Да ты чего. Нет!
– Как знаешь! Так и будешь холопом. Машины угонять. В мокрухах подвизаться. Притом забесплатно. С последнего дела сколько взяли?
– Нисколько.
– О том и речь. Ну?
– Остаюсь!
– Эх, нюня ты, Пятак.
– Ты за базаром-то следи. И не обижайся, если тебя потом Дольщик кастетом упокоит.
– Все. Нет меня! – Клещ шагнул к двери.
Дверь неожиданно распахнулась, и он чуть не столкнулся лоб в лоб с Дольщиком, державшим в руке потертый портфель.
– Развлекаетесь, ребятишки? – привычно улыбаясь, спросил пахан.
– Поминаем убиенных, – буркнул Пятак. – И тоскуем, что забесплатно отработали.
– А ты, Клещ? – Дольщик внимательно посмотрел на своего помощника, от чего у того пот выступил на лбу. – Вижу, расстаться с нашей доброй компанией решил.
– И расстанусь! Все, валю! Линяю! Рву когти!
– Как говорят интеллигентные люди – только через твой труп, – не меняясь в лице, так же доброжелательно произнес Дольщик.
И тут Клещ не выдержал. Накипело у него. Рука нырнула в карман. И вот в ней пружинный американский нож с выкидным лезвием. Щелчок – лезвие выскочило из рукоятки.
Парень даже не стал махать ножом, угрожать. Просто сразу ударил Дольщика в живот. Насадить по задумке должен был так, что никакая реанимация не откачает.
Дольщик необычайно легко сдвинулся чуть вбок. И быстрым движением перехватил запястье противника. При этом из другой руки даже не выпустил свой портфель.
Он не стал выламывать и выкручивать Клещу руку. Просто давил так, что казалось, кости треснут. Уже и нож выпал. И Клещ плюхнулся на колени. Заскулил жалобно:
– Отпусти! Сломаешь же! Больно!
– Желание друга – закон. – Дольщик отпустил его.
Нагнулся. Поднял нож. Сложил его. И засунул в карман фартового пиджака с трудом поднявшегося на ноги и скулящего Клеща.
– Вот что, сынки. – Дольщик продолжал улыбаться. – Мы теперь семья. А из семьи просто так не уходят. Меня нет смысла убивать. Потому что даже если это удастся, то придут другие и убьют вас. И в назидание вырежут всех, кто вам еще дорог. Потому что мы не бирюльками тешимся. Мы в серьезной игре. Доходчиво объясняю?
Пятак закивал, а Клещ баюкал поврежденную руку и ничего не ответил. Ему было больно, страшно, неуютно. А еще он раньше не представлял, что Дольщик обладает такой чудовищной силой. По сравнению с ним даже Турок выглядел бы хиляком.
– Будем считать, что понятно. – Дольщик уселся за стол.
С видимым омерзением он посмотрел на мутный самогон дрянной очистки. Полез в портфель и вытащил бутылку «Московской», бумажный пакет с рыбными закусками.
– Отпразднуем. Поработали знатно. Хотя результат не тот, на который рассчитывали. – В его голосе прорезались злые нотки и тут же исчезли. – Но ваших заслуг это не умаляет.
Он снова полез в портфель. Вытащил оттуда две пачки крупных купюр и бросил перед парнями на стол со словами:
– Зарплата. Сдельная. По высшему тарифу.
Пятак, дурные мысли которого в момент улетучились, схватил деньги и заворковал:
– Вот спасибо. Уважил…
Клещ тоже забыл о больной руке и потянулся к пачке.
– Ну вот и хорошо, ребятишки. – Дольщик начал колдовать над бутылкой водки. – Больше не ссоримся. И ударно трудимся. А дел у нас припасено на многие годы вперед…
Глава 5
Завхоз «пятнашки» Волынчук залез в свой письменный стол и вытащил пухлую амбарную книгу. Следом извлек толстую папку с завязками, плотно набитую бумагами.
– Вот, – как купец, показывающий товар лицом, самодовольно изрек он. – Заявки на машины. Табель. Все учтено. Это в аптеке могут быть неточности, а у нас не забалуешь.
Ему еще не было и сорока, но худое лицо густо покрывали морщины, особо резко пройдясь по лбу. Был он высок, ростом почти с начальника лаборатории, но худ, жилист, коричневый костюм на нем сидел как-то не слишком ладно – ему бы больше подошли бушлат или телогрейка. Уверенный, знающий свое дело специалист. И не было в его глазах того неистребимого огонька жульничества, который испокон веков горит у интендантов и хозяйственников. Порядок на вверенном ему участке он поддерживал идеальный, как боцман на корабле, – все выкрашено, на своих местах. Гонял подчиненных без устали, доставалось от него даже руководству. В общем, человек на своем месте.
Пролистнув бумаги, я спросил:
– А чего такую хилую машину начальству дал?
– Да знай я, как дело обернется, я бы с танкистами в соседней части договорился и его бы на танке везли! Эх, Вадим Савельевич, как же он так. – Волынчук горестно вздохнул.
Насколько я знал, еще до войны Волынчук был у невинно убиенного Кушнира в геологических партиях. Шоферил, потом и завхозом работал, и мастером. Война их раскидала, но после Победы нашли друг друга. Можно сказать, товарищи. И вот…
– Да и водитель Максимка – шалопай, но ответственный, когда надо. Машину в прекрасном состоянии держал, – продолжил сокрушаться завхоз.
– Жизнь – штука суровая. А смерть – так вообще беспощадная.
– Верно. Сколько раз так было. Люди, люди, люди. Хорошие люди. Друзья, родственники. Они уходят. Или осколок, или вражья пуля, или болезнь настигнет. А ты живешь и только список потерь ведешь. Что-то в этом есть неправильное.
Мне его настрой совершенно не нравился. Разнылся, когда так нужен. И я резко кинул:
– Что, завидно? Тоже на тот свет собрался?
– Да не про то я, товарищ майор. Не про то.
– Понятно. Душа болит… Лучше бы она у тебя болела в связи с тем, что под носом у тебя творится. Ты знаешь, это ведь не дорожное происшествие было.
– А что? – недоумевающе посмотрел на меня Волынчук.
– Вашу эмку вынесла с шоссе другая машина. А пассажиров добили чем-то тяжелым.
– Вот, значит, как, – протянул ошарашенно завхоз и еще сильнее понурил плечи, согнувшись под тяжестью страшного известия.
– Где твои глаза и уши были, Евгений Гаврилович? Просмотрел врага!
Я имел все основания спрашивать с него. Потому что помимо того, что он был завхозом, он также являлся и осведомителем нашей организации. Был на связи у куратора объекта Валеева. Но после заведения агентурного дела «Плотина» я его взял себе на параллельную связь – имею право как представитель вышестоящего органа.
Кто бы что ни говорил, а основное противостояние двух мировых систем – капиталистической и социалистической, – сейчас происходит вокруг атома. Атом – это вопрос выживания. Ныне у США около тысячи боеголовок против наших полусотни, да еще оголтелые маккартисты неустанно подзуживают военных и президента ударить всеми запасами по России, пока ей ответить нечем. Каждый год американцы разрабатывают планы ядерной атаки на нас, и руки у них чешутся. И они вполне могут разровнять наши города под фонящие радиоактивные пустыни.
В чем спасение? У нас должно быть бомб и средств доставки не меньше. Взаимное гарантированное уничтожение – ключ к миру.
И тут один из основных камней преткновения – сырье. Уран. Залежи. Высокотехнологичная переработка урана двести тридцать восьмого в двести тридцать пятый. Больше урана – больше боеголовок. Прочнее мир во всем мире.
Работали у нас горно-химические и обогатительные комбинаты в Средней Азии и некоторых других регионах. В ГДР добывали сырье предприятия совместного российско-германского акционерного общества «Висмут».
Уран стал первоочередной задачей при геологоразведках. Готовились в вузах специалисты, создавалась необходимая аппаратура. Работали сотни экспедиций. Если в 1945 году мы добыли лишь пятнадцать тонн урана, то в прошлом, 1951-м, – уже более двух тысяч. И все равно ядерного сырья нам катастрофически не хватало. На перспективные геологоразведочные миссии возлагались самые серьезные надежды. Неудивительно, что геологи находились в центре внимания разведок.
Мяч в разведывательных играх на ядерном поле постоянно был то на одной стороне, то на другой. И пока что по очкам мы хорошо так обыгрывали Запад. Были наши люди в самой сердцевине их ядерного проекта. Полученная информация помогла избежать тупиковых путей, на которые тратились время и средства.
У врага успехи были поскромнее. Только недавно им удалось расшифровать местоположение закрытого города Вийск-13 – нашего ядерного оплота. Но большинство объектов они не знали. Хотя и достижения у них имелись. Вон, внедрили свою агентуру во вторую лабораторию, чуть не рванули экспериментальную установку. Два года назад накрыли эту сеть при моем самом активном участии.
На этот раз объектом оперативного проникновения стала «пятнашка» – это наш, можно сказать, аналитический центр по урановым геологическим изысканиям.
Некоторое время назад внешняя разведка обратила внимание на то, что к противнику потекла информация по нашей урановой геологоразведке. Притом информация фрагментарная и несистемная, что исключало причастность к утечке специалистов высокого звена. Но информация текла. И текла она, как мы прикинули, именно из «пятнашки».
Тогда и было заведено дело «Плотина». Задействованы все агентурные возможности – а их в Проекте было до черта, чуть ли не каждый был готов сотрудничать с органами и в любой форме. Волынчук считался вдумчивым и полезным информатором, уже зарекомендовавшим себя по конкретным делам.
В общем, мы просеивали персонал «пятнашки», брали под колпак наиболее подозрительных личностей. Помощь от завхоза в этом была немалая – он знал об объекте и людях все и обладал хорошим и наметанным глазом. Но только вот воз и ныне там.
Между тем, как утверждали разведчики, ручеек той самой информации по урану потихоньку иссякал. И мы поуспокоились, решили, что, может быть, и нет агента на «пятнашке», а сведения получены каким-то другим путем. Тоже, конечно, хорошего мало, но уже не так остро все.
И вдруг пожалуйста. Нам нанесен удар. Притом с размаху. Сокрушительный. Не считаясь ни с чем.
Похоже, где-то за рубежом посчитали, что овчинка стоит выделки, или им необходима была срочно эта информация. Поэтому и пустились во все тяжкие, организовав нападение с целью завладения документом. Плюсов полно – добывается стратегическая информация в скомпонованном виде. Убирается одна из серьезных фигур Проекта – а Кушнир был такой фигурой. Для этого не жалко подставить под удар свой источник в лаборатории. А то и вовсе рассчитывали после акции вывести агента из игры.
– Ну, не с меня одного спросят. – Оправившись от смятения, Волынчук расправил плечи, насупился и бросил на меня колкий взгляд.
– Точно, – кивнул я. – И мы прошляпили, и ты. И что?
– Да ничего. Виноват… Что же теперь будет, Иван Пантелеевич?
– Все то же, что и было. Будем работать, Гаврилыч. Ты ж опытный, хитрый и умный, как змей. Встряхнись! Узнавай, вспоминай. Кто интересовался этой поездкой? Кто интересовался докладом? Кто знал, что Кушнир поедет с бумагами? Кто выглядел напряженно? И машина, что вашу эмку снесла, – она зеленая, видимо, массивная. И должна была крутиться поблизости. Тоже поспрашивай, поищи. Ну не мне тебя, нашего старого и заслуженного негласного сотрудника, учить.
Волынчук пожал плечами, но я видел, что как-то неуверенно. Похоже, хотел что-то сказать, но сомневался.
– Ну, говори! – подстегнул я его.
– Пока не знаю. Есть наметки. Прикинуть требуется. Через пару дней списочек подозреваемых дам. Кое-что проверить нужно. Пока у меня так, одни эмоции.
– Кстати, про эти самые эмоции. Скажи-ка, чего это ваш Бельш на меня волком глядит?
– Так он из этих… Из обиженных советской властью, – хмыкнул завхоз. – Отсидел еще до войны. Притом за дело. Но всерьез считает себя невинно пострадавшим. Прямо сказать об этом боится. Крутит хвостом. Заискивает. А втихаря волком глядит.
– Ты к нему повнимательнее присмотрись.
– Уже присматриваюсь. Тем более он сейчас исполнять обязанности заместителя будет. Карьера, елы-палы, у антисоветчика!
– Если что-то прояснится, срочно мне – минуя куратора, – велел я. – Понял?
– Да чего не понять…
Глава 6
Лебедка с зубовным скрежетом заработала. Грузовая аварийная машина напряглась, ее упоры стали вдавливаться в почву.
Сперва казалось, что ничего не выйдет. Но аварийка устояла. Трос не лопнул. Двигатель не заглох. И мерно, неторопливо из воды поползла металлическая масса.
Наша находка сейчас напоминала реликтового громадного ящера, поднимавшегося из глубины и сбрасывающего со спины воду.
Мотор аварийки все же заглох, что-то в лебедке щелкнуло и сорвалось. Туша скатилась обратно и опять булькнула.
– Ну что вы за долбаные бракоделы! – заорал что есть силы Дядя Степа. – Давай, тащи снова, раздолбай!
Аварийщик умудрился заново завести мотор. Задвигал рычагами. Опять натужно заскрипело, загремело.
И вот уже то, что мы искали, на берегу. Зеленый, как и ожидали, помятый предмет преступления на колесах.
– Это что за зверь? – спросил я.
– Представительский «Опель», – пояснил Дядя Степа, ласково похлопывая машину по металлическому корпусу. – Угнан неделю назад прям на Кузнецком мосту. Возил руководство Союза художников. Мы его уже примеряли к нашему делу.
– Судя по помятостям – это то, что искали, – приценился я. – Вражий инструмент.
– Да к гадалке не ходи. Он самый, – согласился Дядя Степа.
– Редкая модель. Любят диверсанты с ветерком прокатиться.
– Да сколько этих иномарок уже угоняли, – отмахнулся Дядя Степа. – И пороскошнее были.
До сих пор немецких машин вокруг пруд пруди. По окончании войны в Союз из Германии было перегнано более ста тысяч трофейных «мерседесов», БМВ, «Майбахов», «Хорьхов» и вот таких «Опелей». И большинство из них до сих пор на ходу.
Находкой занялся эксперт-криминалист. Но на него надежды было мало – черта с два обнаружишь значимые следы в машине, четыре дня пролежавшей на дне залитого водой оврага.
В первые дни после происшествия была организована активная проверка ремонтных мастерских, проводились опросы гаишников, водителей, следовавших по трассе. Результата никакого. Что за машина врезалась в эмку – тоже непонятно. Только что зеленого цвета – это по следам видно было.
Помогли делу вездесущие пацаны, которых вечно тянет туда, где запрещено. Например, в Апанасьевский каньон – это такое место добычи необходимого для московского строительства камня. Правда, он был выработан, залит водой и заброшен еще в тридцатые годы. И теперь место считалось дурное. Там одно время собирался всякий антиобщественный элемент. А после войны остались сюрпризы вроде неразорвавшихся снарядов и бомб.
Детям туда ходить запрещали под страхом страшных кар. Именно поэтому дети и ходили туда с огромным удовольствием – летом купались, ныряли. В другое время года просто шастали в надежде поживиться чем-нибудь вроде снаряда или гранаты, а потом рассказывали пацанам о своей невероятной смелости и о том, какие опасности и чудеса их там подстерегали на каждом шагу.
На этот раз их действительно поджидал просто огромных размеров сюрприз. Даже сюрпризище, о котором долго будут судачить в окрестностях. Бросая булыжники в воду – кто дальше зашвырнет, – пацаны рассмотрели в водной мути какую-то массу. Купаться в апреле было явно рановато, но героически вызвался один смельчак, особо отважный и умелый, которому страшно хотелось прослыть героем. Нырнул. Обнаружил машину. И даже не подхватил простуду.
– Концы по этому угону есть? – спросил я.
– Да никаких. Чисто так увели. Никто и не заметил. Ну что, Костя? – Дядя Степа обернулся к эксперту из научно-технического отдела Управления московской милиции, колдующему у машины. Он был мне уже знаком по осмотру злосчастной эмки.
– Повреждения на первый взгляд соответствуют механизму ДТП на шоссе. Да и краска похожая, – сообщил эксперт.
– То есть машину мы нашли, – удовлетворенно кивнул Дядя Степа.
– Теперь дело за малым – найти водителя, – продолжил я, и капитан тут же погрустнел.
Понятное дело, после пребывания в воде не нашлось ни отпечатков пальцев, ни следов. Ни поисково-значимых предметов. Ничего. Машина была просто инструментом – его использовали и выбросили.
– Получается, работает боевая разведывательно-диверсионная группа зарубежной разведки, – постановил Дядя Степа. – Тебе и флаг в руки, товарищ майор госбезопасности.
– Или враг своими руками все делает. Или использует уже сложившиеся воровские шайки. Так что за древко флага и тебе подержаться придется.
– А, все это фантазии, – отмахнулся Дядя Степа.
– Ладно, чего спорить. Лучше скажи, сыскарь, как будем искать тех, кто машину утопил?
– Машину они бросили. Должны были как-то добираться до цивилизованных мест. Или у них лежбище рядом.
– Отлично. Вот и работайте. Ты не подведешь, я это точно знаю, – похлопал я товарища по плечу.
– Ага. Благодарю за доверие, – кисло произнес Дядя Степа. – Хорошо тебе. Белые перчатки не испачкаешь. Каблуки не стопчешь. Легкость бытия восхитительная.
– Уж на что учились…
Ладно, балагурить с Дядей Степой можно до бесконечности – он тут великий мастер. Но пора бы и определяться, куда двигаться в расследовании. Честно говоря, я вообще пока слабо представлял, с какого конца взяться за раскрутку.
Но концы появятся. Они всегда появляются.
И сейчас появились.
Но сперва было партийное собрание…
Глава 7
Дохлое дело оправдываться перед товарищами по партии, когда они собрались на заседание парткома и преисполнены партийной суровости, непримиримости и верности идеалам. Даже лица становятся другие – будто высеченные из гранита и совершенно чужие. И как бы уже и не откушивали мы вместе по стаканчику вина, и не обсуждали достоинства разных красавиц и особенности взаимодействия с ними.
И стоишь напротив этой аллеи твердокаменных сфинксов, устроившихся рядком за столом президиума, и думаешь лишь о том, как дать нужный ответ на их загадки, иначе раздавят и не поморщатся.
– Итак, все же поясните нам, почему вы бросили семью? – сурово нахмурился наш парторг.
За это его и ценят – очень уж сурово умеет хмуриться. В изгибе его бровей вся история ВКП(б) и все пункты устава партии.
Слава богу, по службе мы с ним не сталкивались. Только по партсобраниям. Не думаю, что этот человек способен на толковую чекистскую работу. Его другое интересует.
– Это семья меня бросила, – ответил я на автомате, забыв вовремя прикусить язык.
– Вы не ерничайте перед соратниками по партии, товарищ Шипов. По существу вопроса отвечайте.
Ну я и начал плести словесные кружева. Мол, делал все, чтобы сохранить ячейку социалистического общества – семью. Однако жена полюбила другого и уехала с ним в Ленинград. Прихватив дочку. А сфинксы в ответ только сурово кивали и задавали совсем уж тупые вопросы типа – куда я смотрел, почему не предусмотрел и вообще зачем такую жену выбрал, когда мог найти верного товарища по партии.
Господи, когда брали немецкий самолет с бандой диверсантов в украинских лесах, мне как-то спокойнее было. Ну стреляют в меня, ну взрывается все вокруг. Ну пули свинцовые свистят. Это мелочи. Словесные пули порой жалят куда острее. И уворачиваться от них тяжелее.
Как же хотелось сказать: если женщина поперла в дурь, дала волю романтическим чувствам, а потом и меркантильному расчету, то нет на свете силы, которая ее способна образумить. Потому что у нее ЛЮБОВЬ. И в придачу пятикомнатная профессорская квартира в Ленинграде. И муж всегда под боком, а не беззаботно прожигает жизнь в засадах и командировках. Такой домашний уютный пудель у нее теперь вместо облезлого клыкастого волкодава.
Раскол у нас с Анютой наметился давно. Были от нее и претензии. И истерики. И ощущал я, что она часто врет, недоговаривает и вообще себе на уме. Но, понятное дело, погружаться в это у меня возможностей не было. Как ни крути, моей семьей, забиравшей все силы и время, стал Проект.
Однажды оставила она мне милую записочку – мол, не жди. Мы разные люди. Я нашла свою любовь. На развод подам.
Ну и подала. Теперь ее новый избранник – известный профессор-биохимик из Ленинграда. Как-то нашли они друг друга. И уже муж и жена. Ну и счастья им и согласия. Вот только партком почему-то не желал счастья ни мне, ни ей. Он желал проработки и принципиальности.
Самое интересное, во мне не было ни грамма переживаний типа жена бросила, теперь один-одинешенек, ребенок в другом городе растет. Наоборот, стало куда легче. Ощущал освобождение. Теперь есть только я. Только работа. И еще часы одиночества, когда время замедляется и ты открыт постижению широты пространств, звезд, Вселенной. Ну да, люблю смотреть на небо и ощущать несоответствие наших кратковременной суеты и Вечности. Такой я нетипичный чекист.
Вообще волк я одиночка. И моя жизнь – охота. Только вот Настюшки не хватает – ее смеха, наивности, ее радостных или печальных глаз. Но Анна вроде не настроена восстанавливать против меня ребенка, хотя и ощущает себя обиженной. Ее послушать, так это я ее бросил – хорошо, нашелся добрый человек и поддержал в трудную минуту. Обогрел. Приютил. Кольцо золотое подарил, обручальное.
Между тем проработка шла по замкнутому кругу. С таким напором лучше бы показания у шпионов и бандитов выбивали. «И почему вы не остановили жену, не воспитали?»
– Коммунист, который не может разобраться с женой, как будет разбираться с государственными делами, – поддакнул один из идейных сфинксов.
Тут уж не выдержал мой начальник, сейчас тоже игравший роль сфинкса в президиуме:
– Шипов хорошо разбирается с государственными делами. А что на семейном фронте провал – так партия ему на вид поставит.
Спасибо, жениться заново хоть не обязали. И хорошо еще квартиру оставили, хотя слишком шикарно – я как бы один ныне.
Вообще, глядя на эту театральную постановку, я вдруг подумал: до добра все это не доведет. С каждым годом партсобрания из встреч борцов и единомышленников становятся эдакими площадками формализма и фарисейства. И эти проработки вечные. Сами выдумали себе эталон верного ленинца, который не пьет, не курит, не гуляет, без вредных привычек, говорит лозунгами. И которого в природе не существует и существовать не может. Лезут в личную жизнь, поучают со всем накалом идиотизма. Конечно, с аморалкой надо бороться, потому что иначе она затопит все, как уже бывало в первые годы советской власти. Но надо и меру знать. И так во всем. Когда разрыв между взятыми с потолка абстрактными эталонами и жизнью станет слишком широким, нас ждут большие потрясения. Но ведь не объяснишь никому – тут же станешь неблагонадежным, лишишься партбилета, а затем и работы.
Интересно, а парторг себя осуждает, когда в нашем подмосковном доме отдыха с секретаршей шуры-муры крутит? Епитимью на себя наложил типа пятикратного прочтения вслух «Капитала»?
Ох, чего-то заносит меня. Пусть даже и в мыслях.
Ладно, будем играть в театр. Так что я в очередной раз слезно покаялся. И мне даже не стали объявлять выговор. Как и просил начальник – поставили на вид.
А полковнику Белякову спасибо. Не ожидал таких добрых слов от него. Обычно он меня другими словами песочит…
Дополз до кабинета в нашем Особняке выжатый как лимон. И поймал сочувствующий взгляд моего верного помощника и единственного подчиненного капитана Добрынина.
Тот по привычке проводил обеденный перерыв с толком. Жевал бутерброд с сыром, запивая крепким чаем из китайского термоса. И выискивал в газете «Московская правда», на какой спектакль ему сходить. Разрывался между Театром-студией киноактера с вечером тех самых киноактеров и Театром Советской армии с его «Незабываемым 1919 годом». Как всегда, это занятие было безнадежное, поскольку как только он, завзятый театрал, уже созревал до того, чтобы достать билет, непременно что-то случалось и его куда-то по службе засылали. Вот и сейчас он еще не знал, что начальник решил его на выходные отправить на природу – в Калужскую область, деревню Пяткино. Там был наш новый объект оперативного прикрытия, которому суждено прогреметь со временем на весь подлунный мир.
Оторвавшись от газеты, Добрынин изучающе посмотрел на меня и полюбопытствовал:
– Проработали?
– Как асфальтоукладчиком раскатали. Ощущения, скажу тебе, специфические.
– Мне-то можешь не рассказывать.
Его тоже раскатывали – даже за дело, учитывая его чрезмерную любвеобильность.
Я посмотрел на часы. Половины рабочего дня как не бывало. Не хватает ни времени, ни народа. У нас вечный цейтнот. То эта чертова новая шпионско-диверсионная группа. То контрразведывательное обеспечение новых, совершенно фантастических объектов Проекта. И полдня потратить попусту – это просто непозволительное расточительство.
На моем столе, покрытом зеленым сукном, зазвонил черный эбонитовый телефон.
– Товарищ майор! – В тяжелой трубке послышался радостный голос Дяди Степы. – Сильно занят?
– Терпимо.
– Отлично. А то тут тебя уже заждались!
– Где тут?
– В морге!..
Глава 8
Кабинет походил бы на обычное помещение в стандартом медицинском учреждении. Белые шкафчики с инструментами. Полки с папками, бюро с ящичками картотеки. На столе пачка документов и пишущая машинка марки «Ундервуд». Вот только портила в целом нейтральное впечатление коллекция прозрачных сосудов, где плавали в формалине различные человеческие органы.
В этом медицинском учреждении никого не лечили. Здесь вскрывали трупы и давали заключения о причинах смерти. И что самое худшее в подобных местах – здесь витал совершенно непередаваемый мерзкий запах химикатов и разложения.
Здесь я застал уютно устроившихся за металлическим столом Дядю Степу и судебного медика. Интерьеры и запах их не удручали. Эти двое лыбились и травили какие-то веселые истории – кто кого как изощренно прикончил и кого с какими смешными неожиданностями вскрывали.
Судебный медик был эталонным. Даже через сильные очки глаза его метали в окружающую среду заряды мрачного цинизма. Сколько я их видел – большинство вот такие циники, напоминающие прожженных автомехаников, занимающихся разборкой автотранспорта. Что-то открутить, прикрутить, выдать умозаключение, почему колеса отвалились и что с этим делать. Только разбирали они поступившие человеческие тела с телесными повреждениями.
Встретили меня в этой скорбной обители вполне доброжелательно. Медик тут же свое расположение подтвердил журчанием по мензуркам медицинского спирта, скромно именуемого «медицинским вином». Судя по румянцу на щеках Дяди Степы, мензурка была не первая.
– Ну, за встречу! И чтобы нам всем быть над прозекторским столом, а не на нем, – поднял мензурку Дядя Степа. Опрокинул в себя разом содержимое. Крякнул, занюхав рукавом. Глаза его заслезились.
– Вот сколько пью ее, горькую, столько радуюсь, – философски произнес медик, разделавшийся со своей порцией, и подозрительно покосился на меня. – А ты что, гость дорогой? И не приобщишься?
– Начальство с Лубянки. Ему положено быть трезвым и строгим, – немного растягивая слова, протянул Дядя Степа.
– А-а, – подозрительно и разочарованно протянул медик.
– Да я не против, друзья. Я даже всей душой, – примирительно произнес я и усмехнулся про себя, представив, как бы меня чихвостили на парткоме за такое действо: «Роняя гордое звание коммуниста, участвовал в распитии неразбавленного спирта, не предпринял мер, чтобы остановить зарвавшихся расхитителей важного государственного резерва». – Но здоровье не позволяет.
– А зря. Кто спирт из мензурки не пил – тот жизни не видел, – изрек важно медик.
– И смерти. – Дядя Степа кивнул на пачку заключений по вскрытиям.
Ну, в общем, процедура знакомства пройдена. Дядя Степа здесь свой в доску. А я с этим экспертом не сталкивался. Но по прихваткам оценил – нормальный такой эксперт. И спирту хряпнет, и добротную, исчерпывающую экспертизу проведет, и следствие на верный путь направит.
Собственно, последним он и занялся – указал дорогу расследованию. На пальцах объяснил, что били бедолаг из «пятнашки» наверняка кастетом. Притом не простым, а с восьмиконечной звездой на ударной поверхности.
– Ты уверен? – спросил я.
– Ха, – презрительно хмыкнул медик. – Я еще уверен и в том, что раньше вскрывал труп с такой же меткой.
– Кого? – напрягся я.
– А вот это будем вспоминать.
Судмедэксперт вытащил из стола толстую тетрадь. Потом перелистывал страницы, водил по ним пальцем, что-то нашептывал, как алхимик, читающий заклинания.
– О! – воскликнул он и направился к картотеке. Повозился в ящиках. И вытащил на свет божий копию заключения СМЭ. – Вот оно. Полтора года прошло. Постановление следователя прокуратуры Дзержинского района. Убийство. Неопознанный труп.
– Гарантируешь, что это то же самое орудие убийства? – Я потянулся за заключением.
– Кто же гарантии вашей организации дает. – Развязность и расслабленность в тоне медика тут же улетучились. – Так, предполагаю…
Глава 9
Строй именовался таковым формально. На деле это была просто разухабистая толпа, которую только оружие в руках сосредоточенных суровых конвоиров сдерживало от того, чтобы разбрестись по зоне или дать деру.
Пиетета у собравшегося здесь не по своей воле спецконтингента к тюремному начальству не было никакого. Наоборот, все сплошь издевательские смешки, язвительные замечания, бодрящий матерок. Вовремя подкинутая колкость в отношении вохровцев, именовавшихся не иначе как вертухаями, и представителей администрации находила горячий отклик в толпе и сопровождалась дружным ржачем.
На территории отдаленной зоны в солнечном Магадане собрали в строй самых отпетых и непокорных заключенных, задававших тон в лагерной среде.
– Хозяин, а кормить нас будут? За то, что тут без толку топчемся, дополнительная пайка положена!
Статный, с прямой выправкой, туго перепоясанный ремнями «хозяин» – начальник этой зоны, – стоял перед толпой и насмешливо наблюдал за ней. Привык он к выбрыкам и «концертам» блатных, к их неуправляемости. Привык и к тому, что государство долго цацкалось с этими отбросами общества. Сперва их считали жертвами царского режима, социально близкими к пролетариату, которым только покажи свет коммунизма, и они дружно ринутся туда, теряя тапки и оттаптывая пятки впереди идущим. Потом перевели в ранг заблудших овец, которых просто необходимо перевоспитывать и опять-таки показать свет коммунизма.
Начальник зоны знал, какая это чепуха и демагогия. Не заблудшие овцы здесь собрались, а мерзкие шакалы. Притом шакалы, чуждые советскому народу по всем показателям. Советскую власть для вора ненавидеть – это святое. Будь воля «хозяина», вся эта шушера давно бы улеглась на отдых в сырой земле. Но нельзя. Надо перевоспитывать. Трудом.
Вот с трудом и вышла главная заковырка. Страна строилась. Страна обновлялась. Страна, как говорил товарищ Сталин, за считаные годы должна была преодолеть разрыв с Западом в сотню лет. Новые предприятия, колхозы. Целые отрасли промышленности появлялись. Трудовой героизм, в том числе и на больших стройках, был вовсе не пропагандистской выдумкой, а реальностью. Каждый гражданин Страны Советов должен был внести свой вклад, приложить все силы в построение справедливого и мощного государства. А эти…
Главная заповедь вора в тюрьме – работать он не должен. Работают мужики. А вор в тюрьме должен отдыхать, ибо она ему дом родной. Притом наплодилось этих воров в законе, словечко-то какое придумали, огромное количество. Короновали их направо и налево. Воруешь, общак пополняешь – надевай корону.
Эта шушера наглеет ровно до той степени, до которой ей позволяют наглеть. А ей почему-то позволяли немало. Воры открыто, принародно отказывались работать. И вот уже решили, что именно им определять, как в их доме-тюрьме мебель должна стоять и кто как жить должен. Кончилось тем, что воровская община начала заявлять о себе со всей силой, дезорганизуя производство, выторговывая себе преференции и занимаясь саботажем. И откровенно заявляя, что они борются таким образом с Совдепией – иначе они СССР и не именовали.
Предупреждениям они не внимали. Трудом свою вину не искупали. И вот терпение руководства ГУЛАГа лопнуло. Середина тридцатых годов – время было жесткое, и вопросы решались кардинально.
В один прекрасный день наиболее неугомонных воровских авторитетов свезли в этот лагерь. Все было чин чинарем – большая площадка, вышки с пулеметчиками. И даже оркестр в стороне стоял. На тот случай, как полагали воры, если «бродяг» удастся уломать на что-то, ну, там, дать обещание, что они будут способствовать строительству социализма. Еще бы столы с выпивкой и деликатесами расставили – и можно так жить.
Вышел перед строем большой начальник из Управления лагерей. Долгие разговоры говорить не стал, никого за советскую власть не агитировал, просто предельно сухим официальным тоном осведомился:
– Кто хочет ударным трудом искупить свои преступления перед трудовым народом?
Ударным трудом – это значит сложить с себя воровской сан и перейти в ранг мужиков. Вор не работает. Вор ворует и мужиками командует, преимущественно с целью их обобрать. Так что в ответ большой начальник услышал лишь язвительные шуточки, гогот.
– Что, никто себя не считает гражданином СССР? – с насмешкой спросил большой начальник.
И тут Турок, атлетически сложенный воришка, молодой, да из ранних, решительно шагнул вперед.
– Я!
– Фамилия?
– Заключенный Миннигулов Станислав Дамирович, статья 167, разбой, три года лишения свободы.
– Отойдите в сторону.
Турок, не оглядываясь и пропуская мимо ушей ругань и угрозы, направился в сторону. Единственно, на что оглянулся, так это на оркестр. Если бы не оркестр этот, то из строя он бы не вышел. Но почему-то именно эти духовые инструменты до дрожи нервировали его и напоминали жерла пушек, готовых в любую минуту заиграть траурный марш залпами шрапнели. И он всей шкурой ощущал, что добром дело не кончится. Что надо спасать себя, пусть и наплевав на все, в том числе на пресловутый воровской закон и верность ему.
– Есть еще кто? – спросил начальник.
– Ну я. Поработаем на благо Родины, – ушлый пожилой вор Кумыс шагнул вперед, спиной поймав изумленные и прожигающие взоры сотоварищей. Ладно молодой и глупый Турок. Но от матерого Кумыса такого никто не ожидал.
Кумыс и был пожилым, потому что у него всегда была чуйка. Большинство его корешей скончались молодыми, в какой-то момент приняв всего лишь одно неверное решение. Достаточно разок оступиться – и все, пишите некролог и роняйте слезы. Кумыс не оступился ни разу.
Несколько человек тоже почуяли, куда дело идет, плюнули на все свои воровские регалии и вышли из строя, объявив, что согласны толкать тачки и махать кайлом.
А потом заиграл оркестр. Бодрый такой марш. В унисон ему забарабанили два пулемета на вышках.
Отказавшиеся от щедрого предложения стать честными строителями социализма зэки падали как подкошенные в весеннюю жирную грязь, чтобы уже не подняться. Кто-то пытался кричать, что на все согласен! Будет работать! Но их уже не слушали. Выбор был сделан. А теперь оставалось доделать дело.
После этого концерта, отдавшегося по всему ГУЛАГу в каждом зэке волной ледяного ужаса, больше массовых попыток саботажа не было. А отдельные эксцессы подавлялись достаточно жестко.
С ворами перестали цацкаться. По указанию наркома внутренних дел Ежова в отношении воровского сообщества активно стали работать тройки. По некоторым данным, по их приговорам в тридцатых годах было расстреляно до тридцати тысяч закоренелых воровских авторитетов.
И ГУЛАГ занялся тем, чем и должен, – строить каналы и дороги, давать стране золото, двигать вперед индустриализацию.
Воровской сан Турку и всем, кто выжил после концерта, оставили. Порешили на сходняках, что другого выхода не было. Воровская среда поняла, что надо трансформироваться и подстраиваться под новую жесткую действительность.
Воры выжили. Они сменили тактику. Затаились. Поняли, что в открытом противостоянии с советской властью и правоохранительными органами им не светит ничего, а потому ушли в тень. Заняли в ГУЛАГе такую нишу, которая устраивала и их, и администрацию. Помогали давать план – это был фетиш для ГУЛАГа. План – это означало, что хоть как-то использовались отбросы общества. И не важно, что там творится внутри лагерей. Давай план. Не занимайся саботажем. Ну а если друг друга попишете ненароком – такова ваша судьбинушка неказистая.
- Двадцать лет трудовых лагерей,
- И в подарок рабочему классу
- Там, где были тропинки зверей,
- Мы проложим Колымскую трассу…
И прокладывали.
А у Турка после того концерта воровская судьба делала удивительные кульбиты. Очень разносторонний получился вор. И гопничал, и карманками занимался. И квартирами. Иногда имел большие деньги, гулял на все, лил шампанское рекой. Потом садился. Бежал. Воровал. Опять садился.
Ему всегда везло. Он просто всем своим существом чуял, когда приходило время смыться. И умел это делать мастерски.
Бегут с лесной зоны впятером. Двое мерзнут насмерть в тайге, еще двоих местное северное население подстреливает и тащит на зону – тогда давали прекрасные премиальные за каждого убитого бегунка. А Турок жив, здоров, опять подламывает магазины в Москве или Казани. И гуляет на все.
Правда, с годами гулял все меньше и старался не отсвечивать. И еще стал до безобразия жаден и складывал деньги в секретную кубышку, до конца не понимая, что с ними будет делать дальше, – но сам процесс накопления его полностью поглотил.
После последнего побега из лесной колонии в Свердловской области в 1947 году следы его терялись. И вот он найден с проломленной башкой. Установили личность по дактокарте через учеты МВД.
Чем занимался после побега? Как дошел до того, что ему влупили в лоб кастетом с восьмиконечной звездой? И чем он перебежал дорогу иностранной разведке? А что его отправил к праотцам какой-то шустрый иностранный диверсант – у меня почти не было сомнений.
Крошечный кабинет на втором, и последнем, этаже здания Управления милиции на Петровке, 38, полностью принадлежал Дяде Степе, что было невероятной роскошью. Старые Петровские казармы, где раньше располагались жандармы, а после революции обустроилась московская милиция, сегодня стали слишком тесны. Здесь катастрофически не хватало места, и шли разговоры о том, что есть проект надстроить еще четыре этажа. Но так или иначе отдельный закуток у нас был. И мы там могли спокойно и со всей дотошностью изучать разыскное дело на Миннигулова, которое достали из архива МВД.
Желтые листы. Текст, написанный от руки, отпечатанный на бумаге. Листовка для стенда «Их разыскивает милиция» с протокольной мордой беглеца. Справки о проделанной работе. И, что самое существенное, – список выявленных связей.
– Во! – Дядя Степа хлопнул по делу ладонью. – Блатной мир – как деревня. Обязательно найдешь знакомую рожу, куда ни сунься.
– И что за рожа?
– Ну, точнее, интеллигентное светлое лицо. Глюкштейн Моисей Абрамович, кличка Махер.
– Как-то неприлично звучит.
– Это не то, что ты подумал, а сокращенное от Гешефтмахер. Старый добрый еврей, уже на пенсию пора. Сколько срок мотал – и сам не считал, но всегда по маленькому. Хотя, говорят, и в больших делах был завязан. Сейчас совсем сдал. От серьезных историй отошел, говорят, не без потерь. Вспомнил старую профессию – майданщика.
– Майданщик? – переспросил я.
– Ну, воровская масть такая – воруют в поездах и на вокзалах. Дело доходное, но суетное и рисковое.
– Знаешь, где его найти?
– Он в Москве. Лежки нам его неизвестны. А вот где может появиться… Есть подход.
– И что?
– Нужно подождать пару деньков. А потом, даст бог, представлю его тебе тепленького. И готового к плодотворному общению.
– Меня на мероприятия взять не забудь, – с готовностью полез я в бурное море уголовного сыска – душа звала на оперативный простор, а где его найдешь в наших кабинетах да на режимных объектах.
– Не царское дело майданщиков собирать. Но если тебе так хочется, то я не в силах тебя удержать, товарищ майор.
– Ну да. Держите меня семеро – шестеро не удержат… Ладно, жду известий. На связи…
Вышел я из здания управления. В Москве потеплело, и ожил расположенный рядом сад «Эрмитаж» с его театрами, гуляниями, духовым оркестром.
Нет, гуляния уж точно не для меня. Мне бы выспаться сегодня. И завтра с утра пораньше в «пятнашку», где накопились кое-какие дела. Да еще нужно было снять новую информацию от источника. Должно же там хоть что-то сдвинуться…
Глава 10
В фойе лаборатории номер пятнадцать были выставлены фотографии в черных рамках. «Трагически погибли, не забудем, вечно будут жить в наших сердцах» – и прочий треп. Есть свойство у этих ритуалов – они как игла внедряются в сердце и начинают ныть, притом вне зависимости от того, кто очерчен черной рамкой.
Черная рамка – это напоминание о том, что все там будем. Напоминание не абстрактное, а конкретное, вещественное. Мол, жил добрый человек, тоже планы строил, ходил-рядил, на бумажке памятки строчил – купить то, встретиться с тем. И вдруг все как топором обрубили. Нет человека. Нет его дел. Одни пустые заверения, что его не забудут… Забудут. Сначала привыкнут жить без него. Потом он станет историей. А потом – ну давно это было, никто и не вспомнит, если, конечно, ты не из великих и о тебе не пишут в учебниках.
Жуткий круговорот, который никогда не кончается.
В общем, отдал я должное унылому философствованию и отправился дальше.
Путь мой пошел по накатанной. К начальнику лаборатории. На пять минут. Узнать новости, задать среди нейтральных вопросов парочку имеющих для меня значение.
Доктор наук Сторожихин единственный в «пятнашке», кто в курсе произошедшего – что имело место жестокое убийство, если, конечно, не считать нашего агента. И уж никак не может быть шпионом – иначе информация текла бы к американцам совершенно другая и в иных объемах. Так что на него можно положиться и опереться.
Правда, пока что именно он хотел опереться на нас. Я выслушал его причитания и требования обеспечить безопасность его объекта и его людей, иначе катастрофа для страны и Вселенной. И в чем-то руководитель «пятнашки» был прав.
– Я бы с удовольствием обеспечил, – устало произнес я. – Тем более это не так и трудно.
– Правда? – с надеждой и некоторым подозрением посмотрел на меня доктор наук.
– Еще пара рядов колючей проволоки. Всех пускать, никого не выпускать. Охрана с пулеметами. Никаких контактов с внешним миром. Шарашка называется.
Начальник лаборатории задумчиво посмотрел на меня, оценивая предложение. Потом вздохнул:
– У нас так не выйдет. Мы не кабинетные ученые. Наша работа – это поле и поиск. Под конвоем будем сотрудников в командировки отправлять?
– Ну тогда будем искать другие методы.
А потом пробег по кабинетам. К одному, другому, третьему заглянул. Что-то уточнить, что-то прояснить. Но, главное, для того, чтобы переговорить с завхозом. Чтобы не заморачиваться встречами на явочном помещении, переговорим у него. Никто дурного не подумает. Оперативник еще с пятью людьми встречался.
Завхоз был на месте, в своем кабинете, пропесочивал какого-то шоферюгу за то, что у того застучал двигатель. При моем появлении отправил подчиненного думать о своем халатном поведении и порче государственного имущества.
– Ну, Евгений Гаврилович, наработал чего? – спросил я, усаживаясь напротив своего человека. – Или опять завтраками кормить будешь?
– Давай чайком порадую, – предложил он.
Себе он достал из шкафа алюминиевую кружку, а мне – обычную, большую, фарфоровую. Заваривал чай просто – бросая заварку в кружку. Притом мне немного, а себе отсыпал щедро.
– Не боишься за сердечко? – спросил я. – Это ж прямо чифирь.
– Привычка. С Брянских лесов. Немцы наш отряд тогда хорошо зажали. Взяли нашу базу с продовольствием. Мы в болотах таились. Хозяйство партизанское – там и бабы с детьми были. Все есть хотят. А нечего. Голод. Голод. Голод. Потом подводу у тыловых фрицев отбили. А там хоть бы кусочек хлеба был, так нет – только ящики с чаем… Хороший чай оказался. Азиатский. Вот им и спасались, голод утоляли. Обман, конечно, но держаться помогал.
– Светлые воспоминания, – усмехнулся я.
– Далеко не светлые. Но мои. Я с ними единое целое. Поэтому и чаек в память и по привычке такой предпочитаю. А мотор пока не шалит. У меня основа крестьянская, крепкая.
– А я на Западной Украине партизанил.
– Да, там серьезные дела были.
– И суетные. Не поймешь, где свои, а где чужие. Бандеровцы. Полицаи. Немцы.
– Война, будь она проклята.
– Наша война не кончилась. Так что давай, чего навоевал, показывай.
– У меня на примете трое. Вот. – Волынчук выдал список.
Ну, в общем-то, они и у меня на прицеле были. И надо думать, как к ним подступиться.
– А кто самый подозрительный из подозрительных? – спросил я.
– Да вот. – Волынчук вытащил из ящика стола фотографию и положил ее передо мной. Потрепанный годами ловелас. Взгляд недобрый, с каким-то невольно плохо скрываемым презрением ко всем и ко всему на свете.
– Гурий Никитич Бельш, – кивнул я.
– Он самый. Вообще не понимаю, как вы его на работу утвердили? Еще до войны в Германию с делегацией ездил – закупки горнопроходческой техники. Чем он там занимался?
– Технику закупал?
– Ага… Потом в тридцать седьмом арестовали за троцкизм и связи с зарубежьем. И за ту самую командировку, когда купили неизвестно что за большие деньги. На Колыме три года провел. И там пристроился хорошо. И тут. Пока мы фрицев били, он по экспедициям разъезжал.
– С другой стороны, заслуги его неоспоримы. Ударно на страну работает.
– Только вопрос – на какую страну… Вот хоть режь меня, Иван Пантелеевич, но чую я, что не наш он. Чужой. Смотрит с прищуром. Всем недоволен. Но перед начальством заискивает, боится. И только глазки туда-сюда бегают. Себе на уме.
– Все это эмоции.
– А что он как штык – в восемь часов с работы, а перед той катастрофой задержался. До десяти в кабинете сидел. И когда Кушнир утром в Москву собирался, этот шустряк по двору метался, что-то высматривал. А потом кому-то звонил. Это как?
– А это уже интереснее.
Я Бельша уже давно держал на примете. Исследовал вдоль и поперек. Скрытен. Недоволен всем, но про себя. Специалист в своей области превосходный – химанализ, минералогия, приборные исследования, еще чего-то сложное и непонятное. Самое интересное, круг его доступа вполне соответствует информации, которая уплыла за бугор.
Что дальше? Выписать наружное наблюдение? Судя по всему, пора…
На следующий день прилетел полковник Беляков, мотавшийся на пару дней в Северск. Там затеяна грандиозная работа – начинается создание подводной лодки с ядерным двигателем, который дает неограниченный ресурс хода. Революция в подводном флоте. Аж голова кружится от таких перспектив.
Когда я доложил ему о своих изысканиях, он призадумался, а потом недобро прищурился:
– Получается, главный подозреваемый сейчас стал заместителем у Сторожихина? То есть получил доступ ко всем секретам?
– Совсем вы меня не уважаете, – даже обиделся я. – Мы настойчиво порекомендовали ко всему объему информации его не допускать. Пусть занимается, чем занимался, и всякими организационными вопросами. Рано еще ему доклады особой важности читать.
– Черт, ты меня так до инфаркта доведешь. – Беляков усмехнулся, представив, что было бы, прошляпь мы сейчас допуск к информации стратегического значения западного агента. – Второй такой истории, как с Госпланом, нам не простят.
– Это да, – поморщившись, протянул я.
История та еще – до сих пор круги по воде идут. В 1948 году было обнаружено исчезновение из архива Госплана двух с половиной сотен секретных документов о добыче редкоземельных металлов, углеводородов и других природных ресурсов. И все это имело отношение к Проекту. Позже выяснилось, что все они оказались в британской и американской разведке. И до сих пор так и не понятно, чьих рук дело.
– Что, никого другого не нашлось на должность, кроме подозреваемого? – Беляков немного успокоился после моих слов, но недоумение осталось.
– Если бы его прокатили, то вызвали бы подозрение. Может в бега податься, тогда ищи ветра в поле, – пояснил я.
– А ты не думал над тем, что целью силовой акции был не только портфель с докладом. Может, Кушнира убили, чтобы поставить на его место этого самого Бельша? И получить доступ ко всей информации.
– Возможно. Хотя тогда лучше было бы где-нибудь в городе инсценировать разбой с летальным исходом. И вопросов не было бы.
– Значит, той стороне доклад был нужен срочно.
– Не знаю. Но узнаю…
– Может, не будем тянуть и арестуем Бельша? Пока он всю лабораторию не вынес и не продал.
– Оснований маловато, – поморщился я. – И мы не можем по нашему хотению снимать такие фигуры с доски и тормозить Проект.
– Вот и найдутся основания в процессе работы. Миндальничать с ним не будем.
– Уверенность надо иметь, – возразил я. – На сто процентов.
В принципе, мы могли просто пристрелить втихаря фигуранта без суда и следствия. Или произвести тайное изъятие – мол, пропал человек, где – неизвестно, а он в подвалах Лубянки. Это нам дозволено, потому что мы не прокуратура и милиция, для нас законность далеко не на первом месте. Мы на войне и живем по ее законам. Но для таких акций нужна уверенность даже не на сто, а на тысячу процентов, иначе спросят очень строго.
– Не имеешь уверенности? – спросил полковник.
– Пока не имею.
– Даю тебе неделю, чтобы определиться. И так уже ситуация запущена до безобразия. До терактов дожились на режимном объекте. Двое человек потеряли. Поднажми, Ванюша, ты же можешь. Или уже не можешь? – Начальник пристально, с ленинским прищуром, посмотрел на меня.
– Ну да, я могу только семьи разрушать.
В растрепанных чувствах я вернулся в кабинет.
– Тут твой муровец звонил, – сообщил Добрынин. – Напомнил о какой-то договоренности и сказал, что ждет тебя на Киевском вокзале. В отделении милиции.
– Отлично! – Я натянул плащ, фетровую шляпу и ринулся в бой.
Будет ли польза для дела – неизвестно. Но, зная Дядю Степу, можно быть уверенным, что скучно не будет. А мне сейчас хотелось движения и накала страстей, чтобы взбодриться и стряхнуть с себя ощущение, будто меня затягивает болото…
Глава 11
Московские вокзалы. Точки пересечения тысяч путей, дорог и тропинок. Как пылесосом вбирают они в себя людей со всех краев и концов страны и мира. И вечная толчея. Водоворот человеческих тел, багажа и страстей.
Вот и Киевский вокзал сейчас бурлил и дышал вечным движением. Вроде бы уже давно я из деревень и лесов вылез, а привыкнуть к этому давлению вокзальной среды не могу. Чрезмерно много людей и слишком много движения. Искренне сочувствую местным оперативникам – глаза разбегаются, а нужно работать, выискивать вокзальную шушеру, задерживать, проверять.
Там военные строем прошли по платформе, с вещмешками. Там в толчее зала цыгане вьются и присматриваются к кошелькам. Там еще какие-то заезжие жулики просвистели и усвистели – их спугнул патруль.
Мы заняли позицию в рабочей подсобке, выходящей на платформы, прикрытые гигантским арочным навесом из стекла и металла. Оттуда была видна часть перрона. Ребята из железнодорожного уголовного розыска расставились вдоль перрона, старательно строя из себя встречающих-провожающих и к правоохранительным делам никак не относящихся.
– А он точно сегодня на охоту выйдет? – доставал я Дядю Степу занудными вопросами – не по злобе, а для порядка.
– Информация надежная, – отвечал Дядя Степа. – Но точность в нашем деле – недостижимый идеал. Надеемся. Ждем. Верим…
И дождались. Прибыл почтовый поезд Киев – Москва. Со свистом и гудком. С паром, идущим от натруженного закопченного паровоза с красной звездой на носу, похожего на старого, видавшего виды добросовестного работягу.
У меня давняя любовь к паровозным гудкам. Все кажется, что они зовут меня за собой, в новые края, где все куда светлее и правильнее. Но так не бывает. Чтобы жить в свете и тепле, нужно самому прорубить окна в стене и наколоть дров. И построить кров для начала. Вот мы и строим общими усилиями социалистический мир всеобщего счастья. Когда-нибудь построим.
Состав застыл. Залязгали открывающиеся двери и опускающиеся мостки. Из вагонов хлынули люди.
Закрутились носильщики с тележками – выглядели они солидно и массивно, с бляхами на груди и в фартуках, не хуже московских дворников. Их, как всегда, не хватало на всех, и вспыхивали жаркие споры у клиентов, кто раньше заметил, кто резче махнул рукой.
Люди обнимали прибывшую родню. Ворковали. Радовались. Слышался детский смех.
И эту милую хрустально чистую суету разбил стальным ломом отчаянный крик:
– Ограбили! Чемодан увели! Большой такой! Кожаный! Люди добрые! Что же делается! Милиция!
Пожилая прибывшая пара обнималась и ворковала с встретившими детьми. Ждали носильщика, поставив на перрон объемный чемодан. И тут как по волшебству его умыкнули.
– Как его могли спереть? – заинтересовался я, издалека глядя за разворачивающимся представлением.
– Да смотри дальше. Сейчас вместе посмеемся… Вон он, Махер! Старый вор.
– Больше на артиста провинциального театра похож.
Действительно, высокий, в приталенном дорогом пальто и в шляпе, пожилой мужчина держался благородно, даже аристократично. Прямая выправка, неторопливая походка, энергия высокомерной снисходительности к окружающей суете. Истинно артист. Он тащил в руке чемодан – большой, фибровый, с металлическими обойками по бокам. И не собирался доверять его никаким носильщикам.
– Он украл? – Я все не мог понять, что и как происходит.
– Ну да, – удовлетворенно кивнул Дядя Степа.
– А где чужой чемодан? Не этот же, что у него в руке.
– Нет.
– Но как?
– Учись, чекист, чудесам бытия. Со мной еще и не такое узнаешь. Так, смотрим дальше.
Вора остановил постовой милиционер. Козырнул:
– Предъявите документы и багаж!
– И таки у вас есть основания для такого недоверия к старому интеллигенту? – с усмешкой, совершенно спокойно осведомился вор.
– Найдутся. Выполняйте.
Дальше все понеслось вскачь. Вор оттолкнул милиционера и, позабыв про чемодан, бросился не по годам резво к краю платформы. Спрыгнет – только его и видели, растает, как паровозный дым.
К нему бежали оперативники, но были далеко. Дядя Степа, выскочив из подсобки, резко рванул наперерез. Крикнул:
– Махер! А ну застыл на месте!
Вор замер как вкопанный. И поднял руки:
– Все. Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Со всем уважением, Степан Степанович.
Тут же подскочили оперативники из железнодорожного отдела. И начался следующий акт комедии. Мы вернули вора к его поклаже, на которую он даже не смотрел.
– Моисей Абрамович, – почти ласково заговорил Дядя Степа. – И не стыдно уважаемому седому еврею чемоданы на вокзалах воровать?
– Что вы знаете о евреях, молодой человек? – всплеснул руками Махер. – Нам лучше всего удаются революционеры, портные и воры.
Тут он покосился на меня, нутром и многолетним опытом ощутив, кого я представляю. И добавил бодро:
– Про революционеров я со всем уважением.
Подумав, он вдруг решил начать наглеть:
– А вообще, с чего вы решили, что я что-то украл? Я просто приехал из теплых краев. И не рассчитывал на такой холодный прием.
– Ну да, – кивнул Дядя Степа.
Взял за ручку еврейский чемодан. Поднял его.
Я аж присвистнул. Под ним был еще один чемодан. Кожаный, дорогой. Тот самый, по которому сокрушались его владельцы.
Теперь я понял суть фокуса. Вор идет с чемоданом без дна – одна бутафория. Видит приглянувшийся ему чемоданчик. В суете накрывает его своим, прихватывает за ручку. Владельцы, заметив пропажу, начинают орать и озираться в поисках своей ноши. И не видят ее. А их чемодан едет в недрах другого чемодана. Ох, насколько же изобретательна и пытлива воровская мысль.
– Сдаюсь! – вздохнул еврейский вор. – Таки моя работа. Глупо отрицать очевидное и врать таким приятным молодым людям.
– Ну тогда пошли.
Мы отправились в железнодорожный отдел милиции. Там была обычная суета – расфасовывали по камерам и кабинетам бродяг, воришек, просто подозрительных субъектов.
Пока шло оформление и работа с потерпевшими, нам дали в тесной комнатенке с двумя стульями и столом переговорить с задержанным.
Махер не стал тянуть кота за хвост и сразу перешел к сути вопроса:
– Смотрю и вижу, Степан Степанович, что у вас ко мне какой-то злободневный вопрос. Не могу представить, чтобы вы оторвались от важных государственных забот лишь для того, чтобы обидеть такую мелочь, как я.
– В самую точку! – согласился Дядя Степа.
– И дело хитрое, если ЧК подключилось, – кивнул мне, добросердечно улыбнувшись, Махер.
– Еще точнее, – не стал спорить муровец.
– Конечно, помогу, чем могу, – произнес Махер. – Если мы забудем об этом глупом недоразумении на платформе.
– Не забудем, – покачал головой Дядя Степа. – Уже не получится. Колеса правосудия завертелись… Но обещаю словечко замолвить. Хорошее такое словечко. Не всепрощение, конечно, но минимизация последствий.
– Минимизация последствий. Звучит заманчиво. Но вынужден отказаться.
В общем, повыделывался Махер еще немного, потом сильно задумался, когда Дядя Степа пообещал передать его в руки госбезопасности, которая из принципа вывернет его наизнанку и отправит в места не столь отдаленные на весь остаток жизни. В общем, он поморщился, как от хорошей порции хины:
– Я уже в том возрасте, когда любят больше прогуливаться, а не сидеть… Ну что же, я готов предоставить свои консультационные услуги. Но не более.
О как. Консультационные услуги. Умеет излагать.
– Турок. Не вспоминается такой? – спросил Дядя Степа.
– Стасик, что ли? Помню, был такой мальчонка. Путался под ногами. Все старался что-то выгадать по мелочам. Так получалось, что мы все время сталкивались. Нечасто, раз в год. Но постоянно.
– Что за человек?
– Ну… Нет у него призвания к нашему древнему ремеслу. Вот и менял масть постоянно – то квартирник, то разгонщик, то вообще презренный гоп-стопщик. Ни к чему душа не лежала. Жаден до судорог в ногах. Трусоват. А вот в чем он талант – это в побегах. И чтобы вовремя спрыгнуть с гнилой темы. Бежал с того знаменитого «музыкального концерта». Бежал от сучьих войн. Бежал, когда его на толковище призвали к ответу за грязные делишки.
– А надо было биться? – заинтересовался Дядя Степа.
– Нет, ну если есть возможность, бежать предпочтительнее, чем погибать. Но не всю же жизнь бегать… Серьезные люди с ним работать отказывались. Вот и приближал он к себе всякую шантрапу. Все ж вор в законе, мало ли, что его раскороновать хотели.
– Когда видели его в последний раз?
– Полтора года назад. Он тогда новое дело осваивал. Угоны автомашин.
– А где там прибыль? – удивился я. – Что можно сделать с машиной?
– Если есть соответствующая база, то разобрать на запчасти – они вечно в дефиците. Можно угнать на Кавказ, там, поговаривают, и на учет поставят. И продадут. Хороший шахер-махер.
– И с кем он тогда общался? – спросил я.
– Вроде бы шайка-лейка у него была своя. Только одного психа знаю. Артист-куплетист. Жора со Староконюшенного. Погоняло Стихоплет. Поц просто редчайшей дурости и вселенского самомнения…
Закончив с Махером и выжав его досуха, мы перевели дух. Все же жутко утомительно общаться со старым еврейским вором – его все время тянет на лирику и словесные кульбиты.
Вышли мы с муровцем на привокзальную площадь, щедро освещенную весенним солнцем. Я невольно залюбовался грандиозным зданием в стиле неоклассицизма, богато украшенным колоннами и обращенным к Москве-реке. Башня с часами поднималась на пятьдесят метров. Гордость московской архитектуры – Киевский вокзал.
На площади стояли в ряд красные, с белым верхом, рейсовые автобусы. А в центре площади была стоянка для такси и прочих машин. Там пригрелась и моя служебная «Победа».
Поигрывая ключами, я сказал:
– Пойдем дальше по связям Турка. Нужно прояснить, где он состыковался с иностранным агентом. И чем так не угодил, что тот его кастетом подравнял. Этот Стихоплет. Слышал о нем чего?
– Всех не запомнишь. Но найдем. Жора с Староконюшенного. Плюнуть и растереть. А ты по своим каналам проверь – может, где светился. Чем черт не шутит.
– Проверим, конечно… Прошу, карета подана. – Я махнул рукой в сторону «Победы».
– Карету мне, карету, – усмехнулся Дядя Степа. – Нет, мне еще тут пошариться надо.
Он махнул на прощанье рукой и нырнул в черную пучину московского криминала.
К сожалению, оптимизм его оказался безосновательным. «Раз плюнуть» не получилось. И поиск Стихоплета стал проблемой. Притом зубодробительной…
Глава 12
– Раны, раны. Вся наша жизнь – рана. Нога – рана. Голова – рана. Война – рана. Ничего, мы к боли привычные, – беря со стула клетчатую рубаху и с кряхтеньем натягивая ее на свою плотную фигуру, произнес пациент районной поликлиники.
В криминальном мире этого человека знали как Дольщика. В паспортном столе и в трудовой книжке он числился Бобылевым Георгием Артемовичем. А раньше… Ох, да чего вспоминать, что было раньше. Много у него было фамилий. Ну что такое фамилия – ветер перемен налетел, и сдуло эти буквы и звуки. Главное, чтобы человек был достойный во всех отношениях. И Дольщик себя таковым считал искренне. Потому что, в отличие от большинства представителей окружающего его всю жизнь бессловесного и тупого стада, он всегда был готов на поступок. Притом на любой, даже самый страшный, и уже одно это переводило его в высшую категорию.
– Боль, конечно, никуда не денется. Но прожить вы можете еще долго. У вас фактура крепкая, – сказал улыбающийся врач классического вида, с чеховской бородкой клинышком, ставя на рецепте свою небрежную подпись и протягивая бумажку пациенту.
– Вашими бы устами, доктор, – с грустью произнес Дольщик. – А вообще, войну пережили и болезнь переживем.
– Вот и ладненько. Жду вас, милейший, через месяц. Если, конечно, хуже не станет, – убаюкивающим голосом произнес врач.
Дольщик вежливо раскланялся и вышел из тесного кабинета. В коридоре на стульях ждали своей очереди граждане – инвалид, пара старушек-одуванчиков, еще парочка опойных работяг, мечтающих о больничном и чтобы потом чем было опохмелиться. Их всех ждал добрый доктор, который поможет, выслушает, сделает все, чтобы вернуть здоровье. За это Дольщик доктора искренне презирал.
Все-таки в Совдепии дурацкое правило – лечить всех подряд и забесплатно. В результате через эти очереди не пробьешься. Вон в Польше, когда он там родился, правило было простое – нет денег, иди подыхай. Оно и правильно. Слабые дохнут. Сильные выживают.
Вспомнился доктор Вольфганг Штраус, которого довелось сопровождать в поездке в лагерь, где он среди безмолвного лагерного сброда подбирал подопытных смертников для своих экспериментов. Да, вот это настоящий доктор был – суровый и жесткий. Не то что этот улыбчивый слизняк в кабинете, который штампует Дольщику больничные. Как человек увлеченный, этот Штраус распинался о своих успехах и о перспективах медицины. Говорил, что в будущем от человека к человеку будут пересаживать внутренние органы – сердце, печень. И это приводило нациста в восторг. Высшие, говорил он, должны выживать за счет жизней и тел низших. В этом основа правильного мироустройства.
Дольщик взял в гардеробе свое пальто, нацепил широкую матерчатую кепку и вышел из давно не ремонтировавшегося, с обшарпанным желтым фасадом здания поликлиники.
Пройдя где-то квартал от поликлиники и отчаянно хромая, держась за бок, постепенно он разгибался и прибавлял ход. Больного нужно играть перед врачом – ваньку ломать, изображать увечного, чтобы он подтвердил группу инвалидности и, когда надо, выписывал больничные. А тут чего дурака валять?
Для нелегала самое главное – вжиться всей душой и телом в окружающую реальность. Стать обычным, ничем не примечательным. Стать как все. Стандартная оболочка людей, когда все они как спички в коробке – не отличишь одну от другой. Ты обычный советский человек. Эта маска стала твоей второй кожей. Но под второй кожей есть и первая. Настоящая. Твоя основа, ядро. Где живут ненависть к советчине и покорность перед хозяевами. А также решимость выполнить любой приказ.
Вжился Дольщик в образ идеально. На лодочной станции на пруду на окраине столицы работал еще с одним старичком. Станция принадлежала артели, которая изготавливает эти лодки. Работа была не бей лежачего, особенно в межсезонье – присматривай за имуществом да чини инвентарь.
Он мог спокойно отлучаться, задабривая напарника щедрыми подношениями в виде продуктов и бутылки водочки. Или брал больничный – как инвалиду по неврологии и опорно-двигательной системе это было нетрудно. То есть был не тунеядец какой, а полноценный артельщик.
