«Кислый привкус» здоровья
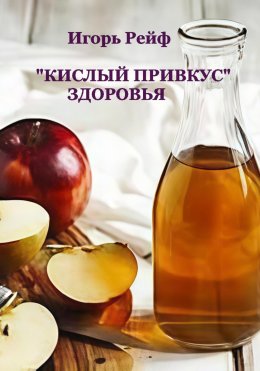
Игорь Рейф
"Кислый привкус" здоровья
Признаюсь, ни за что не стал бы читать книгу под таким заглавием: «Как продлить быстротечную жизнь» (С.-Пб. «Крылов» 2007), если б не звания и должности её рецензентов, среди которых и профессора Одесского университета. Ведь сколько их развелось за последнее время этих гуру, которые знают как и, не утруждая себя сколько-нибудь серьёзной аргументацией, безапелляционно внушают это легковерным читателям. Но едва перелистав книгу Н.Г. Друзьяка, я сразу понял, что она – из другой обоймы. Да и написана в совсем другой, интеллигентной, манере, да так, что не оторвёшься. А ведь речь в ней об очень не простых материях.
Поначалу я хотел было назвать эти заметки «Евангелие от воды». Потому что от неё, обыкновенной природной воды, начал свой трудный, растянувшийся на целую жизнь поиск и сам автор. Физико-химик по образованию он занимался поначалу самым рутинным делом – химическим анализом курортных минеральных вод. А вот следующей, гораздо более интересной ступенькой стало для него исследование природной воды в районах долгожительства. И вывод, который он тогда же сделал, – что вода это далеко не всегда дар божий. Но в некоторых случаях она как подарок судьбы.
Секрет долгожительства
О том, что Абхазия славится своими долгожителями, знают, наверное, многие. Но то, что четвёртое место по индексу долгожительства в бывшем Советском Союзе принадлежит Якутии, самому тяжелому в климатическом отношении региону, я, например, узнал впервые. Тщательно анализируя прихотливую мозаику «пятен» долгожительства в самой Абхазии и в окрестностях Кавказа и сопоставляя её с данными по другим регионам, автор обнаружил одну неожиданную, сближающую их особенность. Разнился климат, разнился образ жизни и характер питания Мафусаилов, но неизменным для всех оставался фактор мягкой природной воды (концентрация ионов кальция ниже 10 мг/л), связанный с геологией водосборного бассейна. И там, где за счёт мощных известняковых отложений на месте древних морей подпочвенные воды интенсивно насыщаются солями кальция (как, например, на Украине), состояние здоровья и продолжительность жизни населения оставляют желать лучшего. Тогда как мягкая, маломинерализованная вода в районах твёрдых, не подверженных растворению магматических пород на месте древних вулканических выбросов, наоборот, сопутствует долгожительству.
Низкое содержание кальция – ну и что? Сколько регионов Европы и Северной Америки не могут похвастаться качеством своей воды, а продолжительность жизни там такая, что дай бог всякому. Но вот долгожителей (100 и более лет) там действительно почти нет. Почему? И почему самая высокая продолжительность жизни среди развитых стран мира наблюдается не в благополучнейшей Швейцарии, а в далеко уступающей ей Японии, где тоже, между прочим, мягкая и даже сверхмягкая – 3 мг/л кальция – вода? В своей книге Друзьяк даёт объяснение и этому феномену.
Но я несколько забежал вперёд, потому что от химизма природной воды до физиологических секретов долгожительства автору предстоял ещё долгий и извилистый путь. И на этом пути ему встретилась книга американского врача-натуропата Д. Джарвиса «Мёд и другие естественные продукты».
Замечу в скобках, что очень многие новомодные течения из так называемой нетрадиционной медицины пришли к нам за последние полвека именно из Америки. И медленный бег (правда, родившийся в Австралии), и уринотерапия, и моржевание, и лечение большими дозами аскорбиновой кислоты, и, наконец, апология голодания в трудах самого фанатичного его приверженца Поля Брэгга. Но, несмотря на весь свой богатый опыт и успешную лечебную практику, никто из авторов вышеупомянутых методик не сумел подвести под них сколько-нибудь серьёзную теоретическую базу. Объяснить, почему же всё-таки это помогает. Даже нобелевский лауреат Лайнус Полинг, свято веривший в волшебную способность аскорбиновой кислоты купировать грипп и простудные заболевания, высказал на сей счет лишь догадку относительно её участия в синтезе интерферона. Что уж тут говорить о не шибко медицински грамотном Брэгге, приписывавшем мясной пище эффект «закисления крови» (в противоположность фактическому) и рассуждавшем о каких-то неведомых (вплоть до ртути!) ядах, выводимых с мочой из организма голодающего человека.
И хотя ни одной из этих методик не обошёл в своей книге Друзьяк, но всё-таки Джарвису принадлежит в ней особое место. Потому что именно на него, впервые обратившего внимание на разнообразные лечебные свойства яблочного уксуса, указывает он как на своего предшественника.
В самом деле, самые разные болезненные состояния успешно вылечивались им с помощью мёда и яблочного уксуса, опорой чему послужил богатейший эмпирический опыт народной медицины. Но настоящего объяснения полученному лечебному эффекту не смог дать и он. В яблочном уксусе много калия (а так ли уж много?), там содержится «весь набор минеральных элементов, входящих в состав яблока», а в мёде – «минеральные элементы, содержащиеся в нектаре цветов». Вот и всё объяснение.
И всё же именно Джарвис первым указал на благотворный эффект подкисления крови, причём не только у человека, но и у животных – у коров, у охотничьих собак, у разводимых на фермах норок, и этим дал в руки Друзьяка некую путеводную нить. Потому что устойчиво кислая реакция мочи (а, следовательно, и сдвиг в кислую сторону pH крови), как правило, отмечается и у людей в географических районах долгожительства.
Как и почему мы дышим
Так, значит, ацидотический сдвиг внутренней среды организма как-то способствует нашему здоровью? Эту версию необходимо было проверить, и автор углубился в биохимические глубины человеческого организма, сравнивая условия протекания самых разнообразных метаболических процессов в условиях той или иной реакции внутренней среды организма.
Нет, никаких экспериментов он не проводил, потому что занимался проблемой на собственный страх и риск и, следовательно, ни о какой экспериментальной базе не мог и помышлять. И все его выкладки носят сугубо теоретический характер. Да и к живому организму он подходит со своей особой позиции – не биолога, а химика. Но, может быть, именно поэтому этот сложнейший текучий мир открывается ему в какой-то удивительно понятной прозрачности, так что он читает по нему, как по раскрытой книге. А мне, медику по образованию, стало искренне жаль, что ни одного учебника такой доступности не встретилось на моём пути в студенческие да и врачебные годы. А вот что касается достижений современной молекулярной биологии и медицинской химии, то они известны автору, можно сказать, в доскональности. И если уж он позволяет себе покушаться на «основы», то отнюдь не по неведению.
