Алханай – Кандагар
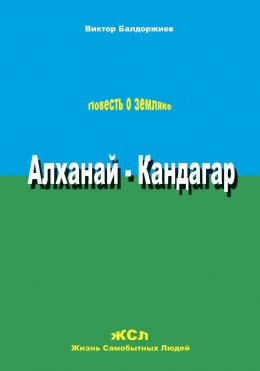
Книга повествует о сержанте легендарного 173 отдельного отряда спецназа ГРУ ГШ ВС СССР. Время основных событий – вторая половина XX века, места – Восточная окраина России, Алханай, Узбекистан, Афганистан, Кандагар.
Отряды специального назначения ВС СССР имеют насыщенную предшествующими событиями историю. Наша история – история одного спецназовца, разведчика, который встречается с противником лицом к лицу, где возможен только один исход, определяемый словом – либо. В этом слове – весь спецназ, в котором – история народа и личное мужество человека, трагедия и мечта общества. Эти понятия сочетаются вместе и отдельно в каждом, проявляясь или не проявляясь в самые разные моменты судьбы.
Жизнь самобытных людей
Позвольте предположить, что жизнь – это самобытность, само бытие человека. Помните мысль: «Человек – это то, что нужно преодолеть»?
Моя серия ЖСЛ – рассказывает именно о жизни самобытных людей. Тут нет аналогии с известной исторической серией, ибо я не могу позволить себе делить людей на замечательных и не замечательных. Самобытен же каждый человек.
В эпоху ужасающего расчеловечивания, я намерен рассказывать о жизни своих современников, своих земляках, простых жителях страны. Большинство из них – люди, остающиеся в прошедшем времени, которых уже невозможно расчеловечить, сплав их души нельзя раздробить и развеять по ветру.
Их судьбы раскрываются по мере знакомства с ними.
Предлагаемая читателю повесть представляет жизнь обыкновенного человека Восточной окраины страны – Балдана Дугарова. Но какая самобытная раскрывается судьба в процессе знакомства. Это частичка истории и отдельного народа, и большой России.
Вместе с тем – это часть истории спецназа.
По ходу повествования я предлагаю некоторые отрывки из истории отдельных отрядов специального назначения, действовавших на территории Афганистана в середине 1980-х годов, ибо герой книги – Балдан Дугаров проходил действительную службу с ноября 1985 по май 1987 года в Кандагаре, в самый пик охоты за караванами душманов.
Он – один из охотников за караванами.
Литературе, религии и другим вымыслам человека, уже не обмануть умное и прозревшее время. Наверное, умному времени нужна публицистика, рассказывающая об исторических примерах, возможностях человека, о том, что было и всегда может повториться.
Предлагаемая книга – один из таких примеров.
Текст крупным шрифтом – максимально достоверное переложение рассказов Дугарова о своём детстве, отрочестве, службе и связанных с этим периодом событиях в Кандагарском спецназе.
Мелким шрифтом даны комментарии, отступления, выдержки из книг, цитаты, отрывки из писем.
Фотографии из альбома Дугарова и открытых источников.
Авторские отступления претендуют на достоверность только в моём понимании, ибо у каждого автора и читателя собственное видение или даже опыт участия. Буду рад, если моё понимание событий читатель воспримет с определенной долей терпимости, диктуемой требованиями общечеловеческой культуры. Вместе с этим прошу читателей, знакомых с темами повествования, простить рассказчика и автора за возможные ошибки или упущения.
Схема повествования проста: герой книги, Балдан Дугаров, будет рассказывать о себе, автор – иногда вмешиваться и вносить необходимые отступления, расширяя и углубляя познания читателя о пространстве и времени человека.
Виктор Балдоржиев.
Глава 1. Сын двух семей
Как рождается повесть о самобытном человеке?
Вот случай, произошедший летом 2018 года. Встречаются два родственника. Одному за шестьдесят лет, второй миновал пятидесятилетний рубеж. Обычно тот, кто старше, чаще остальных вглядывается в прошлое, в судьбы людей своего рода.
У старшего – диктофон. Он задаёт вопросы и темы беседы:
– Балдан, расскажи о себе. Где родился, жил, служил?
– Всю жизнь?
– Всю. До сегодняшнего дня.
Так стали проявляться очертания этой повести…
Дугаров:
– Что рассказывать? Ничего особенного: родился 14 февраля 1967 года в предгорьях Алханая, в живописном месте, которое называется Тут-Халтуй. Там маленькая, извилистая, речка Тут-Халтуй, втекающая в Дульдургинку, берега которой в густых зарослях деревьев и кустарников. Это наши алханайские земли.
Некогда там кипела жизнь молочно-товарной фермы, где жили и работали доярки, телятницы, скотники, их дети, образуя свою, неповторимую, среду и характеры.
В этом селении и родила меня Бальжима Дашиева, работавшая на ферме дояркой. Записали меня – Дашиевым Балданом Дашиевичем. На Тут-Халтуйской ферме я рос до трёх лет.
Представьте меня маленьким бурятёнком среди таких же ребятишек живописной фермы. Вокруг высокие горы, тайга, в ложбине меж ними бежит речушка, среди густых кустарников и деревьев белеют крыши домов и строений молочно-товарной фермы.
Так, наверное, и жил бы дальше в Тут-Халтуе, но весной или в начале лета, когда мне было уже три с половиной года, меня усыновила семья скотника Дугарова Доржижап Мункуевича и Цырегмы Жигмитовны.
Так я стал Дугаровым.
Конечно, обо всём этом мне рассказали позже, когда я был уже взрослым. А тогда с молочно-товарной фермы повезли меня на животноводческую стоянку, где, в вершине речки Дульдурга, жили и работали Дугаровы.
Предгорья Алханая середины прошлого века – это живописные места, где у ручьёв и рек, опушек леса и долинах, распаханных полей – полевые станы, животноводческие стоянки чабанов и скотников. Население объединяет таёжное село Алханай, где центральная база большого хозяйства – колхоза «Эрдэм».
Эти места – Родина многих и многих моих земляков.
Коротко об Алханае
Абзац из Википедии: «Национальный парк «Алханай» (бур. Алхана) образован Постановлением Правительства Российской Федерации № 533 от 15 мая 1999 года для охраны, изучения и рекреационного использования горно-таёжных ландшафтов Забайкалья, а также для охраны культовых мест бурятского народа. Расположен на территории Дульдургинского района Забайкальского края».
Но Алханай – более широкое понятие, это не только известная гора и живописная местность, но и природно-культовый комплекс, национальный парк, село, люди, сельское хозяйство, богатейшая история, а сегодня – туризм. Основная вершина, называемая собственно Алханаем, – самая высокая точка Юго-Восточного Забайкалья. Истоки большинства современных материалов об Алханае сконцентрированы в книге «Алханай – мир великого блага», в интернете можно найти фильм с таким же названием.
«Эрдэм» переводится с бурятского языка как наука или знание. Так называется колхоз, бригады и стойбища которого находятся в предгорьях Алханая, а центральная усадьба – в селе Алханай. В разное время Алханай был прославлен многими своими людьми. Среди них – Герой России Бадма Жабон, писатель Дугаржап Жапхандаев, народный артист России Майдари Жапхандаев, ламы – Жимба-лама, Жунды-лама и многие другие.
Сегодня в горы и предгорья Алханая посещают отдыхающие со всей России, прибывают туристы зарубежья. Они любуются и наслаждаются девственной природой и знакомятся с историей и традициями бурятского народа.
Алханай – Родина героя этой книги. Послушаем его. Ведь только в процессе общения раскрываются нравы и нравственность, обычаи и привычки целого народа. Например, как отдавали детей в другие семьи, как их усыновляли? Как происходил такой процесс? И почему эта традиция была и есть?
– Рассказывали, что в новую семью я отправился без плача, криков и капризов. Как будто бы поехал в свою настоящую семью, где и должен был жить и воспитываться.
Об этом очень интересно рассказывала моя родная мать Бальжима Дашиева: «Вот привезли мы Балдана к Дугаровым. Конечно, они встретили нас как очень дорогих гостей. Приготовили много разных подарков мне и Балдану. А когда настала пора прощаться, я испугалась, что маленький Балдан будет плакать. Тут меня просят поцеловать на прощанье сына, но Балдан, который сидел на коленях приёмной матери Цырегмы, крепко обнял её и наотрез отказался от всяких целований со мной…»
В этом моменте все присутствовавшие поняли, что я и должен быть Дугаровым. Даже когда моя новая мама Цырегма сказала мне, что гостья, то есть моя родная мама Бальжима, уезжает и хочет меня поцеловать, я громко и, наверное, капризно сказал, что не хочу целоваться с ней.
Предание это сохранилось в двух моих семьях…
Усыновление или удочерение
Усыновление, удочерение, приобретение новых родителей – вековые традиции бурят-монгольского народа, где не было сирот и бездетных семей. Таким образом, сохранялся зыбкий баланс, равновесие семейного благоденствия, вместе с тем крепли традиции, с ними вырастали сильные люди, а в целом сохранялся народ. Бездетных семей или сирот не было.
Конечно, многим нашим современникам, да и не только им, непонятны мотивы и поступки, бытовавшие и бытующие до сегодняшнего дня в бурят-монгольском народе. Возможно, для некоторых людей такой обычай – дикость.
Так думаем мы, люди, живущие в первой четверти XXI века. Но в нашем обществе всё ещё много людей, доказавших всей своей жизнью практическую мудрость наших предков.
Один из них – Балдан Дугаров, рассказавший о себе по нашей просьбе.
– Дашиевым я был до трёх с половиной лет. Конечно, я совсем не помню себя Дашиевым. Отчётливо помню себя уже Дугаровым. Особенно – четырехлетним, пятилетним, шестилетним. Жили мы на скотоводческой стоянке в истоках норовистой и бурной речки Дульдургинка.
В те годы юрт уже не было, строили брусовые и бревенчатые дома, рядом с ними – кошары, стайки, изгороди. До центральной усадьбы колхоза, села Алханай, довольно далеко. Кажется, это время бурлило совсем недавно. Трудно стереть из памяти людей время, в котором все работали и ощущали причастность к делам и развитию государства. Люди знали, что государство – это они…
Однажды весной, оставив меня одного, мама отправилась в Алханай. Наверное, за покупками. Папа с дядей Чимитом работали – пасли коров или возились в изгороди.
Через некоторое время, заскучав в одиночестве, я тоже отправился в Алханай. Было мне тогда лет пять или того меньше. Думаю, что километров шесть я прошёл по течению Дульдургинки. Не меньше. Помню, иду, поглядываю на солнце и размышляю: плохо, если быстро вечер наступит, звери могут спуститься с гор. Вот доберусь сейчас до стоянки Мухамеда, там тоже жила семья скотника. Возьму у них ружьё на всякий случай. А вдруг медведь в темноте появится, обороняться же придётся…
В предгорьях Алханая
Тут надо сказать, что медведей в предгорьях Алханая, действительно, много. Я помню, как в 1981 году ездил на молочно-товарную ферму Тут-Халтуй, где жил мой приятель-художник Жадамбаев. Мы ходили с ним в тайгу, на солонцы, куда добавляли соль. В такие места приходят изюбри и косули. Тем, кто не знает о солонцах, рекомендую поинтересоваться материалами на эту тему. В моей памяти остались отчётливые медвежьи следы и свежий помёт на влажной тропе возле таёжной речушки. Стало понятно, что здесь можно встретиться с медведицей и медвежонком, что особенно опасно для человека.
В случае с походом маленького Балдана в Алханай по течению речки, сплошь заросшей кустарниками и деревьями, а с двух сторон зажатой горами и непроходимой тайгой, я представляю, что медведь мог появиться в любую минуту и с любой стороны.
Слухами о нашествии медведей алханайская земля известна издавна.
Вот почему четырех или пятилетний Балдан размышляет о том, как доберется до стоянка Мухамеда и возьмёт там его ружьё!
Но послушаем Балдана.
– Наконец, я добрался до стоянки Мухамеда. Но что это? Вокруг тишина. Изба кажется нежилой. В изгороди нет ни коров, ни овец, ни свиней. Собаки не лают. Не видно даже телег. Потихоньку всё зарастает травой.
Захожу в избу – никого нет.
Семья перекочевала на другую стоянку.
Делать нечего, побрёл дальше. Уже вечерело, солнце накренилось в сторону дальних гор. А в наших краях это верный знак, что очень скоро долина будет охвачена сумерками. Как быть? До Алханая должно быть ещё далеко. Надо идти обратно, домой! Повернул я назад. Потом побежал. Быстрей, быстрей, надо успеть до захода солнца!
И тут что-то застрекотало и затопало не то в стороне, не то впереди. Попробуй, разберись при такой суматохе в голове! Топот становился всё явственней, тогда я стал прижиматься к берегу речки и красться, а потом и вовсе залёг под кустарником. Стал прислушиваться. Кажется, лошадь. Не то рысью идёт, не то скачет.
И вдруг над зарослями раздался родной, ищущий, голос отца:
– Балдан, Балдан! Ты где? Где ты сынок?
И сразу же из-за зарослей деревьев, на дороге, появились полностью – и наш конь, и отец, внимательно озирающий густые скопища деревьев, кустарников и кричащий в лучах предзакатного солнца. В каждом движении коня, звуках отцовского голоса, повороте его головы трепетала тревога, наполняющая предвечерний воздух и пронизывающая всего меня.
Мне стало страшно. Даже дышать становилось трудно.
– Балдан! Сынок!
Не успел растаять последний звук, как я выскочил из кустарников и бросился к отцу. Конь даже не испугался. Отец мгновенно наклонился, и я оказался в его руках. Тревога тут же растаяла, и воздух наполнился звонкой радостью двух мужчин – отца и сына.
Помню тёплую спину отца, покачивающийся ход коня. Стало тепло и дремотно. Так, то погружаясь в сон, то просыпаясь, я вернулся с отцом домой из своего первого дальнего выхода…
Глава 2. Охотник
Дугаров:
– Так мы и жили возле речки Дульдургинки, смотрели за скотом.
Позже, когда уже приближалось время моего поступления в школу, мы перекочевали оттуда на чабанскую стоянку, в местность Тарбагатай, которая также запомнилась мне на всю жизнь. Огромные сопки, долины, обилие травы. Скот там всегда тучный. Люди сильные и зажиточные.
География моя расширялась: горы, тайга, долины, речки, названия разных мест, которые стали родными на всю жизнь.
Помню – зима. Папа часто уходит в степь и тайгу с ружьём. Понимаю – охотится. Конечно, у меня тоже было игрушечное ружьё, которое в наших краях называют «централкой». И вот однажды, закинув за плечо свою «централку», я тоже отправился на охоту. Якобы, вслед за отцом.
Забайкальская зима суровая, морозы сорокоградусные, иногда доходит и до пятидесяти градусов. Подготовился к охоте я основательно. Оделся в зимнюю одежду, всё подоткнул, подогнал. Были у нас две собаки – белая и чёрная. На охоту ходила белая собака, Шарик. Его можно было вести на поводке. Черная собака не охотилась и на поводке не ходила. Обычно она охраняла дом.
С «централкой» и охотничьей собакой на поводке, укутанный в зимнюю одежду, по девственно белому снегу отправился шестилетний охотник добывать дичь. Отовсюду открывались контрастные панорамы, видно было далеко-далеко, тёмная ложбина почти на горизонте в густых зарослях кустарников, сопки, редкие петляющие дороги. И – холодное голубое небо с плывущими белыми тучами. Почему я так свободно мог уйти?
Повторюсь: в те времена, а это 1973 год, все люди работали. Весь народ работал. Вся страна работала! О бездельниках мы и не знали. В нашем колхозе, а также и на нашей стоянке, было время окота, у нас это время называется сакманом. Сейчас мало кто знает, что такое окот или сакман. Это пора ягнения овцематок, появления приплода. Сакман – это суетливый и очень трудоёмкий процесс, где занят каждый человек, овцематки ждать не будут. Все люди заняты. Во всех постройках и кошаре день и ночь кипит работа. Там, где люди и животные – морозный белый пар.
Бабушка, которая должна была присматривать за мной, тоже захлопоталась вместе со всеми и упустила «охотника».
И вот я, свободный добытчик, поднимаюсь на перевал!
Такая картина: заходят взрослые в тёплый дом, зовут маленького Балдана, а Балдана нет. Бабушка до того закручинилась, что тут же слегла, заболела. Поднялась паника. Прибежала чёрная собака. А белой собаки и шестилетнего Балдана нет. Люди всматриваются во все стороны, отец приник к окулярам бинокля.
Насколько видно морозное пространство – зима, белый снег, лютый мороз!
Мне кажется, что первым обо всём догадался отец. Может быть, он заметил, что нет игрушечной «централки»? Он ринулся искать в снегу следы, нашёл их и, встревоженный, немедленно отправился по ним. Не дойдя до вершины перевала, он услышал, что где-то лает собака. В страхе отец взбежал на перевал и далеко внизу увидел мечущуюся и лающую у сугроба белую собаку… Я мирно посапывал в сугробе, намотав на руку поводок Шарика.
А если бы не намотал на руку поводок? Как долго меня искали бы взрослые? Думаю, что я счастливый и везучий человек. Много раз я убеждался в этом.
Большинство людей не имеют понятия о жизни на стоянке.
Жизнь на животноводческой стоянке – это непрерывная работа. По временам года, по циклам. На стоянке – всё главное. Но самое главное – это постоянная ответственность. Токарный или какой-нибудь другой станок может подождать, а животное – нет, о нём надо заботиться круглосуточно.
На первый взгляд – всюду людская суета, а на самом деле – чётко продуманный порядок. У каждого свои обязанности. Даже у самых маленьких. Шестилетние – полноправные помощники.
Как забыть запах сенокоса, образы родных и знакомых наиболее явно проступают именно при воспоминаниях о сенокосе. Конечно, я в любое время норовил поступить самостоятельно, убежать куда-нибудь. Но все уже знали о моих стремлениях к самостоятельным походам.
Пришло время, и осенью я отправился в подготовительный класс, который в наших сёлах зовут «половинками». Приехал на мотоцикле с коляской из Алханая русский друг моего папы и увёз нас в село. Я стал школьником.
До этого времени в село я почти не приезжал, хотя у нас был дом, где жила бабушка.
Первое впечатление: как много здесь разных построек, людей, особенно детей, моих ровесников!
Дети колхозников
Начало 1970-х годов, вторая половина XX века, почти на всех животноводческих стоянках Восточной окраины России, как и много лет тому назад, живут сотни, а может быть и тысячи, детей, которые не видели деревни, села, посёлка, города, железных дорог, поездов, взлётных полос и аэродромов. Они видели и познавали другое мироздание – природу и людей, дружбу и взаимовыручку, труд и терпение, бескорыстие и верность, народную философию, которая будет вести их по жизни и не позволит ошибиться. Ведь природа не знает ошибок.
Автору известна эта жизнь, ибо он сам – оттуда.
Идёт время, дети взрослеют, русские ребятишки свободно разговаривают на бурятском языке, бурятские мальчики и девочки учатся говорить на русском, а некоторые знают язык с рождения. Язык – явление социальное. Начинаются приёмы в октябрята, пионеры, комсомол. И продолжаются бесконечные колхозные работы – стрижка овец, сенокос, уборочная, сакман, образовываются ученические производственные бригады. К этому времени колхозные дети, особенно дети, родившиеся и выросшие на животноводческих стоянках, умеют всё или почти всё: от дойки коров до вождения сложнейших машин. О домашних работах и уходе за собой, уважении к старшим и защите младших, даже говорить не надо. Такие понятия присутствует сами по себе, они врожденные.
Позволю себе ещё одно отступление, в которой замечу, что, если литература, на мой взгляд, невозможна без чувства вины от незнания реальности и жизни простых людей, то подобное чувство вины не испытывают люди, живущие в более лучших условиях, чем их современники, судьба которых не предоставила им жизненный уют и комфорт с рождения. У баловней судьбы, которые получили беззаботное времяпровождение с рождения, нет и не может быть чувства ответственности и вины.
Но именно отсутствие уюта и комфорта, которые всегда не по заслугам, безмерно обогатило моих земляков и сородичей лучшими человеческими качествами, которых нет и не может быть у пресыщенных.
Никто и нигде, конечно, в то время не нашёл бы слова Чингисхана, зафиксированные кем-то во времени о том, что «Каждый мальчик, родившийся в местности Баргуджин-тукум, на Ононе и Керулене, будет мужественным и отважным, сведущим и сметливым (от природы), без наставления и выучки. И каждая девочка, которая там родится, будет хороша и прекрасна без убранства, причесывания и румян и будет безмерно искусна, проворна и доброжелательна».
Об этих словах вспомнят потом, когда уже не будет колхозов и СССР. Но такие мальчики и девочки получались на Восточной окраине России только при колхозах и СССР. На мой взгляд, они были и останутся самыми надёжными гражданами при любых испытаниях государства.
Один из них Балдан Дугаров. Вся его жизнь – от рождения на ферме до физической закалки с шести лет – станет лучшим образцом уже в других условиях, которые создают для простых людей политики разных мастей и пошибов.
– Учился в обыкновенной сельской школе. Ни шатко, ни валко. Отличником или хорошистом не был. Моя оценка – твёрдая тройка. С малых лет была у меня присущая многим бурятам страсть к шахматам.
Уже в младших группах школы я обыгрывал всех.
Однажды школьная команда стала готовиться к районным соревнованиям. И тут обнаружилось, что у меня нет документов.
Такие простые и хорошие были времена: люди могли не думать о документах и даже жить без них. Но документы нужны человеку всегда. Мне в тот момент потребовалось свидетельство. В школе я был записан Дугаровым. Казалось, что если люди знают меня, как Дугарова, то этого достаточно для того, чтобы не беспокоиться. Но оказалось, что в сельсовете я записан как Дашиев Балдан Дашиевич.
Так в шестом классе я узнал о том, что такое документы и как они важны для человекаэ
Начались хлопоты, сделали перерегистрацию: будучи уже подростком я законно стал Дугаровым Балданом Доржижаповичем. Отца моего по паспорту, оказывается, звали Доржижап, а люди называют его Доржи. Через двадцать лет в наградных документах имя отца переиначат военные бюрократы и напишут «Доржижанович». Неужели они такие невнимательные? У бурят не такого имени…
К тому же до случая со свидетельством меня везде записывали как Дугарова Балдана, никто не спрашивал каких-нибудь документов. Да и кому это интересно? Но тут грянули официальные соревнования и потребовались официальные документы.
Имена, отчества, фамилии, документы
Сколько закавык, проблем, казусов испытали почти все люди нерусской национальности России с именами, фамилиями, прозвищами, документами во время переписей, получения паспортов, разных актов, справок, выездов и отправок. У половины бурят-монгольского населения тибетские имена, как и у многих русских – латинские. Остальная половина носит свои, бурятские или монгольские, имена, многих зовут русскими именами.
Кто-то записан на отцовскую фамилию, кому-то дали фамилию по имени отца, кто-то носит материнскую фамилию, а кого-то усыновили или удочерили. Какая из этих фамилий или имён – официальная? Откуда, от кого производить отчество у представителей народа, в котором раньше вообще не именовали друг друга по отчеству, добавляя после имени особые, уважительные, приставки.
К тому же, тибетские и монгольские имена могут быть двойными, спаренными, их не могут выговорить русские люди, которые работают в отделах записи актов гражданского состояния или паспортных столах. Артикуляция такая?
Но внимательными они могут быть? Или не могут?
С этим столпотворением фамилий, имен, приставок и суффиксов не могут разобраться даже до наших дней. Да и как разобраться с монгольскими и тибетскими именами и фамилиями, когда путают и русские?
Кстати, Балдан переводится с тибетского как – Славный, Великолепный…
Глава 3. На стоянке. Быт и бытие
Дугаров:
– Родители мои в одно время ухаживали за крупно-рогатым скотом, потом мы присматривали за овцами, после этого снова приняли гурт коров. На таких стоянках и прошло моё детство.
Помню перекочёвку в Урей. Это тоже живописное место, на границе с Акшинским районом. Недалеко трасса и село с таким же названием. (Кстати, потом, в Афганистане, в спецназе, я встретил парня из Урея. Представьте мою радость…)
А тогда я учился в четвёртом классе. Уже в четвёртом классе. Ведь в таком возрасте ребёнок животноводов мог делать, практически, многие работы на своей стоянке.
Однажды, во время моих летних каникул, родители сказали мне, что съездят в деревню Такеча, которая была недалеко от нашей стоянки, сразу за перевалом. Наверное, поехали за продуктами, подумал я, продолжая заниматься обычными делами.
Отсутствовали родители два дня! А когда вернулись, то увидели, что на стоянке ничего не изменилось, порядок не нарушен, также выпускаются утром и загоняются на ночь коровы, дойные подоены, свиньи и собаки накормлены. Исправно работает водопой. Дома чистота и порядок.
Это означало, что сын вырос и стал хозяином. Подозреваю, что родители, испытывавшие тревогу и чувство вины, от радости прослезились. У отца и матери появилась возможность отлучаться, ездить в соседние деревни, навещать знакомых. Ведь без помощников жизнь на стоянке превращается в нескончаемую работу. Теперь родители могли даже отдыхать и веселиться со своими сверстниками.
Сын стал опорой и надеждой.
Разные люди и разное мировоззрение
Что же такое животноводческая стоянка Восточной окраины России? Автор обязан уделить этому внимание. Без этого читателям не узнать обстоятельств, которые формируют мировоззрение многих и многих наших земляков.
Стоянка – место, где сконцентрирован какой-нибудь вид животных. Как правило, овцы или коровы, кони или верблюды. Дом для пастухов, строения для животных. У бурят-монголов, обычно, стоянка и окружающая местность – семейная, даже родовая территория, здесь их конкретное и постоянное место проживания. Здесь могут быть несколько домов со всеми пристройками. Но стоянки могут быть также летними или зимними. Основные постройки – кошары, расколы, изгороди для животных.
Часто у чабанов или скотников может быть техника – тракторы разных мощностей, мотоциклы или автомобили – личные. Выезженные и смирные лошади – обязательны.
Стоянка – не только место проживания, основной функционал стоянки – место непрерывной работы с определенной целью, в нашем случае – выращивание животных, а также их продукция, для сдачи государству.
Природным животноводам, например, бурят-монголам объяснения в назначении стоянки или каждого вида животного не требуется. Это их образ жизни, который существовал повсеместно до совсем недавнего времени. Ныне такой образ жизни сохранился только в регионах, где, кроме животноводства, других занятий или работы не существует, то есть животноводством занимаются вынужденно, хотя животноводство и вообще сельское хозяйство – их призвание.
А теперь попробуйте представить: насколько мы все разные.
Современным людям и вообще жителям мегаполисов, городов и культурных центров, где развита промышленность и социальная инфраструктура, невозможно представить жизнь в колхозах, на полевых станах и животноводческих стоянках, чувства и мысли их обитателей, их жизнь, насыщенную ежедневными заботами и работами, их человеческие радости и печали.
Не только на планете или в одной стране, но даже в одном административном делении государства разные слои населения совершенно не знают друг друга. Да и обязаны ли они знать? Это совершенно различные по укладу, традициям и культуре люди, не имеющие ничего общего, если убрать идеологическую или территориальную составляющую.
В этой разности формируются разные менталитеты, которые проявляют себя по-разному в одних и тех же ситуациях. При изменении ситуации некоторые люди, воспитанные в одних условиях, становятся террористами, ворами, наркоманами, спекулянтами, в других – не только продолжают оставаться адекватными людьми и надёжными гражданами страны, но и продолжают крепить свои устои. Чем удалённее от «культурных» центров, тем надёжнее и совестливее человек. Таково неизменное правило.
С юных лет я исходил и изъездил почти всю Восточную окраину России, бывал во многих деревнях и сёлах, полевых станах и животноводческих стоянках. Как часто я встречал в степи или тайге детей чабанов и скотников непринуждённо и даже азартно делающих колхозную работу. Они полагали, что так и должно быть. Что коров или овец вовремя надо пасти, поить, а зимой кормить, из сотен животных отличать каждую, знать их норов и повадки.
Очень часто я и сам во время каникул месяцами жил на стоянках родственников и знакомых родителей. Русскую литературу я изучал на сенокосе, во время пастьбы овец или при свете тусклой лампочки на стоянке в ночные часы, когда степь поглощена густой и тёплой темнотой с мириадами мерцающих звёзд, а при мерцании лунной дорожки на ближнем озере видны контуры коней. Очень много таких же детей в похожих условиях постигали школьные науки и азы общечеловеческого образования. Но мировоззрение людей, выросших на природе, в описываемых мной условиях, намного богаче, а жизненные устои – крепче чем у тех, кто обусловлен стенами и другими тисками цивилизации.
С железной уверенностью могу сказать, что дети с таких стоянок во время катастрофических социальных перемен, устраиваемых негодяями всех политических мастей, не становятся террористами и наркоманами, бандитами и ворами, бомжами и чиновниками. Как говорится, это не их стиль… Они были и остаются гражданами страны и солью земли, основой основ любого государства, с годами укрепляясь в мысли о великом значении незыблемых принципов гуманизма.
Закалённые природой, колхозным трудом, интернатским бытом и сельской школой, жесточайшими экономическими потрясениями и диким рынком, многие из этих людей способны развиваться в любых условиях, которые создают правители стран бывшего СССР.
Другими они просто не могли стать. Не об этом ли говорит Дугаров, вспоминая 1970-е годы минувшего столетия?
– Родители после своей первой поездки в Такечи убедились в моей самостоятельности. После пятого и шестого классов на летних каникулах я был, практически, полным хозяином на своей стоянке. В моём раннем детстве мы смотрели за гуртом скота, потом перешли на отару овцематок, после этого снова стали скотниками. Вообще, мне нравилась такая ковбойская жизнь. Это же великая свобода и одновременно великая ответственность.
В нашем гурте было больше 300 коров. Рано утром я выгонял их на пастьбу, вечером загонял во двор. Умел доить, взбивать масло. А это, как минимум, 20, а то и 30 коров. Знал норов каждой коровы. Особенно это важно во время пастьбы.
Изучил корову, которая рвётся уйти вперёд, присмотрелся к животине, норовящей отстать, проследил за теми, кто пытается уйти в сторону. Что это даёт? Таким образом, я вычисляю подстрекателей и провокаторов, которые показывают дурной пример всему стаду. Присмотр нужен за ними. Основное стадо всегда послушно. Осадил ту корову, которая рвётся вперёд, подогнал отстающую, выровнял уходящих вбок, а выйдя к пастбищу, где возможен обзор всех, отпустил стадо пастись. Пастьба скота – это стратегия и тактика, ежедневная практика, уроки на всю жизнь.
Много лет прошло с той поры. Золотое было время!
Не припомню ни одного случая пропажи скота, ни волков, ни медведей не подпустил к гурту. В тайге, где в основном я пас скот, водилось немало хищного зверя.
Утром подпоясался патронташем, дробовик на плечо, взлетел в седло и понукнул коня, выгоняя гурт на пастьбу. И целый день в тайге, на полянах, выпасах. Вечером медленно гоню коров обратно. И снова высматриваю всех подстрекателей и провокаторов, выравниваю стадо. Напоследок проследил за коровой, любящей отставать, за ней уже не будет отставших коров. Все на месте, можно гнать домой.
Обычно на стоянке – весь гурт и я, пастух. Дальше начинаются другие работы. И так в любую погоду. Таких подростков, как я, всегда можно было увидеть в те годы на животноводческих стоянках.
Работы всегда нескончаемо много. Это закаляет физически, вырабатывает ответственность и внимательность. На любой стоянке не только коровы или овцы, но и свиньи, собаки, курицы.
Случалось, иногда я охотился. Тайга же вокруг. В основном, на мелкую дичь. Глухарей, рябчиков. Но больших зверей старался не беспокоить. Зачем? Конечно, рыбачил. А как же без рыбалки? Всё это неотъемлемая часть нашего быта.
Природа покрывается разноцветьем, всеми красками, особенно осенью – багрянцем и золотом. По утрам в небе слышны птичьи курлыканья и переливы. Начинается великое передвижение жизни. А мне пора в школу. Я, как бы, передаю дела родителям.
Так размеренно и текла моя жизнь. Тайга, степь, горы, село, стоянка, работа, школа, учёба. Во время учёбы жил то у родственников, то в интернате, то с бабушкой. Был у нас в селе и свой дом, где жила наша бабушка.
Думаю, что похожей жизнью жили многие мои ровесники. Все навыки и привычки, приобретённые на колхозных стоянках, пригодились потом в армии. Да хотя бы умение мыть полы…
Восточная окраина России
Тут автор обязан сделать ещё одно отступление от повествования основного героя. Мы уже достаточно много раз обозначили наше местоположение словосочетанием Восточная окраина России. Почему и что же это такое?
Восточной окраиной России называется, в основном, Восточная Сибирь, более конкретно – Забайкалье, где до Октябрьской революции на русском (русским шрифтом) и бурят-монгольском (старомонгольским шрифтом) языках издавалась газета «Жизнь на Восточной окраине», издателем которой был известный Пётр Бадмаев. Конечно, наше повествование о более поздних временах, но обозначение Восточной окраины, думается, уместно для географической ориентации читателя. При любых изменениях административно-территориального устройства страны местоположения регионов не изменятся. Несмотря на то, что 4 ноября 2018 года правители страны, не спросив согласия жителей, включили Забайкальский край в состав Дальневосточного Федерального округа, убрав из Сибирского, жители края не перестали быть сибиряками.
Кстати, с 6 апреля 1920 года по 15 ноября 1922 года на территории Забайкалья и всего российского Дальнего Востока существовала Дальневосточная Республика (ДВР), независимое, демократическое государство с капиталистическим укладом в экономике и социальной сфере…
Следующее отступление об интернате.
В своём рассказе Дугаров упоминает школьный интернат. По большому счёту и о самих интернатах, и об интернатской жизни надо писать отдельное исследование. В таком труде особо будет выделяться проживание в сёлах и посёлках бурятских школьников из животноводческих стоянок. С «Уроками французского» В. Распутина и прочей советско-бурсацкой тематикой жизнь бурят-монгольских школьников не имеет почти ничего общего, хотя жизнь русского населения соседствует с жизнью бурят-монголов, входя зачастую в непосредственный контакт и, переходя иногда в естественное родство.
Но всё же жизнь бурят-монгольских школьников из степи и тайги совершенно отличная от прочих, так называемых, советских школьников. Во-первых, сильны народные традиции и обычаи, где обязательное уважение к старшим, опека младших, стремление непременно овладевать грамотой и науками, поддержка обществом всех, кто стремится к знаниям, а также родственные связи.
Все бурят-монголы, жившие в интернатах, сохранили об этом периоде самые лучшие воспоминания, ибо такая жизнь была тем фундаментом, на котором они строили всю свою дальнейшую судьбу. Кстати, мой отец был несколько лет заведующим интернатом. Во всех столкновениях с местными, хотя они и не имели никакого серьёзного значения, мне приходилось выступать за интернатских. Тема мне более чем известна.
Государственное обеспечение процесса обучения, включая сельские интернаты, позволило бурят-монголам достичь небывалого образовательного уровня за всю свою историю только при СССР.
Самодержавная Россия, оторвав народы Сибири, Севера, Дальнего Востока от самобытного развития и обложив данью, не занималась их цивилизованным развитием – культурой и образованием, ибо и сама была отсталой и необразованной страной.
Этим занялись при СССР, которому бурят-монголы обязаны всем…
Глава 4. Закалка, армия, спецназ
Дугаров:
– Школа нам дала всё – грамоту, образование, интерес к познанию. Невозможно представить себя без школы. Кстати, у нас очень были развиты шахматы. Случалось, что я даже призовые места занимал на районных соревнованиях, в своём возрасте очень часто выходил победителем. Проигрывали мы уже в Агинском. Но там была и остаётся сильнейшая шахматная школа Забайкалья.
Традиционно мы занимались всеми видами спорта, которые были развиты в нашей области, но некоторые из них были для нас основными. Естественно, лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, теннис. Борьба, само собой, для бурят обязательна. В одно время я неплохо бегал на дальние дистанции. Школа и наша жизнь были связаны непосредственными занятиями и работой. После окончания школы мы получали права на вождение автомобиля.
Сама жизнь на стоянке и в колхозе – непрерывная физическая закалка и подготовка к экстремальным ситуациям.
После окончания школы я попробовал поступить в институт, но провалил экзамен. Вернулся домой, на стоянку. Занялся хозяйством, не забывал о спорте. Будни? Как описать будни?
Вот один из дней. Зимой, во время каникул, меня навестил мой друг Саян Дамдинов. С раннего утра мы занимаемся гуртом скота, свиньями, изгородями, сеном. Что значит убрать в хлевах за 300 коровами и быками? Сколько они «навалили» в стойлах в 40-градусные морозы? Центнеры, тонны? Представьте себе, что всю эту заледеневшую массу надо убирать, выносить и сваливать в определённых местах, потом делать новую подстилку всему стаду из сенной трухи, соломы, сухого навоза.
Далее: зимой надо выводить животных на водопой, давать сено. И это только часть забот и работ, которые надо делать изо дня в день, без никаких пауз, которые могут привести к серьёзным ущербам и даже трагедиям. И никто за тебя эти работы не выполнит. Человек на стоянке – ответственный человек, работа на стоянке – вечный дозор.
И вот мы с другом видим, что одна из коров упала на льду и подвернула ногу. Лежит, встать не может. До стоянки несколько километров. Приезжает на машине брат Саяна, специалист колхоза. Подтягивает, зацепив вожжами, корову до стоянки. Пришлось забивать бедную скотину. Ведь не выживет. Опять заботы.
Буряты никогда не выбрасывают внутренности животного. Во-первых – грех, а во-вторых и далее – полезна каждая часть. Уж если заколол животное, то, будь добр, использовать всё, вплоть до копыт. И вот мы с Саяном чистим осердие, весь ливер, разделываем тушу, потом сдаём все мясо на колхозной склад. Коровы же – колхозные.
И всё это, от уборки хлевов и стойл до разделки туши коровы, делаем за один день, помимо этого ещё масса работы. Я описываю один день на стоянке в качестве примера.
Так проходят дни, а у многих – годы. По-разному такая жизнь отражается на человеке и его здоровье.
1985 год. Скоро должны призвать в армию. Надо готовиться. Вот я и готовлюсь на своей стоянке: занимаюсь бегом, поднимаю тяжести, расписываю для себя целую программу физической подготовки. Раньше на каждой стоянке обязательно было несколько турников, гири, штанги, зачастую самодельные, из разных металлических деталей. Это могли быть катки гусеничного трактора, куски рельса, щиты для стрельбы из лука, мешки с песком в качестве груши для бокса. Выбор большой, было бы желание заниматься.
Спорт и село
Истоки многих достижений российского спорта – в деревне, на животноводческих стоянках, где выросли сильнейшие спортсмены, поднявшиеся на мировые пьедесталы почёта. В моём архиве хранится множество фрагментов видео, где мои земляки занимаются конным спортом, лёгкой и тяжелой атлетикой, борьбой, стрельбой из лука. Пройдёт немного времени и достижения каждого из них будут зафиксированы на больших соревнованиях и чемпионатах, эти достижения проявятся в период армейской службы, во время военных конфликтов, в так называемых «горячих точках».
Естественно, спорт отразился и на судьбе Дугарова.
Конечно, кроме сельских учителей физкультуры никто Дугарова специально не учил и не готовил к спортивным достижениям. С одной стороны, кроме непременных обязательств, которыми насыщена жизнь животноводов, есть у степных и таёжных ребят великая воля и свобода выбора – делать себя таким, каким тебе и хочется быть. Каждый занимается по желанию: боксом, борьбой, стрельбой, бегом, поднятием тяжестей, прыжками, изучением различных технологий или наук. Многим может и обязан заниматься целеустремлённый человек. Во второй половине XX века в сёлах и школах Восточной окраины большинство школьников были целеустремлёнными спортсменами, у каждого была своя цель. Сама жизнь система образования воспитывали таких людей.
– Ещё учась в школе, я мечтал стать десантником, но о спецназе не знал. Догадывался, что есть особые части, в которых особые бойцы выполняют особые задания. Но конкретно об этом ничего не знал. Как я мог знать об отдельных отрядах спецназа?
Наверное, человек ничего не знает о своих возможностях. Думая так, я испытывал себя. На стоянке, в перерывах между тяжелым физическим трудом я постоянно занимался бегом. Это было моим увлечением. Расстояние – от 10 и более километров. Прекрасные ощущения во время таких тренировок. Даже усталость не избавляет от чувства удовлетворения, ведь так я проверяю собственные возможности. Основное физическое достоинство человека – выносливость и выдержка. Что толку от великана, который задыхается на первой же минуте? Ведь главная мышца человека – сердце, тренировать надо его.
Об армии… На селе об армии говорят часто. Взрослые вспоминают, юноши готовятся. Слышал я, что тяжело служить первый год. Следовательно, надо подготовиться, уметь в любой обстановке постоять за себя, служить, как подобает настоящему воину.
В общем, надо надо делать из себя мужчину.
Это потом, на службе, я увидел разные типы служак. Встречаются слабые в смысле физической подготовки, другие – вообще не приспособлены к быту, некоторые даже ухаживать за собой не могут, не говоря о приготовлении пищи, выживании в одиночестве, в экстремальных ситуациях. Армия перевоспитывает всех.
Всегда отличаются деревенские ребята: эти и физически готовы к труду и обороне, и в плане образования на высоте. Но это потом, потом, а пока я занимался работой, что немало укрепляло тело, и бегом, ставя цель – закалиться и выработать выносливость.
Кстати, занимался я и боксом. Ещё со школы. На соревнования выезжал, участвовал даже в областных соревнованиях. У меня уже был второй разряд по боксу. Там, где я жил, работал или учился, всегда висели груши, вокруг которых я отрабатывал удары.
Можно сказать, что я целенаправленно готовил себя для службы в армии. Вообще-то, раньше у нас каждый мальчик мечтал о службе. Ребята даже не знали, что можно «откосить» от армии…
Призвали меня в апреле 1985 года. Служить из района отправилось много парней. Только из нашего класса – двое.
Никто, конечно, о дальнейшей армейской судьбе не имел представления, но какие-то едва заметные очертания будущей службы, проявились уже на призывном пункте. У некоторых ребят врачебная комиссия выявила изъяны и физические недостатки: у кого-то гайморит, кто-то болел лёгкими, у следующего была застарелая травма, другой подкачал ростом, а третий – зрением, четвёртый – слухом и т. д. и т. п. Не в обиду городским людям, но чаще всего, недостатки обнаруживают у них.
Может быть, в нормальной жизни никто бы и не заметил этих особенностей, но армия – это специфика, где учитывают всё. Не знаю, как сейчас, но в моё время отбор был серьёзный. Я был даже удивлён, когда врачебная комиссия никаких изъянов у меня не обнаружила. Все органы признали совершенно здоровыми.
Чтобы это значило, что из этого следует? А следует, конечно, то, что парень будет служить в самых трудных и горячих местах. Не слабаков же туда отправляют? Но это я понял уже в учебке.
Естественно, что мои самостоятельные занятия физической подготовкой проявились, можно сказать, сразу. Стало понятно, что на областном призывном пункте специально отбирают самых здоровых, не в смысле крупных, а именно физически здоровых, ребят. Потом я понял: упор делали на мобильность и выносливость, а не высокий рост и груды мышц.
Тогда мы, конечно, не знали мотивов отбора, но среди призывников шелестел слух: отбирают в десант, в те самые ВДВ.
Итак, среди физически здоровых ребят, прошедших по условиям отбора, оказался и я, потом заметил ещё одного бурята из числа призывников, прибывших в те дни на призывной пункт. Остальные ребята – русские. Все отобранные из разных районов Забайкалья.
Потом нас выстроили, как на осмотр. Собственно, такое построение было для покупателей, так на призывных пунктах называют представителей военных частей, которые набирают пополнение для своих подразделений.
Нас было шестьдесят человек. Будущие десантники весеннего призыва 1985 года из Читинской области. Уроженцев из Дульдургинского района среди этих крепышей было двое – Балдан Дугаров, то есть я, и Василий Бородин, которого призвали из Читы.
Появились покупатели. Высокий русский старший лейтенант Бех и коренастый азиат, капитан Пак. Осмотрели нас, остались довольны: то, что и требуется части.
Когда повели строем за пределы призывного пункта, я, до этого не выезжавший далеко из предгорий Алханая, обратился на бурятском языке к офицеру-азиату.
– Ахай, куда мы отправимся? Ахай – это брат…
Капитан рассмеялся, а за ним рассмеялись и все остальные.
Это было моим очередным знакомством с действительностью: планета большая, на ней живёт много разных людей, причём не только русских и бурят. Капитан Пак оказался корейцем…
Неровным строем нас ведут к машинам. Никто не говорит о пункте прибытия.
Мы ещё даже о присяге не знаем, но уже в Советской Армии.
Советская Армия
Так начались армейские дороги Дугарова.
Наверное, тут надо сказать, что жизнь – это, также, и расстояния, которые увеличиваются вместе со временем. От села Алханай до города Читы – 210 километров. Немного.
Шестьдесят парней из деревень, посёлков и городов Читинской области ещё не знают, что они попали в особое подразделение, откуда отправляют только на войну. Все они попадут в Афганистан. Некоторые не вернутся домой.
Необходимо вкратце сказать и о Советской Армии.
Что современники знают о Советской Армии, несмотря на колоссальное количество информации в мировой сети? В дань уважения к прошлому и военным формированиям, через службу в которых прошли миллионы наших соотечественников, я пишу эти слова с большой буквы.
Аббревиатура СА была известна всему миру.
Советская Армия – так назывались основные формирования Вооруженных Сил Союза Советских Социалистических Республик за исключением внутренних, пограничных войск, а также военно-морского флота.
Эти формирования стали называться Советской Армией после второй мировой войны, в феврале 1946 года. До этого они именовались Рабоче-Крестьянской Красной Армией, сокращенно РККА или Красная Армия. Датой создания принято считать 28 января 1918 года. В декрете о создании РККА были такие слова:
«Рабоче-крестьянская Красная Армия создаётся из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс. Доступ в её ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма».
После непонятного до сих пор народам страны Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года о роспуске СССР Советская Армия прошла долгий и мучительный путь до полного расформирования и возникновения в отделившихся друг от друга государствах уже другими армиями наподобие ныне существующей Российской армии.
В этой книге мы особо выделяем подразделения специального назначения, известные как спецназ ГРУ. Кстати, 24 октября принято считать Днём подразделений специального назначения Вооружённых сил России.
Нас интересует деятельность таких подразделений в Афганистане в середине 1980-х годов, где служили шестьдесят парней, отобранных на призывном пункте Читинской области. Один из них – Балдан Дугаров.
Займёмся поисками нужной информации.
Спецназ ГРУ в Афганистане
Необходимость ввода армейских подразделений СССР в Афганистан была предопределена всем ходом событий того времени. Если бы не вошли мы, то вошли бы США. Это очевидно сегодня. Что же делал спецназ ГРУ в 1980 годах?
Передо мной книга «Спецназ ГРУ. Самая полная энциклопедия». (Здесь и далее буду давать ссылки на источники используемых материалова).
Теперь, изучая книгу, можно сказать о событиях, которые не могли застать ребята весеннего призыва 1985 года.
В одном случае эта книга имеет двух авторов – Александр Колпакиди и Александр Север. https://goo.gl/7yAdFX в другом – только Александра Колпакиди – https://goo.gl/TwVGWS
Без сведений из этой книги нам не понять о назначении и боевой деятельности отдельных отрядов специального назначения.
Вот несколько абзацев:
«На начальном этапе боевых действий в составе 40-й советской армии из спецвойск находились разведывательные подразделения ВДВ.
Однако опыт показал, что они, как и армия в целом, не были готовы к антипартизанской войне, и с осени 1980 года началось усиление спецназа 40-й армии.
Одной из основных задач был поиск и уничтожение душманских караванов, доставлявших оружие и военную технику из сопредельных государств. Для этой цели использовались различные боевые подразделения, но главная роль отводилась силам спецназа ГРУ.
Еще в декабре 1979 года в Чирчике (Узбекистан), была сформирована 469-я отдельная рота специального назначения. Она прибыла в Афганистан в феврале 1980 года. До весны 1984 года рота вела боевые действия в одиночку, от случая к случаю привлекалась для выполнения отдельных заданий. Рота находилась в Кабуле до 15 августа 1988 года.
В конце 1981 года в северные провинции Афганистана перебросили 154-й (1-й батальон, бывший «мусульманский») и 177-й (2-й батальон) отдельные отряды специального назначения. В целях маскировки они именовались «отдельными мотострелковыми батальонами» – 1-м и 2-м.
154-й отряд был размещен в г. Акча на севере Афганистана, а в августе 1982 г. переведен в г. Айбак соседней провинции Саманган. Его первым командиром в Афганистане был майор И. Ю. Стодеревских.
177-й отряд был сформирован в феврале 1980 год из разведчиков Чучковской 16-й бригады спецназа (МВО) и Капчагайской 22-й бригады (САВО), командир – подполковник Б. Т. Керимбаев. Отряд пересек границу в сентябре 1981 года, а через неделю вступил в бой».
В следующих главах, по мере необходимости, я продолжу публикацию отрывков из этой и других книг современных авторов о спецназе ГРУ.
– Из призывного пункта Читы машины привезли и выгрузили нас на аэродром. Ого, промелькнуло у многих в голове: далеко полетим, наверняка, не останемся за своими огородами.
Был конец апреля. В Забайкалье – снег, метели, морозно! Призывники, надеясь на весну, одеты легко – туфли, трико, рубашки. Ёжимся от холода, простужаемся, некоторые чихают.
Всю команду погрузили в два небольших транспортных самолёта. Кажется, АН-26. И вот Забайкалье осталось позади. Но летели недолго. Приземлились в Иркутске. Не теплее, чем в Чите.
Неужели тут будем служить?
Большинство из нас до этого никогда не выезжали за пределы своих сёл и районов, а городские – за Читу. Пока мы оглядывались и даже толком не успели осмотреть аэродром и новые для нас места, как раздались команды. Группы объединили в одну, всех погрузили в большой самолёт ТУ-154. Значит, полетим дальше.
Освоились, разговорились в салоне, потом через некоторое время снова взревели моторы, самолёт затрясся и ринулся неожиданно по взлётной полосе.
До свидания, Иркутск, Забайкалье, Дульдурга, Алханай, родное село и родная стоянка!
На этот раз летели долго.
Ребята задремали. Чувствуем: климат меняется.
Приземлились в Алма-Ате.
По сравнению с забайкальским апрелем здесь – рай. Убаюкивающая и успокаивающая теплынь, вокруг зелёные горы и высокие деревья, люди в летних одеждах.
21 апреля 1985 года. Кто-то из ребят говорит, что шестой год идёт война в недалёком отсюда Афганистане. Но разве большинство из нас думает об этом? Алма-Ата – это тепло, волнующие чувства зелень и цветы, нарядные люди. Неужели будем здесь служить? Хорошо бы! Ведь здесь у меня родственники, двоюродные сёстры Жамбаловы, можно будет встречаться с ними. Конечно, я найду их, это же не проблема.
В таких думах я погрузился в сладкие мечты, но тут снова раздалась команды, засуетились офицеры, началось общее построение. Снова объявили посадку в самолёт. Снова летим. Совсем недавно мы были в Чите, но уже чуть не через всю страну пролетели!
В третий раз приземлились ночью. В Ташкенте. Самый тёплый город СССР. Из холодного и насквозь иссеченного ветрами Забайкалья мы попали в жару и покой. Даже жарче чем в Алма-Ате. Оказывается, на земле много райских уголков. Ташкент – самый лучший из них!
Чувствуется, что отсюда мы уж не полетим никуда.
Прибыли военные «уралы», сразу видно – воздушно-десантные войска. Эмблемы, береты, тельняшки. Загорелые, смуглые и мускулистые бойцы повезли нас в часть. Привезли в учебный полк, в просторечии – учебка, в километрах сорока от Ташкента.
Выстроили, пересчитали, повели в казармы.
Очень скоро мы будем десантниками! Это же здорово, что мы будем служить в таком благословенном месте.
С такими блаженными мечтами забайкальские парни, никогда не видевшие и не знавшие тёплых краёв, погрузились в сладкий сон после долгого перелёта через всю страну.
А утром…
Глава 5. Чирчик – путь в Афганистан
– А утром – невыносимая духота! Места себе невозможно найти. Лучше были бы забайкальские морозы… Куда мы попали?
Неужели придётся служить в этом пекле?
Часть благоустроенная, есть, хоть и маленькие, фонтаны, мы сгрудились, как обезвоженный скот, вокруг них. Пьём тёплую воду и не можем напиться. Вода есть, но всё время кажется, что её не хватает или она вот-вот кончится.
Через некоторое время стало проясняться, что мы, шестьдесят забайкальцев, попали в учебный полк воздушно-десантных войск специального назначения. Начинаются построения, переклички, офицеры ходят с учётными карточками каждого. Вызывают, куда-то увозят, куда-то причисляют.
Чирчик, знаменитый 467-й отдельный учебный полк специального назначения ГРУ, в/ч 71201. Таких на весь СССР было всего два – в Чирчике близ Ташкента и в Печорах Псковской области. Чирчикский – жестокий и крутой, это афганская учебка для спецназа. Говорят, что учебка в Чирчике активизировалась в полную силу только с 1985 года, а до этого основной контингент поступал в отряды спецназ из Печор.
Письмо из Чирчика
Приведу отрывок из подробного письма Дугарова из Чирчика будущей жене. Письмо написано 18 мая 1985 года, за восемь дней до принятия им присяги.
В этом отрывке – большая тема, целая характеристика призывников из сельской местности, наученных простому быту с раннего возраста и не имеющих понятия о подлостях выживания, унижении других и прочих различиях в менталитете и воспитании людей.
«Здравствуй дорогая моя Баирма.
С огромным армейским приветом Балдан…
Конечно, трудно служить в ВДВ. Тут ещё жара невозможная – плюс сорок градусов, а летом, говорят, достигает до шестидесяти.
26 мая у нас присяга, а в июле будем прыгать с самолёта…
Сержанты гоняют всех. Они не любят слабых. Но я же колхозник. И подшиться умею, и одежду постирать, и полы помыть, и бегать. Поэтому уважают. В нашей роте разные нации. 2 таджика, 1 казах, 2 бурята, много русских и украинцев…»
От города Чирчик в Узбекистане до села Алханай Забайкальского края – 5 596,5 километра. Впереди у Дугарова и забайкальских ребят из его призыва были ещё сотни километров и два года службы, из которых полтора пришлись на Афганистан.
Как формировались части специального назначения для ведения антипартизанской войны в Демократической Республике Афганистан? (Так в то время называлась страна). Опередим события, обратимся к интернету, и, изучив множество самых разных сведений, скажем, что части специального назначения появились в Афганистане до начала ввода подразделений 40-й армии ВС СССР.
Поскольку большинство населения Афганистана по своему национальному составу родственно народам Средней Азии СССР, то спецназ Чирчика комплектовали военнослужащими Среднеазиатского и Туркестанского военных округов, отдавая предпочтение солдатам и офицерам из Средней Азии – узбекам, туркменам, таджикам, казахам, киргизам и т. д. Естественно, они обязательно должны были иметь хорошую физическую подготовку, иметь базовые технические знания, кроме русского языка владеть языками народов Афганистана.
Ведь Афганистан – продолжение Средней Азии СССР, развитие которого застыло на уровне басмачества времен 1920-1930 годов, известных нам по советским фильмам. Приграничье Афганистана исторически должно быть населено потомками басмачей, вытесненных из Средней Азии Красной Армией.
У самой границы неспокойной страны формировалась воинская часть, превосходящая наиболее воинственные черты мужчин разных племён, проживающих в Афганистане. Численность отряда спецназа по разным сведениям доходила до 500 с лишним военнослужащих. С высших офицерских курсов был отозван и назначен командиром этого отряда майор Хабиб Таджибаевич Халбаев.
Так появился «мусульманский» батальон.
Заметим, что отряд изначально не мог быть абсолютно среднеазиатским. Армия требует разные уровни подготовки солдат и офицеров, разных специалистов. Если во второй мировой войне каждый немец мог водить автомашину, то в Красной Армии не каждый солдат видел трактор или ещё какую-нибудь технику. Также и в случае войны в Афганистане: несмотря на всеобщее среднее образование в СССР, операторов боевых машин, механиков-водителей, радиооператоров, связистов искали по всем частям Советской Армии, а потому батальон специального назначения Х. Т. Халбаева был самым разным по национальному составу.
Несколько месяцев шла непрерывная подготовка для выполнения специального правительственного задания. Занимались не только физическими тренировками, но и тактикой, особыми дисциплинами, присущими для спецназа, а именно – стрельбой из всех видов имеющегося на тот период оружия, рукопашным боем, мастерским владением холодным оружием, подрывным делом, маскировкой, длительными переходами.
Уже была известна задача правительства СССР: Афганистан не должен превратиться в боевой и вооруженный плацдарм империалистов, готовый нарушить южные рубежи нашей страны. (Кстати, таким он и стал сразу после ухода наших войск в феврале 1989 года).
Решение о вводе войск было принято кремлёвскими старцами.
С высоты сегодняшних дней, обозревая мировую карту и наблюдая то, что творится на южных границах России и происходит по всей стране, особенно – убийственный разгул наркомании, можно сказать, что решение о вводе войск в Афганистан, несмотря на все признанные и не признанные ошибки, было правильным. Доводы? Жизнь в СССР может представать кому угодно какой угодно, но в стране не было ни терроризма, ни бандитизма, ни наркомании, ни коррупции в столь масштабных и пугающих объёмах, как сейчас.
Вернёмся к теме. «Мусульманский» батальон был переброшен в ДРА армейской авиацией в ноябре 1979 года. Задачи менялись в процессе: батальон должен был стремительно захватить Тадж-Бек, резиденцию правительства, находившую в Кабуле. Сегодня известно, что операция носила название «Шторм-333».
Этот шторм раскачал и вызвал противодействия всех племён многонационального Афганистана.
На сегодня имеются воспоминания некоторых очевидцев и участников, которые пишут, что перед самым штурмом (в декабре 1979 года) бойцы спецназа оказались вместе с охраной. В это же время отряд усилился двумя прибывшими ротами ВДВ, которые высадились в аэропорту Кабула.
Десантникам и спецназовцам, а это примерно 600 с лишним человек, противостояли почти 2500 человек. Получилось 1 к 4, на роту приходился батальон. Дворец охраняла целая бригада: три мотопехотных и один танковый батальон.
Штурм подготавливали две спецгруппы КГБ. Предварительно была изучена вся прилегающая к дворцу территория и расположение помещений самого дворца, особо отмечены точки нахождения противника. Каждый боец имел на руках подробные планы дворца и размещённых в нём целей. Дворец был взят.
В конце декабря 1979 и начале января 1980 года наши войска, преодолев 11 перевалов, 7 из которых выше 4 000 метров, перешли Памир. Поверить в такое невозможно. Мир и не верил. Но это случилось. Аналогов такому переходу нет.
Нас интересуют последующие после взятия Тадж-Бека и ввода войск события, возникновение учебного подразделения на базе «мусульманского» батальона и других отрядов спецназа, созданные из них группы охотников за караванами, одним из которых был Балдан Дугаров.
– В учебке обратил внимание, что в части очень много ребят из Средней Азии.
Командир полка – подполковник Халбаев Хабиб Таджибаевич.
Нас, двоих бурят, распределили в первую, сержантскую, роту. У каждой роты своё назначение. Гуляют разговоры об Афганистане, войне, особых частях советской армии, состоящих из мусульман.
Теперь уже нет никаких сомнений: мы – спецназовцы.
Начались занятия. Обучают всему понемногу, но физическая подготовка, особенно мобильность и выносливость, а также знания разных видов оружия на особом счету. Специализация – отдельно. Минеры – мины, разведчики – разведка, снайперы – стрельба. Слышу, что офицеры говорят о бурятах. Видимо, служили в Забайкалье. Говорят, что буряты – замечательные солдаты и стрелки. Думаю, почему только мы, когда все остальные, особенно ребята из Северного Кавказа, отлично бегают, стреляют, дерутся?
Говорят, что в учебке тяжело. Особенно бег на несколько километров. Сначала думал, что никакие трудности и тяготы для меня не страшны, что преодолею любые препятствия. Ведь на своей стоянке я пробегал намного больше, а работы были очень тяжелые. Но в учебке я столкнулся с такой подготовкой, перед которой вздрогнет любой гражданский человек, каким был подготовленным и крутым спортсменом он ни был…
Из шестидесяти забайкальцев в первую, сержантскую, роту попали человек девять, остальных раскидали по другим подразделениям. В части – весь СССР: украинцы, белорусы, чеченцы, казахи, русские, узбеки, киргизы, литовцы – все республики и национальности. Программа обучения жёсткая, спуска никакого.
Через три месяца учебки в Афганистан отправили первую партию нашего призыва из Забайкалья. Эти ушли рядовыми. Ещё через три месяца остальные догнали их младшими сержантами.
Мы уже слышим и видим войну. Рассказы гуляют разные. Говорят о раненных, лишившихся рук и ног, убитых, грузе «двести», «триста», душманах. Слова моджахед тогда мы не знали.
Настроение – от бодрого до горестного. Кто может точно сказать, что случится впереди? Попадёшь ли ты на войну и вернёшься ли оттуда живым? Но служить надо. Выдержать надо. А это означает, что служить надо хорошо, не падать духом. Быть предельно внимательным и учиться. Так я решил.
Человек может измениться за очень короткое время. Тренируясь в учебной роте на снарядах и перекладинах, бегая по горным тропам, изучая различные виды оружия и стреляя из них, кидая ножи, разве я мог предположить, что буду сидеть в засадах, стрелять в конкретных людей и встречаться с душманами лицом к лицу? Завтра всегда далеко и нереально, но оно всегда наступает.
Жизнь зачастую меняется не по воле человека. Он должен принять эти изменения и выйти из них, сохранив себя.
Письма. Как готовили в Афганистан
Дугаров будущей жене.
«Здравствуй дорогая моя Баирма!
Во-первых о себе: жив, здоров, служба идёт своим чередом. Ты меня извини, что перед призывом я не зашёл к тебе. Не успел. Ночью приехал со стоянки из Тарбагатая, а рано утром выехал в Дульдургу. Новостей тут много. Короче, служу в воздушно-десантных войсках в городе Чирчик Узбекской ССР, Ташкентской области, Туркестанский военный округ.
Адрес: 702100, Ташкентская область, г. Чирчик-17, в/ч 71201 «А».
Конечно, нелегко служить в таких войсках. В пехоте, наверное, легче. Но ничего, выдержу, время покажет. Тут слишком жарко, всё время выше 30 градусов жары. А что будет летом? У нас ещё весна, а тут всё цветёт.
Шесть месяцев буду проходить учебку. Иногда просто хочется сбежать. Но я же опозорю весь бурятский народ. Говорят, что скоро по 70 километров с боекомплектом будем бегать».
«Привет из Чирчика!
Здравствуй моя дорогая Барима!
С огромным армейским приветом пишет тебе твой Балдан.
Во-первых, о себе: жив, здоров, служу хорошо. Во-вторых: получил твоё письмо и очень обрадовался. Знаешь, твоё письмо меня подбадривает, заряжаюсь на много дней, никакие трудности не пугают.
Вот сижу сейчас и думаю какой я везучий: девушка написала, что любит, все свои школьные годы мечтал служил в воздушно-десантных войсках, да ещё в жарких края. Всё сбылось! Когда я учился в 6 классе, прочитал в газете статью, которая была именно про нашу часть, кажется, там было написано «Бригада Чирчика». И фотография – десантники в панамах. Тогда я в первый раз увидел военную панаму и думал, что когда-нибудь и я буду носить. И вот – ношу!
В первые дни службы мечтал иметь в Ташкенте знакомых. Опять мечта сбылась. Есть даже не то, чтобы знакомые, а близкие родственники. Это семья нашей Хандаевой Баирмы-абгай. Она вышла замуж за офицера, старшего лейтенанта, зовут его Цымпил, он родом из Табтаная. Он служит на пересыльном пункте. Так вот, во время моего дежурства в столовой прибегает мой друг Кузя, Игорь Кизяев, из Читы и кричит: «Радуйся, Балдан, к тебе приехали!». Сказал сержанту, он меня сразу снял с наряда. Выскочил пулей из столовой и побежал на КПП. А там Баирма-абгай с мужем стоят. Поцеловала меня. Так тепло стало на душе! Потом думаю, что они тут проездом. А они говорят, что живут и служат здесь.
Теперь приезжают. Каждый раз привозят сладости.
Уже три раза были!»
«Здравствуй дорогая моя Баирма!
С огромным армейским приветом пишет твой Балдан.
Жив, здоров, служу нормально. Получил от тебя письмо. Спасибо.
Немного о солдатской жизни. Вчера у нас был выход в горы. Поначалу было интересно. Выдали сухой паёк. Там паштет, скумбрия, каша. Естественно, мы в полном обмундировании и снаряжении. Пешим шагом прошли десять километров до аэродрома. Там сели в вертолёт и улетели километров за двадцать в горы.
Вертолёт завис, мы спрыгнули где-то с 2 метров. Встретила нас какая-то рота холостыми выстрелами из автоматов. После этого мы получили задание: выйти по карте на заданную высоту. Почти бегом одолели 10 километров, прошли через 5 гор и вышли в заданный район. Горы здесь не как у нас. Крутые, выше раза в два, стоят близко друг к другу, очень глубокие ущелья и овраги. А жара – плюс сорок пять градусов.
Короче, я чуть не помер.
Самой высокой была последняя гора, чуть ли не километр высота, такая крутая, почти вертикальная. Забирались только ползком. Пить охота ужасно. У меня фляжка полтора литра, ещё на весь взвод десять литров. Всё выпили. С 7 часов утра до 9 часов вечера ничего не ели. Только пили воду.
Там один парень со второй роты вырубился, не мог идти дальше. Ребята таскали его на себе. У меня болели ноги в коленях, тоже хотел упасть и не вставать. Но совесть не позволила. Не я один, все – смертельно уставшие, никому неохота таскать на себе кого-то.
Третий взвод прибыл в 3 часа ночи. Короче, у нас тоже вырубились три человека. Я пришёл в расположение как призрак. Даже есть не хотелось. Только пил и пил. А потом блевал. Целое ведро. И опять пил. Никак не мог напиться. Попробовал курить, но стал как пьяный. Ведь я никогда не курил.
Тут кроме меня все курят.
Все кругом такие злые, чуть что – грызутся. Не знаю почему так. Как я выдержу такие испытания? Сержанты говорят, что мы скором будем бегать по этим горам, а не просто передвигаться. А я думаю, что сдохну тут. Теперь не очень-то рад, что попал в ВДВ.
Баирма, решай твердо. Я не могу скрывать. Не хочу, чтобы ты ждала меня два года, а потом осталась одна. Дело в том, что я могу не вернуться. Короче, буду служить в Афганистане. Не думай, что я написал заявление. Просто по случайности я попал в такую часть, где готовят только ТУДА и больше никуда. В любом случае отправят в Джелалабад, где стоит наша бригада. А это самое опасное место на границе с Пакистаном. Конечно, нам рассказывают, что умирают только по глупости. А когда я был дома, то кто-то рассказывал, что однажды ушли на задание разведчики по 10-20 человек и не вернулись. А я ведь тоже буду разведчиком, сержантом.
В общем, меня ждут такие же боевые выходы.
Пойми меня правильно, Баирма. Я люблю тебя и не могу без тебя. Если вернусь, то всю жизнь буду проклинать себя за то, что написал такое письмо. Если дождёшься, то какое у меня будет счастье! Всю жизнь буду тебе настоящим другом.
За меня не мучайся. Ты не рождена для мучений. Живи счастливо. Я только здесь понял что такое настоящая жизнь. Если я вернусь, то буду настоящим человеком.
Знаешь, как мне жалко родителей. Не скрываю, по вечерам, когда вспоминаю родителей, то слёзы сами текут. Как они будут жить без меня, если не вернусь?
Но знаешь, мечты мои сбываются. Вот я мечтал служить в ВДВ и только в тёплых краях, много бегать, выдерживать трудности, закончить службу в Афгане, вернуться домой. Может быть, эти мечты сбудутся до конца, и я вернусь домой?
Пойми меня правильно.
Твой Балдан».
«Здравствуй дорогая моя Баирма!
С огромным армейским приветом пишет тебе Балдан. Как и обещал, отправляю фото. Немного о себе: жив, здоров. Четвёртые сутки отдыхаю в санчасти. Мог бы и не писать про санчасть, но всё прошло. Хожу без костылей. Нет, я не сломал ногу. Тут я сам виноват. У меня были мозоли, я терпел, подумаешь – обыкновенная мозоль. Но она с каждым днём увеличивалась. Я уже через силу бегал в сапогах по 20 километров. Однажды после такого бега снял сапоги, а нога так опухла, что уже ходить не мог. Сказал сержанту. Ребята отнесли меня в санчасть.
Таких случаев много. Сами виноваты. Но есть и такие ребята, которые с первой царапины норовят перебраться в тапочки. У нас таких не любят, а то и презирают.
Баирма! Поздравляю тебя с окончанием 10 класса. Желаю успешно сдать государственные экзамены. Не грусти, расставаясь с одноклассниками, ведь вы не связаны дальнейшей судьбой.
Мы здесь спим всего три часа. С 10 до 3 часов ночи бегаем и лазим по горам с автоматами и рюкзаками, набитыми наполовину камнями. В конце июня начнём прыгать с парашютом. Изучаем боевые приёмы. Пока дойдёт письмо до тебя, буду уже снова в строю. Бегать, прыгать, ползти, рано вставать, поздно ложиться. Думаю, что через месяц привыкну.
За меня не бойся, я теперь осторожный. Ответ напиши сразу. И отправь фотку, она мне очень нужна.
Получил зарплату 10 рублей. Денег уже нет. Купил кое-что, за фотки заплатил 3,50, на присягу оставил 2 рубля.
Жди меня. Твой Балдан»
«Здравствуй моя Любовь!
Из сурового мужского коллектива с суровым мужским приветом пишет тебе Балдан.
Жив, здоров, служу хорошо. Получил твоё письмо с фото и очень обрадовался. Короче, пришел с учебного выхода в горы, вернулся, а меня ждали целых пять писем!
Мечтаю, что когда приеду домой, то поедем с тобой по путёвке в Сочи, ведь после службы мне нельзя будет ездить за границу в течение пяти лет.
Этот учебный выход длился 7 суток, были на высоте 3000 метров, прошли 80 километров. Жара всё время невыносимая.
12 октября начнутся экзамены. Был в увольнении и случайно встретил своего командира взвода. Спросил – буду ли я сержантом? А он отвечает, что если я не стану сержантом, то кто же тогда станет? Заверил, что буду самым лучшим сержантом. Не знаю, не знаю, посмотрим через две недели.
Думаю, что физподготовку, строевую, огневую, тактическую сдам на «отлично», а политическую на «хорошо». На топографию надо поднажать. Есть ещё две недели.
Насчёт Афгана пока ни слуху, ни духу. Одни говорят, что всю сержантскую роту оставят в Союзе, другие, что отправят только половину состава, третьи утверждают, что отправят всех.
Наверное, никому не надо верить. Пусть будет так, как и будет.
В это воскресенье мне дали увольнительную за то, что хорошо бегал. Но у меня не было ни одной копейки
Баирма, давай мы поженимся, когда мне будет 23 года. Ты согласна или нет? Извини за глупости. Ты на бурятском языке написала «Би шамда дуртэм», а надо «Би шамда дуратайб». На этом заканчиваю.
Целую, Балдан».
(«Я тебя люблю» на бурятском языке – «Би шамда дуратайб» – Прим. авт).
«Привет из Чирчика!
С огромным армейским приветом пишет тебе твой Балдан.
Во-первых: как твоё здоровье, учёба, настроение? Я жив, здоров, служу нормально. Начались экзамены. Сдал 4 экзамена. Из них 2 на «отлично», 2 – на «хорошо». Осталось ещё пять экзаменов.
Потом напишу обо всех оценках.
Больше не пиши мне по этому адресу. Короче, уезжаю в Афган. В общем, вся наша рота до 20 числа уедет в Афган. Пока дойдёт это письмо, я уже буду за речкой. Буду воевать с душманами.
Сейчас холодно, ночью шёл дождь. Листья помаленьку начинают желтеть. Завтра должна приехать Баирма-абгай. И родители приедут.
На этом заканчиваю. Жди меня любовь моя. Я ещё вернусь»
– Через полгода учёбы и тренировок нас выпустили младшими сержантами. Теперь мы – командиры отделений спецназа ГРУ ВС СССР. О дальнейшей службе представлений мало.
Потом я узнал, что наш спецназ в Афганистане сконцентрировался в середине 1980-х годов. Это две бригады, в которых восемь отдельных отрядов специального назначения. В каждом отряде по пятьсот с лишним человек, три боевые роты, авторота и хозяйственная рота, отдельно группы минёров и связистов. Допустим, из нашей роты формируется боевая группа для выполнения задания. Мы берём себе отдельно минёра, связиста, ещё кого-нибудь из специалистов. Конечно, каждый из нас знает основы военной связи или минного дела, но только – основы, специалистов готовят отдельно. Такая ситуация отрабатывается во время учебных занятий, а потом применяется – в боевой обстановке.
Но всё это было потом. Пока была учебка, ожидание. Конечно, никто из нас не мог даже представить засады, смерть друзей.
Глава 6. Разное время – разные письма
Такие письма показывают характер, изменения состояния, историческое время. Вот письмо Дугарова своей будущей жене от 21 октября 1985 года.
«Присвоили звание младшего сержанта. Пока ходим без погонов. Про отправку не знаю. Говорили, что поедем 19 октября, но потом отменили. Теперь намечают 23-го, ночью. Что-то новое. Ничего не известно. Короче, человек 10 оставили. Может быть, отправят чуть позже, возможно, оставят. Ещё 8 человек точно останутся, они уже зачислены в подразделение. А нас, 10 человек, что-то задерживают.
