Коммунизм сегодня
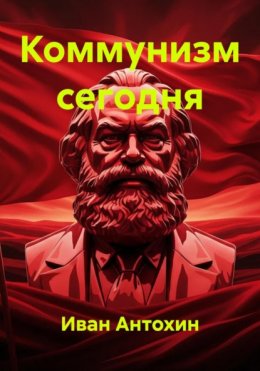
ВВЕДЕНИЕ
«Сказкам о призраке коммунизма» можно посвятить целую выставку с презентациями различных фантастических утверждений, которые были даны за последние десятки и сотни лет, но за последние десятки и сотни лет коммунизм так впитался в общественное сознание, что мало для кого он, в качестве некого образа, будет открытием. Одним он представляется в виде Советского прошлого, другим – как невозможная утопия. Причём оба взгляда имеют как своих противников, так и своих сторонников. Коммунизм в виде Советского прошлого для одних будет убогим тоталитаризмом, для других – тоталитаризмом сильным и справедливым. Коммунизм в виде утопии для одних будет бредом, для других – целью, к которой стоит стремиться, даже если дойти до неё невозможно.
Утопия, о которой так любит говорить нынешний правящий класс, имеет под собой основание внушить своим сторонникам определённую идеологию для обоснования своего господства и права на частную собственность, тогда как рабочим она объясняет, что их положение является чем-то нормальным, ведь если человек хочет стать богатым, то он найдёт способ им стать и право у него такое есть. Но если не захочет, или если человек не обладает необходимой смекалкой, то он так и будет всю жизнь впахивать на заводе. Поэтому с точки зрения сторонников капитализма такое положение вещей представляется справедливым и честным. Более того, в их понимании только так общество работать и может, ведь коммунизм якобы убивает конкуренцию, которая единственная и может быть двигателем прогресса – как иначе без материальной мотивации? Материальная мотивация создаётся принуждением, которое коммунизм отрицает. «Но ведь без принуждения никто не будет работать и общество просто умрёт», – скажут нам.
Насаждение подобных взглядов настолько не ново, что они появлялись ещё до того, как на свет появился Карл Маркс, когда буржуазия всячески боролась с тогдашними коммунистическими воззрениями, обществами и движениями неимущих. Но если до Маркса коммунистические воззрения только пытались найти научную почву под ногами, и буржуазия имела возможность отвечать на неопытные взгляды своей критикой, то после Маркса, давшего коммунизму научное обоснование, критика буржуазии изменилась лишь по форме, но так и осталась той критикой, которой пользовались буржуазные философы ещё в XVIII веке. Хотя последние и шагнули вперёд, отбросив христианскую философию, в которой причины неравенства определялись с божественной точки зрения, – тем не менее неравенство в общественных отношениях сохранилось. Но теперь оно стало обосновываться с точки зрения человеческой природы. При этом исключались сами общественные отношения, базирующиеся на определённом экономическом фундаменте, – тем самым буржуазные философы того времени впадали в утопизм, который они проповедуют и сегодня. Но отличие нынешней эпохи от эпохи развития буржуазно-революционной мысли в том, что сегодня сама буржуазия уже не верит в свои собственные идеи, которая она развила в период с XVIII и до середины XIX века. Идеи, которые сегодня пропагандируют либеральные деятели, по сути являются отражением настроений мелких предпринимателей, которые можно обозначить как реакционный мелкобуржуазный капитализм с мечтами о революционном прошлом, когда «естественные» права всех людей противопоставлялись сословному разделению, в котором существовало «неестественное» право у одних и отсутствие права для других на привилегии и власть.
Но развитие капитализма, его монополизация вели к угасанию буржуазно-революционных идей. Буржуазия, постепенно укрепляя свои позиции, стабилизируя своё господствующее положение, также стабилизировала и свои идеи. Для удержания власти и охраны своей собственности от растущего в силе и численности пролетариата ей больше не были нужны потрясения, так как теперь они уже подрывали основы буржуазного порядка; а революционное развитие мысли вело только к одному – к идее об упразднении буржуазной частной собственности, которая противоречила принципу равенства людей. Тем самым, дальнейшая революционная мысль перешла к социалистам, тогда как буржуазные мыслители зашли в тупик и деградировали.
Сегодня буржуазная идеология сильно мешает дальнейшему развитию человечества, как и сам капиталистический строй, из которого она исходит. Тупиковость мысли возникает из-за неспособности капитализма продвигать прогресс дальше, хотя он и пытается выйти за капиталистические рамки, но оказывается затянутым этими рамками назад. Вся современная мысль строится на удержании существующих порядков, тогда как всё новое объявляется противозаконным и утопичным. Навязывая «традиционные» идеи государственности, национализма, семейных отношений, подчинение женщины мужчине, право родителей на детей, церковное воспитание, раболепство и т.д. нас отучают мыслить по-человечески, критически рассматривать любые вопросы. Навязывается взгляд, в котором господствует форма, а не содержание: «Коммунизм – утопия! Утопия – потому что развалился Советский Союз. Советский Союз развалился, потому что коммунизм – утопия!». Никакого анализа, никаких причин, – это подобно взгляду человека, утверждающего, что в России капитализм якобы «неправильный», он не тот, что на Западе, где он почему-то «правильный», – как будто живём мы на разных планетах. Или противоположный взгляд, что у России «особый» путь развития, чуть ли не по божественному промыслу. Подобными высказываниями пытаются обосновывать любую чушь и различные «дикие» вещи современного общества, объясняя те или иные явления через призму божественности, природного менталитета и прочего.
Либеральные аргументы против коммунизма исходят из того же миропонимания, что и утверждение о неправильном капитализме в России – идеальность губит либо неправильный человек, либо менталитет общества. А ещё: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает». Таким образом вся аргументация сводится исключительно к человеческой природе, человеческим порокам, застывшим общественным отношениям. Но чем это отличается от религиозных рассуждений о божественности тех или иных вещей и о том, что из-за человеческой природы Адам был выгнан из Рая?
Нам говорят, что «человек по природе индивидуалист», поэтому коммунизм невозможен, поэтому возможно только классовое общество, социальная градация, политическая власть и подавление. Но любой индивидуум возможен только в человеческом обществе, о чём ещё будет идти речь в дальнейшем. Социальное расслоение также немыслимо без коллективного подавления одних другими. Индивидуализм человека ищется в природе, но в его корне забывается общественный фактор. В итоге получается так, что объяснения человеческих пороков, человеческого поведения ищутся исключительно в биологических свойствах, но ведь такой ограниченный взгляд приводит к невозможности дать объяснение определённым вещам. Например, среди талантливых людей больше мужчин, чем женщин, и поэтому с либеральной точки зрения женщины от природы более глупы. Согласно этому взгляду, если двигаться дальше, такое природное свойство можно будет оправдать только разговорами о детерминизме, и далее свести всё к божественному решению. Но, разбивая подобные глупости, мы можем легко объяснить этот вопрос путём изучения общественного, экономического, исторического факторов, – так же как и коммунистическое будущее было раскрыто Марксом на основе этих факторов. Если бы Маркс пользовался аргументацией уровня противников коммунизма, то мы бы увидели доводы в духе того, что коммунизм возможен благодаря человеческой природе, – а ведь социалисты-утописты исходили именно из этого, и подобный подход был подвергнут критике Марксом.
Человек, его поведение, его привычки, его традиции, его взгляды на вещи не являются от природы неизменными, – они меняются вследствие исторического развития общества. Представлять человека как застывший кусок камня (но даже камень со временем меняется), – значит уничтожать его человеческую индивидуальность, сводя всё к животным инстинктам, из которых вообще становится непонятным, как человек стал человеком, как он столько всего вокруг себя создал и как многое для себя открыл.
Поэтому когда говорят, что Советский Союз развалился из-за человеческого эгоизма, из-за природной жажды наживы, природного желания одних порабощать других, – это не объясняет ровным счётом ничего, и лишь приводит к неверным взглядам по другим вопросам, порой даже бытовым. Если Советский Союз развалился из-за человеческой природы, то получается, что и появился он тоже благодаря ей, ведь как это объяснить иначе? Получается, что все происходящие явления могут быть объяснены обычным абстрактным понятием, но тогда возникают противоречия: если природа человека уничтожила СССР, то почему она же его и создала? И тут мы либо начинаем объяснять всё с божественной точки зрения, либо пытаемся из одной абстракции прыгнуть в другую, либо начинаем изучать вопрос предметно.
Проблема либерального подхода к вопросам заключается не только в ограниченности и поверхности, но и в том, что он подпитывается со стороны противоположного «просоветского» лагеря, который, не предлагая глубокого анализа, рассматривает вопросы также убого, из-за чего люди начинают искать ответы в анархизме, фашизме, религии и т.п., тем самым обогащая лагерь своих политических оппонентов.
Победившая в СССР партбюрократия не только отстранила пролетариат от прямой политической власти, не только свернула завоевания Октябрьской революции, но и превратила учение Маркса в доктринёрство с зазубриванием отдельных цитат. Присвоив себе вывеску «марксизма» и «научного коммунизма», советские бюрократы образовали свою идеологию для оправдания бюрократизма, где живая мысль подавлялась как на деле, так и на словах, в виде обвинений во всевозможных “измах”, что только приводило к дискредитации коммунизма и искажению марксистской теории.
Развал Советского Союза и совершённая частью правящей бюрократии капиталистическая контрреволюция очень сильно ударили по мировому рабочему движению, привели к большому разочарованию в среде рабочего класса, и в конечном итоге создали образ невозможности коммунизма, за который теперь выступают только ностальгирующие пенсионеры. Другая часть советской бюрократии, которую устраивало её место в советской системе, осталась лояльно настроена к СССР и встала в оппозицию к победившей контрреволюции. Возглавив то, что осталось от КПСС, она продолжила проводить свою бюрократическую политику соглашательства с новой властью, предавая и вставляя палки в колёса рабочим, которые вели оборонительную борьбу против неолиберальных реформ.
И снова, как в советское время, эта бюрократия прикрывалась именами Маркса и Ленина, говоря о величии СССР не с позиции рабочего класса, а с позиции величия державы, в которой бюрократы имели привилегированное положение. Весь марксизм снова сводился к начётничеству, коммунизм в программе оставался чем-то далёким, – примерно настолько, как второе пришествие Христа. Рабочим стали рассказывать, что они не готовы взять страну в свои руки, что пролетариат не созрел для революции. Примерно такими же аргументами пользуются противники коммунизма, рассказывая, что трудящиеся не могут управлять, не могут организовать, не могут что-либо наладить, ведь для этого нужна определённая каста способных правителей – прямо как в Советском Союзе – только в СССР эта каста, если продолжать мысль, видимо в какой-то момент оказалась бестолковой и неспособной. И, как добавляют некоторые сторонники советского «социализма», ставшей меньше изучать (зазубривать) Маркса. Поэтому Советский Союз развалился не из-за природы человека как такового, а из-за природы плохо зубрившего Маркса члена политбюро.
Такой взгляд, или примерно такой взгляд, был порождением советского бюрократизма, который внёс свою идеологию под маской марксизма. Данный подход с бездумным зазубриванием цитат, с начётничеством, с неприятием всего, что противоречит официальной доктрине, передался и постсоветскому периоду, обретя своё официальное продолжение в организациях, которые объявили себя наследниками КПСС. Марксизм же так и остался вывеской, его реальное развитие застопорилось. В организациях, считавших себя коммунистическими, «дискуссии» были на уровне обсуждения букв устава, подбора «правильных» фраз, обвинений своих оппонентов в самых невероятных «измах». Бюрократизму свойственно нисходить до простой штамповщины и пустых формальностей, так как идейно любая бюрократия слаба. И чтобы поддерживать своё положение, она прибегает к аппаратным интригам, административному нажиму, к бессодержательным обвинениям, ибо смотрит на всё своим тупоумным узким взглядом.
Такой подход и такой уровень «дискуссий», исходящий со стороны бюрократов «коммунистических» организаций, к сожалению, передавался на рядовых членов и сторонников, которые воспитывались в том же духе, если, конечно, они просто не уходили разочарованными. Привитие подобных взглядов рядовым участникам воспитывало в них аналогичные воззрения, которые распространялись и на сочувствующих коммунизму людей. Однако стоит заметить, что проблема не только в бюрократизированных политических организациях, но и во всей современной системе, пронизывающей наше общество, будь то школа, армия, работа, профсоюзная организация, государственные структуры и прочее. Везде нас учат мыслить формами, не имеющими содержания, заниматься начётничеством, пресмыкаться перед другими и слепо выполнять приказания.
Заучивая умные слова, фразы и даже целые положения без понимания реального содержания, ничего хорошего не получить – будет лишь ложное представление о предмете. Это, в свою очередь, будет приводить к ложным суждениям, тупиковости мысли и ошибкам, в том числе ошибкам грубым. Советское «теоретическое» наследие наложило огромный отпечаток на многие левые организации, в том числе небольшие, в которых то и дело разводили формализм и занимались зубрёжкой, пытаясь натянуть те или иные события на цитаты Ленина, чтобы что-то подтвердить либо раскритиковать. Мы не говорим о том, что нельзя использовать ссылки на Ленина, – но когда это принимает форму идеологизации, когда содержание пытаются натянуть на форму, когда позиция становится закостенелой и применяется всегда без учёта развития ситуации, то тогда это становится проблемой. В таком случае при возникновении конфликта внутри организации, это в конечном итоге приводит к нелепым спорам, где одну и ту же цитату Ленина начинают интерпретировать по-разному. Но даже в таком споре проявляется разница позиций, и вся нелепость состоит в том, что никто не может дать грамотный ответ, так как все привыкли мыслить не конкретным содержанием, а цитатами. В результате спор превращается в войну цитат, переходящую в личностные нападки.
Получается ситуация, когда в силу объективной капиталистической реальности человек, задумывающийся над происходящим вокруг него, задающий сам себе вопросы, пытающийся найти ответы, идущий за ними в ту или иную организацию, – такой человек сталкивается с пустым формализмом, втягивается в непонятную для него деятельность, его вопросы не получают ответа со стороны организации. И всё это, в конечном итоге, приводит этого человека к деморализации, поиску ответов в чём-то ином, а не в коммунизме, в резких переходах к противоположным крайностям. Либо же он становится частью организации, перенимая её низкий идейный уровень.
Таким образом, коммунистическая альтернатива не получает своего идейного развития, не даёт ответы на насущные вопросы, которые беспокоят людей. Коммунизм так и остаётся простой вывеской. Но он остаётся этой вывеской в силу общественных отношений, исторического советского наследия и иных факторов. Противоречие между научным миропониманием и искажённым приводит к борьбе между ними, а борьба ведёт к развитию мысли. Коммунизм – это не только о будущем обществе, это и о нашей текущей реальности. Это реальное движение, которое ниспровергает нынешнее состояние. Коммунистические отношения вызревают в недрах капиталистического общества. Как писал Энгельс: «Коммунизм есть учение об условиях освобождения пролетариата.»
Нам остаётся только добавить, что жизнь коммунистической организации держится на идейной сознательности её членов, которые не разочаруются в плохой ситуации на спаде движения, не отойдут от политики, а, применяя марксистский метод, смогут объяснить мир, объяснить происходящие процессы и открыть тенденции будущего развития – и тем самым разовьют дальше учение об условиях освобождения пролетариата. Тем самым организация сохранит себя, готовясь к будущим битвам. Она укрепится идейно, чтобы допускать меньше ошибок и быть более эффективной. Эпоха реакции плоха, но в тоже время она воспитывает сильные личности.
Но для подобного воспитания стоит сначала понять, о чём мы вообще говорим, что предлагаем и к чему стремимся. Как уже было сказано выше, коммунизм зачастую представляется чем-то утопичным даже для тех, кто является его сторонником. Советское наследие, бюрократическое извращение, буржуазная пропаганда внесли очень большую путаницу в данный вопрос. Коммунизм – это СССР? Коммунизм – это анархия? А что такое социализм и был ли он в СССР, а если и был, то в какой период?
Такие вопросы поднимаются часто, споры по ним идут «вечно», и даже несмотря на то, что СССР всё дальше уходит в прошлое, споры о его природе не ослабевают. Каждый ищет аргументы в неких деталях, неких нюансах, цитатах, формах и т.п., что в свою очередь мало к чему приводит, – результат спора не достигается, ибо каждый участник под коммунизмом понимает что-то своё, кто-то видит тоталитаризм, кто-то анархизм. Для кого-то СССР является социализмом, для кого-то – не является. Разумеется, под социализмом или под коммунизмом можно предполагать разные вещи, но мы говорим о них с точки зрения марксизма. Но марксизма не просто как формальности, а подразумевая то, что вкладывал во все эти понятия Карл Маркс. Важность правильного понимания тех или иных терминов позволяет, как минимум, избежать ложных представлений, не имеющих внутреннего анализа, и предотвращает скатывание в утопизм.
Но перед тем как говорить о содержании, придётся затронуть саму марксистскую терминологию. Вопрос оказался настолько запутанным, а споры в связи с этим настолько бестолковыми, что он стоит того, чтобы проговорить его отдельно, ведь важность терминологической чистоты существенна, так как неверное применение терминологии наполняет её неверным содержанием, что впоследствии приводит к путанице в своих собственных взглядах и к политическим ошибкам.
МАРКСИСТСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
В левой, и даже в массовой, среде распространено мнение, что диктатура пролетариата – есть социализм, а социализм – есть диктатура пролетариата, которая ведёт к уничтожению остатков капитализма для перехода к коммунизму. Казалось бы, всё логично: рабочий класс, захватывая власть, устанавливает свою диктатуру, подавляет буржуазию, уничтожает капиталистическую частную собственность, обобществляет средства производства, – и тем самым устанавливает социализм, после чего пролетарская диктатура двигается от социализма к коммунизму, подавляя последние остатки капитализма на территории победившего социализма, а также постепенно побеждает в других частях планеты.
Такой взгляд на социализм и диктатуру пролетариата можно услышать и от людей, которые являются сторонниками коммунизма, и от людей, которые являются его противниками. Такой взгляд вообще пустил широкие корни, – его можно услышать даже в обывательской среде. Немудрено, ведь этими терминами пичкали старшее поколение, родившееся в советское время. Далее эти термины передались от старших к младшим, и сейчас о них можно слышать даже в современной образовательной среде.
Но данный взгляд, несмотря на свою массовую аудиторию и кажущуюся очевидность, с точки зрения марксистской терминологии – ложный. Классики марксизма разделяли понятия диктатуры пролетариата и социализма. Важность понимания такого разделения кроется не только в проблеме терминологической путаницы, но и в том, что скрывается за данным вопросом. Оппортунистическое толкование вопроса ведёт к неверному мировосприятию, давая рабочим ложное представление, ведь если называть социализмом убогое господство партийных чиновников, то ни о каком формировании самостоятельной политики рабочего класса речи и быть не может. Зато может быть оправдана соглашательская и предательская политика бюрократического руководства «Коммунистической» партии, которая якобы ведёт рабочий класс в социализм.
Маркс боролся за научный взгляд на вопрос, ведь развитие научной мысли идёт в интересах пролетариата. Выкристаллизовывая термины, вкладывая в них определённые вещи, споря со своими оппонентами, Маркс давал определённый и ясный взгляд вместо туманных рассуждений. Казалось бы, наука и борьба рабочих не пересекаются – наука где-то в стороне и замкнута в себе – но в действительности без научного понимания происходящих процессов борьба будет спотыкаться о множество препятствий, будет допускать большое количество ошибок. Правящий класс делает всё, чтобы общество вместо науки кормилось бестолковой эклектикой и мыслило ею, скрещивая двуглавого орла с серпом и молотом, национализм с антифашизмом, монархизм с республиканизмом. Задача марксистов – дать верный взгляд, который принесёт победу рабочим, и через это, в том числе, поможет науке избавиться от вредного воздействия капитализма. Но если мы будем скатываться до уровня оппонентов Маркса, то не только ничего не поймём, но и останемся заложниками абстрактного мышления буквально во всём. Оторванное от конкретного понимание вопроса приводит к смешным, но грустным ситуациям, когда наблюдаешь людей, которые ведут ожесточённые споры о том, чей социализм самый правильный, самый лучший – ходжаистский или титоистский, сталинский или маоистский, советский или шведский.
Такие глупые рассуждения передались от путанных установок, насаждаемых победившей в СССР советской партноменклатурой, которой для обоснования своего режима требовалась идеологическая оболочка, исключавшая трезвый взгляд на вещи. Но крах Советского Союза и реставрация капитализма не только не избавили от идеологизации, но, напротив, взяли все тёмные заблуждения себе на вооружение. Буржуазная система образования сделала и продолжает делать всё, чтобы лишить людей способности мыслить правильно. В частности, рассказывая о том, что социализм в СССР рухнул, плановая экономика неэффективна, а коммунизм – недостижимая утопия.
За подобными заявлениями скрывается пустота. В лучшем случае апологеты буржуазии рассказывают о реальных проблемах советской экономики, но рассказывают об этом, глядя на некий личностный фактор, из-за которого якобы нельзя создать идеальную систему и из-за которого якобы социализм в СССР рухнул. Такой поверхностный взгляд, как сторонника капитализма, так и сторонника социализма, который также будет рассказывать про личностный фактор, ни к чему не приведёт, кроме бестолковой ругани. Поэтому важно не останавливаться на поверхностных рассуждениях, а переходить к конкретному анализу вопроса, что и делал в свою очередь Карл Маркс.
Обращаясь к марксизму, сторонники коммунизма (и даже его противники) сталкиваются с очень избитыми терминами, такими как социализм и коммунизм. Оба слова вызывают взаимную друг с другом ассоциацию, ведь в распространённом взгляде социализм – то, что было в СССР, в котором стремились к коммунизму. Столь понятный взгляд не вызывает никаких вопросов, пока мы не начинаем ставить дополнительные вопросы: в какой момент не стало социализма? В какой момент Советский Союз должен был достигнуть коммунизма, и как его достигнуть? Может, достаточно социализма, так как он скорее возможен, нежели коммунизм? А что есть социализм, и что есть коммунизм? На это и будем отвечать.
Социализм и коммунизм для Маркса и Энгельса были синонимами. Если взять их работы, то можно обратить внимание, как они поочередно используют оба термина в равнозначной степени в разных работах, при этом нигде не говоря о том, что социализм – это первая стадия, переходный период между капитализмом и коммунизмом.
Однако на это могут ответить, что в своей «Критике Готской программы» Маркс пишет о коммунистическом обществе, которое он делит на низшую и высшую стадию, и о социализме, как о первой фазе коммунизма. Действительно, Маркс делил коммунизм на две стадии, но, во-первых, в данной работе он не называет низшую стадию социализмом. Он называет всё коммунизмом, деля его на две стадии. Во-вторых, Маркс не пишет о первой стадии коммунизма (социализма) как о переходном периоде с диктатурой пролетариата. В своём тексте он говорит, что между капитализмом и коммунизмом (который делится на две фазы) лежит переходный период, в котором и осуществляется диктатура пролетариата:
«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата.»
В дальнейшем, после Маркса и Энгельса, в традицию вошло называть социализмом первую стадию коммунизма. В «Государстве и революции» Ленин подмечает этот факт:
«Но когда Лассаль говорит, имея в виду такие общественные порядки (обычно называемые социализмом, а у Маркса носящие название первой фазы коммунизма), что это «справедливое распределение», что это «равное право каждого на равный продукт труда», то Лассаль ошибается, и Маркс разъясняет его ошибку.»
«Таким образом, в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом)…»
В работе Ленина вопрос, которому посвящён данный текст, во многом и давно разобран. Тем не менее находятся люди, которые его работу вроде прочитали, но далее начинают выдирать из неё отдельные фразы или абзацы, тыкая утверждениями ровно противоположными тем, о которых пишет Ленин. Дело в том, что в этой работе Ленин применяет все свои познания в диалектике, умело «жонглируя» терминами, раскрывая вопрос, который его оппоненты понимали метафизически. При этом работа не несёт в себе сложной нагрузки, и чтобы её понять необязательно быть знатоком Гегеля, нужно лишь внимательно читать.
***
Подходя в своей работе к коммунизму, Ленину приходится говорить о государстве, беря всё, что по данному вопросу было развито Марксом и Энгельсом на основе практического опыта рабочего класса. Государство – продукт и проявление непримиримости классовых противоречий, которое при коммунизме должно исчезнуть за ненадобностью. Но чтобы исчезло государство – должно исчезнуть классовое общество. А чтобы исчезло классовое общество – необходима диктатура пролетариата для подавления буржуазии, а подавление буржуазии и её ликвидация как класса приведёт и к отмиранию пролетариата. Тем самым классы исчезнут и исчезнет государство. Так кратко и общо можно передать вопрос об отмирании государства и переходе к коммунизму. Но этого недостаточно, а потому требует дальнейшего раскрытия.
В массовом сознании распространился взгляд на разницу позиций между коммунистами и анархистами, который говорит, что анархисты выступают за уничтожение государства и моментальный переход к коммунизму, а коммунисты – за переход к коммунизму через господство диктатуры пролетариата. Анархисты скажут, что для перехода к коммунизму не нужна никакая диктатура (даже пролетарская), революция должна моментально отменить государство, ведь государство – паразит, который неминуемо будет приводить к неравенству, к обуржуазиванию и т.п. Поэтому в полемике против анархистов многие любят говорить об утопичности их взглядов, ведь после революции пролетариат просто так не может сложить оружие, ибо он должен подавлять своих противников, – то есть осуществлять диктатуру. Но дело не только в этом. Оппонируя анархизму, многие упускают ключевую проблему их позиции – предположим, что пролетариат одним ударом уничтожит буржуазию и разрушит государство, приведёт ли это к коммунизму? Нет, не приведёт. Коммунизм подразумевает такой уровень развития производительных сил, когда потребности всего общества и каждого отдельного его члена могут быть удовлетворены, но если эти потребности не могут быть удовлетворены, то это означает ограниченность в распределении благ. Маркс, споря с анархистами, утверждал, что пока общество не сможет удовлетворять себя в полной мере, пока остаётся скудность ресурсов, придётся прибегать к контролю в распределении, что в свою очередь ведёт к неравенству, а неравенство ведёт к государству. Государство полностью исчезнет только тогда, когда общество сможет полностью удовлетворять свои потребности.
Но полемика Маркса и Энгельса с анархистами о государстве, их взгляды в этом вопросе многими социал-демократами в прошлом были искажены и интерпретированы в оппортунистическом направлении. Именно этому посвящена работа Ленина «Государство и революция», которая была ответом противникам большевиков. В 1917 году, когда была написана эта работа, Плеханов называл Ленина анархистом. Ленин в работе критикует Плеханова, в частности за то, что тот в критике анархистов упускал вопрос о государстве. Это, в свою очередь, привело Плеханова во вражеский стан. Например, вот что писал Плеханов в своей брошюре «Анархизм и социализм» (1894):
«Развращающее влияние парламентской среды на рабочих депутатов осталось до последнего времени излюбленным аргументом анархистов, критикующих политическую деятельность социалистической демократии. Мы уже видели, какая ей цена с теоретической точки зрения. Достаточно самого поверхностного знакомства с историей немецкой социалистической партии, чтобы убедиться, насколько практическая жизнь разрушает анархистские опасения.»
Немецкая социал-демократия в конце концов обуржуазилась, встала в соглашение со своей буржуазией и в итоге предотвратила рабочую революцию в Германии. И тем самым спасла капитализм. Самое поверхностное знакомство со взглядами Плеханова говорит о том, что мы должны лучше разбираться в вопросах социализма, иначе это приведёт не только к непониманию истинного содержания терминов Маркса, но и к глубоким ошибкам на уровне предательства. Ленин, критикуя оппортунистов, подчёркивал эту проблему:
«Наиболее замечательна в данном рассуждении Энгельса опять-таки постановка вопроса против анархистов. Социал-демократы, желающие быть учениками Энгельса, миллионы раз спорили с 1873 года против анархистов, но спорили именно не так, как можно и должно спорить марксистам. Анархистское представление об отмене государства путано и нереволюционно, – вот как ставил вопрос Энгельс. Анархисты именно революции-то в её возникновении и развитии, в её специфических задачах по отношению к насилию, авторитету, власти, государству, видеть не хотят.
Обычная критика анархизма у современных социал-демократов свелась к чистейшей мещанской пошлости: «мы-де признаём государство, а анархисты нет!». Разумеется, такая пошлость не может не отталкивать сколько-нибудь мыслящих и революционных рабочих. Энгельс говорит иное: он подчёркивает, что все социалисты признают исчезновение государства, как следствие социалистической революции. Он ставит затем конкретно вопрос о революции, тот именно вопрос, который обычно социал-демократы из оппортунизма обходят, оставляя его, так сказать, на исключительную «разработку» анархистам. И, ставя этот вопрос, Энгельс берёт быка за рога: не следовало ли Коммуне больше пользоваться революционной властью государства, т. е. вооружённого, организованного в господствующий класс пролетариата?
Господствующая официальная социал-демократия от вопроса о конкретных задачах пролетариата в революции обыкновенно отделывалась либо просто насмешечкой филистера, либо, в лучшем случае, уклончиво софистическим: «там видно будет». И анархисты получали право говорить против такой социал-демократии, что она изменяет своей задаче революционного воспитания рабочих. Энгельс использует опыт последней пролетарской революции именно для самого конкретного изучения, что́ и как следует делать пролетариату и по отношению к банкам и по отношению к государству.»
Ссылаясь на классиков, Ленин подчёркивает, что пролетариат, беря власть, уничтожает буржуазное государство и тем самым уничтожает государство как таковое, ведь государство возникло как результат классовых противоречий в обществе, как аппарат имущего меньшинства для подавления большинства неимущих. Захват власти большинством неимущих и уничтожение государства как такового, сменяется отмирающим пролетарским полугосударством, которое из себя всё ещё представляет государство, так как является аппаратом для подавления одной части общества другой, с другой стороны, государством уже не является, так как большинство населения осуществляет диктатуру.
Подавление буржуазии, уничтожение капитализма, развитие производительных сил постепенно ведёт к тому, что специальный аппарат для подавления (пролетарское полугосударство) теряет свою необходимость и постепенно отмирает, – общество переходит к коммунизму. Забегая вперёд, добавим, что в дальнейшем данный взгляд будет подправлен Львом Троцким, который, исходя из опыта уже Советского государства, выдвинет утверждение, что полугосударство возникает при первой фазе коммунизма (социализма). Но об этом позже.
Так где и когда отмирает полугосударство? Отмирает при коммунизме, но коммунизм классики делили на две фазы. А почему делили, и в чём отличие? Частая проблема отвечающих на вопрос о возможности социализма с наличием государства, или государства при социализме в схематичном представлении вопроса. Ленин пишет, что государство окончательно отмирает на высшей фазе коммунизма:
«Государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет, подавлять поэтому какой бы то ни было класс нельзя.
Но государство ещё не отмерло совсем, ибо остаётся охрана «буржуазного права», освящающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунизм.»
Эту цитату очень любят вырывать из контекста в подтверждение того, что государство будет оставаться ещё и при социализме, а значит социализм подразумевает и государство, и диктатуру пролетариата, и является переходным периодом от капитализма к коммунизму. Но, как мы уже выяснили, социализм – уже есть коммунизм в его первой фазе, а говоря про государство Ленин имеет в виду не государство как таковое и к которому мы привыкли, а переживающий своё завершение остаток тех механизмов, которые были присущи государству. Государство как аппарат для подавления одного класса другим более не существует, но обществу из-за неразвитости производительных сил всё ещё приходится регулировать процесс равного распределения благ. А это распределение всё ещё подразумевает потребительное неравенство из-за неравности человеческих индивидуумов. Поэтому всё ещё имеется необходимость в охране такого неравенства, и в этом смысле государство ещё остаётся, но государства как такового более нет.
Схематичный же вариант представляет собой непонятицу – социализм с государством в какой-то непонятный миг должен превратиться в безгосударственный коммунизм. В какой, каким образом? Когда будут побеждены все буржуи мира? Но в таком случае можно сразу перейти к коммунизму, если предположить, что все буржуи мира одним ударом будут уничтожены. А если не будут, – выходит, что пролетарское государство и национализированная плановая экономика и есть социализм. Но это не так. Схематика представляет нам дело так, что государство соседствует с социализмом, и как только капитализм побеждён во всём мире, то государство просто убирается, потому что более не нужно иметь аппарат, границы и армию для защиты от внешней угрозы. В свою очередь, внутри территории победившего социализма наличие государства обосновывается борьбой с остатками и пережитками эксплуататорских классов. Однако Ленин имел в виду сохранение при социализме охраны «буржуазного права» и регулятора распределения, а не аппарат для подавления одной части общества другой её частью. Более того, если предположить сохранение государства при социализме, то нам придётся говорить о наличии государственных интересов и о социальных интересах государственной бюрократии, о которых некоторые деятели марксизма даже не думают говорить, сводя весь вопрос к догме «государство – аппарат правящего класса».
К сожалению, догматизация марксизма происходит, когда человек начинает рассматривать его как набор определённых, истинных утверждений в виде цитат, которые надо собрать в единый идеологический пазл. Такой формалистский взгляд в Советском Союзе навязывался людям бюрократией, и это привело к тому, что советские люди начали воспринимать марксизм и коммунизм как некую мертвую, ритуальную форму, смысла которой никто не понимал. В нынешнее время такой взгляд никуда не исчез. С одной стороны, его продолжают навязывать сталинисты, с другой – буржуазная система. Но марксизм – это не набор правил по всем вопросам, который всё описывает, и который надо принять как Библию.
Человеку, имеющему современное образование и живущему в капиталистической реальности, марксизм представляется сложным, потому что понимается формально, поверхностно, – так как капиталистическая система учит нас верить в доброго правителя, в магию денег и т.д. Вот и учение Маркса рассматривается как набор цитат, которые надо заучить и принять. Но тем самым действительная человеческая мысль теряется, перестаёт осознаваться, и поэтому даже простые вопросы не получают объяснения. На деле вся сложность марксизма заключается в его простоте. Как, в частности, и работа Ленина.
***
Вернёмся обратно к терминам и перейдём к СССР, из-за которого ведутся колоссальные споры о том, был ли в нём социализм.
Терминологическая путаница, сложившаяся в советское время, привела к тому, что некоторые называют социализмом переходный период – режим диктатуры пролетариата. Так, конечно, тоже можно, но тогда возникает вопрос: почему Ленин не считал социализм построенным сразу же после завоевания власти и даже в период расцвета «военного коммунизма», когда все было национализировано и даже свободная торговля была заменена безденежным распределением? В чем качественное отличие между 1917 и 1936 годом, когда новая конституция объявила о построении социализма?
Различные сталинисты часто говорят, что в СССР социализм был построен, и при всём при этом оставалась диктатура пролетариата. Получается, что до построения социализма была диктатура пролетариата без социализма, которая социализм построила и сохранилась по крайней мере до смерти Сталина, ибо дальнейшие рассуждения о крахе диктатуры пролетариата и социализма разнятся. Но дело в том, что сам Сталин, придерживаясь марксистских терминов, разделял понятия диктатуры пролетариата и социализма считая, что не может быть диктатуры пролетариата при социализме. В своём докладе о проекте новой конституции в 1936г. Сталин заявил следующее:
«Стало быть, наш рабочий класс не только не лишен орудий и средств производства, а наоборот, он ими владеет совместно со всем народом. А раз он ими владеет, а класс капиталистов ликвидирован, исключена всякая возможность эксплуатации рабочего класса. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс пролетариатом? Ясно, что нельзя.»
С другой стороны, для обоснования идеологии партийной бюрократии о «социализме в отдельно взятой стране», он внёс путаницу:
«А что это значит? Это значит, что пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социалистическую собственность на орудия и средства производства и направляющий советское общество по пути коммунизма.»
С точки зрения Сталина диктатура пролетариата, при якобы построении социализма, перетекла в диктатуру рабочего класса, а значит нет в СССР диктатуры пролетариата. В связи с этим смешно смотреть на слёзы сталинистов, которые обвиняют Хрущёва в том, что он отменил в СССР диктатуру пролетариата, убрав это положение из программы партии на XXII съезде. В действительности советская бюрократия при Хрущёве просто продолжала проводить сталинскую идеологическую традицию, не говоря уже о том, что социальный характер государства не меняется формальностями.
Если предположить, что пролетариат исчез в связи с уничтожением противоположного ему класса капиталистов, и за этим исчезла и диктатура пролетариата, то что значит диктатура советского рабочего класса? Пролетариат, экспроприируя капиталистов, действительно уничтожает себя как класс, однако будет совершенно неверным смотреть на этот вопрос как на то, что пролетариат может самоустраниться благодаря одному удару по капиталистам в отдельно взятой стране. Точно так же как нельзя этого сделать с государством. Опыт показал, что советское общество, даже экспроприировав собственников средств производства, оставалось неоднородно, различие в распределении и привилегиях поддерживало паразитическую бюрократию, существовала разница между городом и деревней, разница между умственным и физическим трудом. В конце концов расслаивался и сам пролетариат, выделяя внутри себя рабочую аристократию. Всё это наследие капитализма устранено не было, и, пока оно оставалось, оставалась угроза капиталистической реставрации. А потому о полном отмирании пролетариата нечего и говорить. Формула диктатуры советского рабочего класса только подтверждает сказанное – общество ещё не освободилось от социального расслоения, но если взять за аргумент, что диктатура рабочего класса остаётся исключительно из-за враждебного окружения (ниже об этом будет сказано), то это опять-таки говорит только о том, что советское общество социализма не достигло, иначе не требовалась бы никакая классовая диктатура, которая необходима для защиты от мирового капитализма, который своим уровнем развития и превосходства может повлиять на внутренние процессы «социалистического» общества и откатить всё назад. Но мы забежали немного вперёд.
Таким образом, если по Марксу социализм предполагает бесклассовое общество, то по Сталину социализм во враждебном капиталистическом окружении предполагает наличие неэксплуатируемых классов и диктатуру рабочего класса, который ведёт борьбу с мировым капитализмом. В 1938 году Сталин пошёл ещё дальше, заявив на XVIII съезде партии:
«Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма?
Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военного нападения извне, причем понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.»
По Сталину классы и государство могут оставаться и на высшей фазе коммунизма. И если в общественном сознании наличие при социализме диктатуры и государства вопросов не вызывает, то наличие их при коммунизме может ввести людей в ступор, особенно при том, что Маркс вообще под социализмом и коммунизмом понимал одно и тоже. Заявление Сталина о необходимости государства в период полного коммунизма из-за наличия военной опасности извне некоторыми деятелями трактуется как развитие Сталиным марксистской теории на основе практики. Но в действительности такое заявление есть лишь идеологическое прикрытие бюрократической власти, которое можно расшифровать как необходимость государства в полном его смысле, с необходимостью военного и любого другого привилегированного чиновничества, которое процветало в СССР не в результате военной опасности извне, а в результате социального расслоения внутри советского общества.
Социализм (он же коммунизм) – общество без классов, эксплуатации и государства, с общественным производством и с такими производительными силами, которые будут удовлетворять все человеческие потребности. Отдельная страна как минимум предполагает границы – это значит, что государство, армия, специальный аппарат людей с привилегиями и правами останутся для обеспечения существования этой страны. Производительных сил одной такой страны будет недостаточно для осуществления социализма, – для этого достаточно взглянуть на огромную зависимость от мирового производства и рынка любой высокоразвитой капиталистической страны. Это значит, что одно государство, взявшее курс к социализму, может сколько угодно приближаться, но так его и не достигнет, ибо не сможет преодолеть национальную производственную ограниченность и отказаться от государства, а поэтому в нём будет оставаться потенциал для капиталистической реставрации. То есть власть в отдельной стране рабочие взять могут, но до тех пор, пока они не захватили страны капиталистической метрополии – режим следует считать переходным с возможностью капиталистической реставрации. До тех пор, пока есть государство – есть неравенство, которое оно охраняет. Даже если это рабочее государство. Если мы движемся к социализму (коммунизму), общество должно быть все более и более обществом равных, политические функции государства должны отмирать, оставляя лишь технологически обусловленное совместное управление производством.
В СССР провозглашённый социализм определялся по любимой Прудоном формуле: «от каждого – по способностям, каждому – по труду», но ошибочность этой формулы заключается в том, что если человек может работать по своим способностям, значит он не работает по труду, как форме буржуазного распределения. Если же человек работает по труду, то получается, что он не работает по способностям, так как зависит от буржуазных норм распределения. Внутренняя противоречивость провозглашённого лозунга отражала лицемерие под маской социализма. Маркс же опирался на логичную формулу – «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Но данная формула относится к высшей фазе коммунизма. Нам же здесь важно показать, что пока труд зависит от принуждения и контроля, пока трудовая деятельность человека зависит от норм, из-за которых приходится «вкалывать», то ни о какой работе по потребностям речи и быть не может. Фактически формула «от каждого по способностям, каждому по труду» символизировала способность рабочих выжимать из себя последнее, чтобы угнаться за большей заработной платой, тогда как Маркс говорил ровно об обратном: человеческий труд перестаёт быть проклятием и становится человеческой необходимостью, в то время как общество вознаграждает человека по его потребностям.
Социализм предполагает более высокие производительные силы по сравнению с капитализмом. Если мы признаём социализмом только лишь обобществление экономики и не учитываем развитость производительных сил, то мы действительно получим социализм, только не по Марксу. Если обобществлённые средства производства малы, то ни о каком равенстве и социализме речи и быть не может. Сталинисты же в данном вопросе опираются не на эту мысль Маркса, а на позицию анархистов, – за тем лишь исключением, что для первых при социализме остаётся государство. Но государство потому и остаётся, что оно вынуждено охранять те скудные, хоть и обобществлённые, ресурсы, которые имеются, а потому ни о каком социализме речи быть не может. Пока одни живут в обобществлённых хороших, комфортных квартирах, а другие – в обобществлённых бараках, – это порождает неравенство, общественное расслоение и конфликт. И у привилегированной части общества появляется необходимость в охране своего положения и в государственном аппарате, который будет защищать и оберегать их положение.
Но как быть с тем, что полное отмирание государства (а точнее полугосударства) возможно только на высшей стадии коммунизма? Получается, Сталин рассуждал более-менее правильно? В своей речи в 1928 году он говорил:
«Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы. Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной роли классовой борьбы»
В 1937 году Сталин продолжает развивать мысль об ужесточении классовой борьбы при уже объявленном социализме:
«…Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё более и более ручным.
Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу даёт возможность оправиться для борьбы с Советской властью.
Наоборот, чем больше будем продвигаться вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обречённых…»
Но усиление классовой борьбы, усиление классовой диктатуры при продвижении к социализму говорит об обратном – чем сильнее классовые противоречия в обществе, тем сильнее растёт роль государства, тем дальше общество от своей бесклассовой формы. Об этом писал ещё Энгельс:
«Публичная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства, и по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся больше и населеннее. Взгляните хотя бы на теперешнюю Европу, в которой классовая борьба и конкуренция завоеваний взвинтили публичную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество и даже государство.»
Социализм предполагает более высокое экономическое развитие, делает общество более равным, социальные конфликты стираются, надобность в диктатуре пропадает. Но Энгельс был поправлен на 180 градусов. Усиление классовой борьбы при движении к социализму в дальнейшем будет и дальше заявляться Сталиным, как и то, что классовая борьба не затухает при уже объявленном социализме. Ленин же, ссылаясь на классиков и говоря о государстве при социализме, говорил о бесклассовом обществе, в котором из-за недостаточной развитости производительных сил и недостаточной человеческой культуры всё ещё необходимо государство, под которым понимается регулятор в равном распределении продуктов труда. Дело в том, что равное распределение продуктов труда означает неравенство, так как люди все разные, и у каждого разные потребности. Отсюда и возникает необходимость в «буржуазном праве», в регуляторе.
Но где проходит та черта, которая скажет нам о том, что социализм достигнут, что он всё-таки построен, где та точка, которая завершает одну главу и начинает другую? Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что никаких точек и чёрточек быть не может. Схематичное представление затуманивает реальное общественное развитие. Узаконивая социализм на бумаге, как делалось это в Советском союзе, содержание от этого никак не меняется. Где та точка, которая отделила капитализм от феодализма? Её попросту нет. Когда мы рассуждаем о господстве того или иного способа производства, то должны рассматривать их конкретное состояние, в котором одна экономическая форма доминирует над другой, когда одна форма вытесняет другую. Академический «марксизм», который преподавали в СССР, делал точные деления вплоть до года и даже до дня, в чём можно убедиться, открыв учебник по основам марксизма-ленинизма. Но такой подход к изучению темы давал только начётничество, и ничему не учил.
Советская национализированная плановая экономика дала громадный толчок к росту производительных сил, однако СССР, даже вкупе с другими странами «социалистического лагеря», не смог превзойти капиталистический мир по уровню производства и производительности труда, провозглашая «Догнать и перегнать». Социалистическая революция дала прогрессивные формы собственности, за счёт чего, даже несмотря на тотальную бюрократизацию, удавалось добиваться колоссальных экономических достижений, которые вывели отсталую страну на уровень второй экономики мира. Но та же самая забюрократизированность затягивала петлю, мешая дальнейшему развитию, приводя к стагнации и краху.
Социализм по своему экономическому уровню должен стоять выше самого передового капитализма. Можно было бы говорить о достижении социализма, если бы прогрессивные формы собственности охватили страны капиталистической метрополии, с их мощными производительными силами и высокой производительностью труда. Почему важно это понимать? Если капиталистический мир стоит выше «социалистического», то его экономическая мощь сильнее, товары дешевле, техника более передовая. Своей экономической мощью он воздействует на страны «социализма», развивая в них капиталистические тенденции и усиливая их. Усиление капиталистических тенденций ведёт к скидыванию прогрессивных форм собственности, которые не имеют под собой мощного базиса. Базис, который был бы выше капиталистического, мог бы предотвратить влияние и реставрацию, так как не боялся бы влияния более отсталой капиталистической экономики. Но отставание стран «социализма» с их бюрократизмом привело к краху СССР и других стран социалистического лагеря и к реставрации капитализма. Поэтому при таких обстоятельствах ни о каком построении социализма говорить нельзя.
То есть государство может стоять на более прогрессивной общественной ступени (социалистической), но быть менее развитым по сравнению с государством, стоящим на более низкой общественной ступени (капиталистической). При таком раскладе складывается двоякая ситуация: менее развитое государство, стоящее на более высокой ступени общественного развития, имеет преимущества в возможностях более интенсивного материального развития, но с другой стороны оно сталкивается с давлением материально более развитого, но более отсталого в общественном развитии государства. Страны капиталистической метрополии обладали более развитой материально-технической базой, что представляло серьёзную угрозу в противостоянии с капитализмом.
Как бы мы ни изолировали отдельно взятую страну, и как бы мы ни пытались строить в отдельной стране социализм, она, если хочет выжить, неизбежно будет связываться со всем остальным миром. Выход на мировой рынок требует успешной и выгодной торговли, которая предполагает дешёвый импорт и удачный экспорт. Но чтобы экспорт был удачным, производить надо много, дёшево и качественно, а для этого должна быть создана мощная производственная база, стоящая на самых передовых технологиях. Полная победа социализма, а, значит, его устойчивость немыслима без наиболее развитой производительности труда, стоящей выше самого передового капитализма, когда человеческий труд сможет создавать продукции больше и качественнее, чем он делает на основе капиталистической частной собственности.
Отдельно стоит сказать, что капитализм не стоит на месте, капиталистические формы собственности господствуют не один век. Но это не значит, что человечество застыло на месте. Советская экономика имела гигантский рост, национализированная плановая экономика показала свою огромную эффективность, – но капитализм тоже развивался, а вместе с тем развивались человеческие потребности и культура. Переход к социализму мог быть совершён и раньше, – сейчас же этот переход требует совершенно иного уровня. Появление первых электронно-вычислительных машин не требовалось каждому человеку в отдельности, но сейчас же человечество никак не может обходиться без своего персонального компьютера или смартфона. Тупая уловка, когда говорят, что социализм невозможен, так как нельзя всем всё позволить. В действительности же социализм не раздаёт всем право личного владения космическим кораблём, как не мог бы в своё время дать такое право на личное владение огромными, неуклюжими ЭВМ, которые все равно не закрывают бытовые потребности простого человека. Человеческие потребности и его культура строятся исходя из конкретного материального базиса, и происходит это как при капитализме, так и при социализме.
Но социализм снимает устаревшие формы капиталистической собственности. Частная собственность является тормозом развития, так как, вкладываясь в строительство новой промышленности и модернизацию, капиталист теряет прибыль, поскольку прибыль создаёт ему рабочая сила. И поэтому он более заинтересован не в модернизации, а в ручном труде, и именно поэтому производство либо вытесняется в более отсталые регионы мира, либо идёт привлечение гастарбайтеров с более низкой стоимостью рабочей силы, либо идёт удлинение рабочего дня и т.д. Но развитие пытается двигаться вперёд, модернизация производства, как и уменьшение рабочего дня, приводит к потери прибылей; форма собственности не отвечает росту производства и уровню техники, наступает кризис, который откатывает всё назад. Рынок саморегулируется постоянными кризисами. Уничтожение частной собственности на средства производства, национализированная плановая экономика под демократическим контролем рабочего класса могли бы снять противоречие между формой и содержанием, перейдя к социализму и двинув человеческое развитие далеко вперёд. Но тут мы и сами забежали немного вперёд.
Маркс, говоря о первой стадии коммунизма (которую обычно называют социализмом), с одной стороны предполагает более развитые производительные силы по сравнению с капитализмом, с другой стороны, – недостаточно развитые для достижения высшей стадии коммунизма.
В «Критике Готской программы» про коммунизм первой стадии мы читаем:
«Соответственно этому каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов; индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя – это доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме.
Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который регулирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен равных стоимостей. Содержание и форма здесь изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления. Но что касается распределения последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другой.»
На высшей же стадии коммунизма производительные силы и человеческая культура достигают такого уровня, что уже не требуется равное и справедливое распределение – они достигают такого уровня, что каждый получает по своим потребностям. А значит пропадает необходимость в охране «буржуазного права», и тем самым государство полностью исчезает. Но исчезает не то государство, к которому мы привыкли, а некоторые оставшиеся, как «родимые пятна капитализма», государственные функции.
До сих пор мы больше касались терминов. Это было необходимо, чтобы лучше понимать язык, на котором хотим говорить, чтобы лучше разбираться в сложившейся путанице. Но за терминами скрывается реальность, история движения рабочего класса – его победы, его поражения, его опыт. Опыт Советского государства лучше раскрыл понимание коммунизма, трудностей переходного периода к нему, поднял многие вопросы человеческого общества – его общественные отношения, его культуру, его развитие. Те вопросы, которые касаются нас даже сегодня. На основе советского опыта, опыта переходного периода мы проследим и сделаем определённые выводы, которые необходимы коммунистическому учению, как учению об условиях освобождения пролетариата, которое поможет его дальнейшей борьбе, и сделает эту борьбу более действенной.
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ОПЫТ СССР
Опыт Советского государства, его история имеют чрезвычайно противоречивые оценки. Немудрено, ведь сам Советский Союз содержал в себе борющиеся друг с другом противоречивые тенденции, – тенденцию социалистическую и тенденцию капиталистическую. Национализированная плановая экономика и экономические успехи сосуществовали с ростом неравенства, равные права – с неравным распределением, отсутствие капиталистов – с товарно-денежными отношениями. Об СССР как о государстве переходного периода от капитализма к социализму можно сказать как хорошее, так и плохое. Однако те или иные достижения или ошибки зачастую воспринимаются через призму высоко надстроечных вещей, вроде личных характеров различных правителей, где нет места экономическим особенностям, борьбе различных больших социальных групп и т.п. Поверхностный взгляд на исторические события сегодня обычное дело, ибо начиная со школьной скамьи нас учат смотреть на историю как на историю царей, вождей и президентов, где все остальные люди никакой роли в истории будто бы не играют.
Такой же взгляд распространялся и во времена СССР. Хотя формально и подчёркивалась историческая борьба больших масс людей, творение ими истории, но всё это зачастую оставалось мёртвой буквой, во всяком случае для истории самого Советского государства. Как давалась история? Великий Ленин совершил революцию, но вокруг него оказалось много предателей, которых поборол Великий Сталин, который, как оказалось, совершил множество ошибок и обрек на смерть многих невинных людей, и виноват в этом его культ, который разоблачил Хрущёв, но политика Хрущёва была плохой из-за его волюнтаризма, поэтому его убрали, потом пришёл Брежнев, который просто не хотел или боялся реформ, поэтому экономика постепенно начинала стагнировать, Андропов и Черненко просто не пойми кто, а Горбачёв – предатель, и из-за его политики погиб Советский Союз. И путём таких рассуждений явно не получится что-либо объяснить, – во всяком случае, если человек не начинает задаваться вопросом «почему?».
Почему к власти приходили те или иные правители? Почему они проводили именно такую политику? Постановка подобных вопросов играет огромную роль при изучении истории, так как важность верного понимания исторических событий помогает нам верно оценивать день сегодняшний. Но сегодня мы наблюдаем полную деградацию, ибо даже люди, которые любят исторический предмет, начитываются учебников, выпускаются с дипломами историков, и что потом они говорят? «Этот царь хороший», «История не партийна и вне политики», «Русский народ всегда хотел кнут». Такой бред заявляется в том числе теми, кто очень хорошо может разбираться в исторических фактах, знать все имена, даты и события. Как же так? История как наука на данный момент развита плохо и во многом преподносится как сухой набор фактов. Различные же методы исследования предмета либо городят дурацкие конструкции, либо очень примитивны и спотыкаются о препятствия. Получается, что от школьника до профессора можно услышать фантастический бред, основанный на фактах, либо услышать сухой набор этих фактов.
Споры об СССР противоположными сторонами частенько ведутся именно в этой плоскости, путём сухого обмена фактами. Например, один бросит оппоненту утверждение, что при царе большинство были неграмотными, тогда как СССР дал возможность всем получить образование. Другой же кинет в ответ утверждение, что при царе даже бедный крестьянин мог получить образование. Оба будут правы. Итог? А итога не будет, – исторический эмпиризм не ведёт к разрешению спора, даже если кто-то переубедится.
Причины же такого явления, как СССР и его история, ищутся в фактах, совершенно оторванных от действительности. Таким подходом руководствуется буквально вся современная «история», которая на основе реальных фактов готова рассказывать нам о невозможности коммунизма, тогда как история должна изучаться изучением конкретных явлений, а не сухим изучением фактов или натягиванием фактов одних явлений на другие явления. В этом изучении нам сильно помогает метод Маркса, но метод Маркса искажён его многочисленными сторонниками.
Признавая, что Советский Союз был государством победившего социализма, сторонники данной позиции только вредят делу социализма, так как смешивают с ним все пороки и противоречия советского периода. Сторонники данной позиции запутывают и самих себя, что приводит к невозможности дать вразумительные аргументы на утверждения противоположной стороны, которые касаются определённых «тёмных» тем. «СССР – есть социализм» слишком простое утверждение, но оно даёт право не думать ни о чём другом, кроме как о том, что СССР – это хорошо, там был построен социализм, надо к этому вернуться. Утверждение, что в СССР был построен социализм, поддержка теории о построении социализма в отдельно взятой стране затуманивает мысль и сужает взгляд. Этим очень хорошо пользуются современные вожди «коммунистических» партий, которые навязывают подобные взгляды, ибо подобные взгляды на прошедшие события позволяют идеологически прикрывать предательство дела социализма сегодня. Говоря, что Советский Союз – общество социализма, который развалили предатели, современные партбюрократы прикрывают этим то, что подобные им бюрократы и развалили СССР. Прикрывают они и то, что советское общество было социально неоднородным, а это значит, что не было и социализма. Они же всячески пытаются называть социализмом паразитическую власть аппаратчиков, которая душила советских трудящихся, ибо то же самое делают они сами сегодня в политических организациях, подавляя инициативу, подавляя критику рядовых партийцев.
Но как же так вышло, что СССР, устраняя частную собственность, ведя курс на построение социализма, добивавшийся колоссальных экономических успехов, оказался забюрократизированным, экономика в конце концов стала стагнировать, советские трудящиеся были задавлены машиной цензуры и репрессий, и всё в конце концов привело к краху советского государства? Когда мы говорим о том, что Советский Союз был государством переходного периода от капитализма к социализму, то крайне важно подчеркнуть, что такой переход может оказаться неудачным, может произойти откат назад. Социализм, как более высокая ступень по отношению к капитализму, мог бы обеспечить надёжность достигнутого развития, несмотря на все угрозы, также, как феодальная угроза несмотря на все попытки не смогла уничтожить капитализм, вернув всё назад.
Большевики, совершая революцию, взяли власть в отсталой и во многом крестьянской стране. Войны и их последствия наложили ещё большие проблемы, рабочий класс к концу гражданской войны ослаб настолько, что вся диктатура пролетариата, как это ни парадоксально, во многом держалась за счёт узкой прослойки идейных коммунистов. Новая власть рассчитывала на революции в более развитых странах, которые могли бы помочь выйти из той отсталости по объективным обстоятельствам, в которой оказались большевики. Революция в Германии могла обеспечить русских крестьян дешёвыми промышленными товарами, а русские крестьяне немецких рабочих – сельхозпродукцией, но этого не произошло в результате предательства немецких и других социал-демократов по завершении Первой мировой войны.
В связи с этим встаёт вопрос: нужно ли было большевикам брать власть, если опыт показал, что революция в отсталой стране сначала привела к формированию привилегированной касты бюрократов, контроль над которой пролетариат потерял, а в дальнейшем эта каста совершила капиталистическую контрреволюцию? Ведь меньшевики в 1917 году говорили, что социалистическая революция в отсталой стране преждевременна, и пролетариат не созрел. Были ли они правы?
Если не рассматривать Россию изолировано от остального мира, как это делали меньшевики, то мы натыкаемся на неравномерное развитие мирового капитализма, в котором российский капитализм оказался на задворках. Огромная крестьянская страна, имеющая пережитки феодализма, встроилась в мировую капиталистическую систему во многом в качестве придатка для более развитых стран. Европейские капиталы устремились в Россию, захватывая местный рынок, национальная буржуазия тем временем была крайне слаба, а текущее положение и сосуществование с помещиками её в общем устраивало, что было видно по блоку либералов с монархистами против дальнейшего развития революции в 1905-1907 гг. Капитализм в России не стремился делать шаг вперёд к общественному развитию, как делал он в странах Европы, а война ещё больше усугубила ситуацию.
Любители Российской империи любят говорить, что если не революция, то Россия выиграла бы в войне, приобрела новые земли и превратилась в сверхдержаву. Но это глупость, так как отсталая российская экономика, которая и так встраивалась как придаток более развитых стран, во время войны ещё больше закабалялась иностранными кредитами. Победа в войне превратила бы Россию не в сверхдержаву, а в полуколонию более развитых стран как, например, Китай. Поэтому утверждения меньшевиков, схожие с утверждениями современных либералов о «неправильном капитализме» в России, были ошибочными, – российский капитализм не был заинтересован в качественном скачке вперёд ни при царе, ни при временном правительстве. Неравномерность развития мирового капитализма, в который российский капитализм встроился на правах придатка более развитых стран, готовила почву к социальному взрыву, но этот взрыв зачинался молодым рабочим классом России, потому что выход из отсталости и зависимости при такой ситуации могла дать только социалистическая революция.
В этой связи будет неверным разделять Февральскую и Октябрьскую революцию друг от друга, ибо это был один единый процесс, в котором был февральский и октябрьский этап. Аналогично с тем, как мы говорим о Великой Французской революции в качестве единой революции, но в которой было множество этапов. Поэтому когда говорят о том, что сначала нужна буржуазная революция (февраль), а потом уже социалистическая (октябрь) в корне неверно. Русская революция 1917 года, начавшаяся в феврале с движением рабочих масс, свергла императорскую власть, но рабочим тогда не хватило последовательного руководства для взятия власти в свои руки. Буржуазия тем временем не была заинтересована в каких-либо серьёзных преобразованиях и не готовила никакой более развитой капиталистической почвы. Последующие месяцы после февраля были ознаменованы борьбой рабочих и солдат со своими собственными меньшевистско-эсеровскими вождями, которые собою представляли препятствие для дальнейшего укоренения революции, и к октябрю процесс этой борьбы привёл к возвышению последовательной партии рабочего класса – большевиков, под руководством которых пролетариат взял власть в свои руки, укоренив дальнейшие революционные процессы.
Это и есть перманентная революция, которая в широком сознании ассоциируется со Львом Троцким. Многие считают, что речь идёт о революции мировой, но это лишь часть теории, которую необходимо понимать в динамике. В данной теории говорится о революции в слаборазвитых странах с крестьянским большинством и феодальными либо полуфеодальными отношениями – буржуазия отсталой страны из-за своего места в мировой капиталистической системе не способна осуществить свои собственные задачи, задачи буржуазно-демократические. Но их может осуществить рабочий класс, который не должен останавливаться на достигнутом, идя дальше, осуществляя социалистические преобразования. Иначе такая страна так и останется отсталой и очень зависимой от других. Пролетариат этой страны, остановившись, будет просто-напросто раздавлен, как был он раздавлен в целом ряде стран не без помощи меньшевистской политики. Когда же в отсталой стране к власти приходит пролетариат, то начинающиеся социалистические преобразования не могут завершиться установлением социализма до тех пор, пока пролетариат более развитых стран не возьмёт власть и не овладеет передовыми производительными силами. Критика в адрес Троцкого, которую мы считаем ложной, была не в адрес самой теории перманентной революции, а в адрес частных вопросов, связанных с этой теорией.
Пришедшим к власти большевикам во многом пришлось проводить ту политику, которую проводили буржуазные революции более развитых стран – например, конфискацию помещичьей земли и распределение её между крестьянами. Социалистическая революция таким образом выполняла задачи буржуазной революции, став мощным тараном против самого капитализма, обеспечив качественный толчок к преодолению экономической отсталости страны. С другой же стороны, экономическая отсталость страны влияла и тянула назад социалистические тенденции. Если ранее надстройка отставала от базиса, то теперь надстройка ушла от него сильно вперёд. Революции в более развитых странах, на которые рассчитывали большевики, могли помочь с отставшим базисом, но этого не произошло. Оказавшись в изоляции, советское государство начало сталкиваться с множеством проблем.
Политика «военного коммунизма» в острый период гражданской войны была призвана собрать все скудные ресурсы государства в одних руках, обеспечивая, как в армии, жёсткий контроль и распределение. Получившее землю многомиллионное крестьянство оказывало большевикам кредит доверия, которым в условиях жёсткой нехватки всего приходилось проводить продразвёрстку для снабжения городов и армии. Большевики дали крестьянам землю, крестьяне отдавали хлеб тем, кто охранял их право на землю. Но со снижением накала борьбы за выживание советской республики многомиллионные мелкие хозяева земли переставали видеть необходимость в чрезвычайных мерах и начинали сопротивляться. Пришлось переходить к Новой экономической политике.
