Уфа. Без сметаны
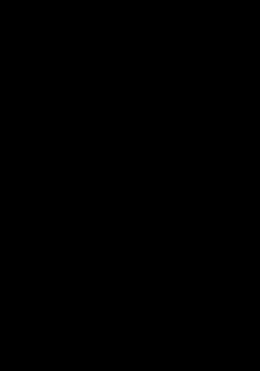
Глава 1. Пресс-релиз, который сжёг утро
06:07. Телефон орёт, как пожарная сирена в голове. На экране – лента, которую кто-то поджёг моим именем. Пуши сыпятся рябью, в каждой – чужие версии моей биографии. «Источник близкий к холдингу…»; «по словам консультанта…»; «мы не комментируем». Мы – это я, когда нужно молчать красиво.
Кофе выходит горьким, как оправдания. Из окна тянет мартовским холодом – бесплатный будильник города. Во дворе «Приора» заводится, как старый спор, а я уже проваливаюсь в комментарии: скрины, стрелочки, жирные заголовки – стенгазета эпохи. Кто-то ловко пришил меня к чужим грехам настолько точно, что шов кажется естественным.
Звонок. На экране – «Сафина З.Р.». Ответить – как подписать признание.
– Слушаю.
– Ты читаешь? – голос ровный, как лезвие.
– Уже тушу.
– Не «тушишь». Ликвидируешь. К утру – пусто. В девять – план у меня на столе. И ещё: сегодня в двадцать ноль-ноль – эфир у Леры. Ты идёшь.
Пауза. Гудки бьют по уху, как ледяные капли.
Пишу Рамилю: «Нужен скрипт. Парсер + чистка. 100k ссылок. Срочно».
Три точки. «Бюджет?»
«Сегодня днём».
Он кидает кота-скамера и архив: «На свой страх и риск». На моём – всегда.
Душ, рубашка, зеркало. В отражении – человек, который умеет извиняться за деньги. Лифт внизу кашляет дверями, как старый разумеющий друг. Дорога до центра – проспект тянется, как объяснительная. Рекламы врут честнее людей: «Скидки до 70%». Хотел бы я уценить собственные грехи хотя бы наполовину.
Охранник знает про меня всё – по бейджу. В переговорке бело, как в стерильном посте. Сафина приходит без приветствия, улыбка на лице как запертая касса.
– Ну? – она даже не садится.
– Ситуация управляемая, – голос включается сам, как автоответчик. – Запускаю опровержения через «экспертные» каналы, размываю нарратив встречными сливами, выталкиваю в тренды историю об «обиженном информаторе», подложим два старых кейса, где я «за добро». К вечеру локализуем площадки. К утру – сухой остаток.
– Не «мы». Ты, – режет она. – И запомни: если не к утру – ты больше не заходишь в этот лифт. Подпиши NDA на новый текст и иди работай.
– Принято.
– И… – она задерживает взгляд. – В эфире у Леры не изображай святость. Святость на продажу – плохой товар.
Она уходит, и воздух возвращается в комнату. Руки сами набирают: пресс-релиз №1 – «Компания не ведёт кампаний, направленных на дискредитацию…» Знаю, как это читается: «Компания ведёт кампании, но сегодня мы устали». Отправляю в два «заводских» канала и трём лояльным экспертам. Скрипт Рамиля уже бегает по сетке, собирая язвы и шрамы. В отчёте – «Очищено: 4 382. Остаток: 95 611. Риск-карта: красная зона». Красная зона – это мы.
Из кухни звонит микроволновка пустотой. В голове – флэшбек: я, ещё честный, пять лет назад пишу план антикризиса для чужой ошибки. Тогда я думал, что спасаю людей. Потом понял: чаще спасаю бюджеты.
К полудню звонит Лера:
– В девятнадцать саундчек, в двадцать – эфир. Не опаздывай.
– Я приду вовремя и скажу не то.
– Скажи то, что правда.
– Это страшнее.
– Отлично. До встречи.
День прогинается под беготню. Внутренности ноутбука шумят как компрессор чужой совести. Я рассыпаю «семечки» – короткие формулировки для «независимых аналитиков», две легенды для «очевидцев», один «случайный инсайд». Связи откликаются хрипло: кто-то хочет денег, кто-то – перепоста, кто-то – только чтобы его фамилию написали без ошибок. Мир прост: лайк – за лайк, грязь – за наличку.
К пяти – вторая встреча с Сафиной:
– Промежуточный?
– Держим тренд. Переигрываем заголовки, спускаем пар. К вечеру – волна встречных историй.
– Артём, – она впервые произносит моё имя почти ласково. – Не перепутай «волна» и «цунами». Нам нужно первое.
– Понял.
– И ещё. Лера – не про «разводку». Скажешь одно настоящее предложение. Лучше – про себя.
– Одно?
– Одно. Остальное – можешь врать.
Ухожу. На лестничной площадке ловлю себя на мысли: я боюсь тишины. Тишина – это когда никто не пишет, но все уже решили. Выхожу на улицу: Уфа делает вид, что ей всё равно, и от этого здесь музыка честнее. Машины ругаются тормозами, люди спорят глазами. Город как будто говорит: «Живи, но не слишком громко».
К шести с половиной отправляю пресс-релиз №2 – «эмоциональность отдельных каналов» + «юридическая проверка», плюс пакет «свидетелей усталости». Скрипт Рамиля плюётся цифрами: «Минус ещё 8 000. Найдено 37 «семян» – возможно, один центр». Пишу: «Не трогай центр». Он шлёт смайлик с гаечным ключом: «Понял. Но руки чешутся».
В семь ноль-пять я стою у входа в студию. Лера – в чёрном, волосы стянуты, взгляд как сварка.
– Ты нервничаешь?
– Я голоден.
– После эфира – поедим. Сегодня тебе пригодится честный сахар крови.
– У меня сахар – чёрный.
– Отлично. Камера любит контраст.
В гримёрке я впервые за день сажусь и делаю вдох. Телефон вибрирует как судорога. Я ставлю авиарежим – единственный режим, в котором меня иногда уважают. Закрываю глаза и вдруг слышу себя пятилетней давности: «Цинизм – ремень безопасности». Тогда Лера спросила: «А если тебе хочется наконец выйти из машины?» Сейчас я знаю ответ: «Выйти страшнее, чем разбиться».
Красная лампочка мигает, как стыд. Лера улыбается в камеру:
– Добрый вечер, Уфа. Сегодня у нас человек, который привык чинить чужие истории. Посмотрим, что он сделает со своей.
– Добрый вечер, – говорю я в зал и в себя.
Вопросы бьют ровно. Я отбиваю, как по инструкции. В какой-то момент Лера наклоняется:
– Одно правдивое предложение, Артём. О тебе.
Я молчу три такта – вечность прямого эфира:
– Я устал ненавидеть себя по расписанию.
Тишина на секунду становится громче аплодисментов. Потом всё снова начинает шуршать – чат, лайвы, комментарии. Но мне уже легче ровно на одно предложение.
Эфир заканчивается. Я выхожу наружу – город тёмный, как неотправленное сообщение. Ветер щёлкает по щекам, будто спрашивает: «Ну что, живой?» Живой.
Дверь крыши в нашем доме почему-то не закрыта. Я поднимаюсь, как безбилетник к звёздам. Курю. Первый вдох – извинение себе. Внизу крошатся огни, как сахар на обложке. Я достаю телефон – снимаю с авиарежима. Тут же – лавина: «Где был?»; «Ты видел?»; «Жду у подъезда». Последнее – от незнакомого номера.
Фары режут двор. Машина, которую я знаю. Окно опускается.
– Садись, Артём, – голос спокойный. Человек, которого корректно называют «начальник департамента безопасности». Бывший замминистра, нынешний душ города в перчатках.
– Ночь добр…
– Садись. Поговорим, как взрослые.
В салоне пахнет кожей и чужими решениями.
– Видел эфир. Ты почти научился говорить правду. Почти, – улыбка без тепла. – Смотри, эта история либо закончится тихо, либо твоим именем внизу официальной бумажки. Выбирай формат конца.
Он оставляет визитку. Белая как утро, чёрная как повод молчать.
– До завтра, – говорит. – И, пожалуйста, без самодеятельности.
Он уезжает. Я остаюсь в тишине двора – сидеть на бордюре, как на краю сцены. В кармане вибрирует телефон: Рамиль – «Очищено 12 483. Остаток 87 519. Нашёл одну старую запись. Лучше не трогай». Ссылка. Открываю – я, ещё честный. И мне почему-то холодно.
– Ну поехали, – говорю пустому двору. Город кивает.
Глава 2. Сипайлово в авиарежиме
Сипайлово по утрам пахнет батареями детства и кофе, который забыли выключить. Я иду вдоль умирающих сугробов и жёлтых ламп в подъездах, ставлю телефон в авиарежим – единственный режим, в котором меня иногда уважают. Лента шипит даже без интернета: фантомные уведомления, как фантомные боли.
– Ты жив? – пишет Рамиль в телеге, которая умудряется стучать даже сквозь авиарежим.
– Я – да. Репутация – кома. Скрипт дышит?
– Дышит, но хрипит. Нужен ручной обход. И… – он делает паузу. – Вечером «ФРЕНК by Basta». Поговорим, пока ребра горячие.
– Еда как переговорщик? Мне нравится.
Я снимаю авиарежим. Мир сразу становится хуже. Десять новых постов с моим именем, три сториз с моей физиономией и один безымянный канал, где меня называют «человеком-позором». Человек-позор – звучит почти как должность.
Уфа – город, который делает вид, что ему всё равно; и поэтому здесь получается самая честная музыка. Дворы напевают биты, маршрутки рифмуют ругань, и где-то из окон летят строки – здесь, в конце концов, родились рэперы. Не удивлюсь, если Белая внутри тоже читает речитатив, просто очень медленно.
Днём я изображаю работу – удаляю хвосты, расслаиваю нарративы, как лук, от которого слёзы не у меня. К обеду звонит Лера:
– В девятнадцать ноль-ноль в студии саундчек. Не опоздай.
– Я приду вовремя и скажу не то.
– Скажи то, что правда.
– Это страшнее.
– Прекрасно, – и она вешает, как будто мы договорились о погоде.
В шесть тридцать мы с Рамилем в «ФРЕНК by Basta». Внутри тепло и мясо. Он заказывает ребра «как будто завтра выключат интернет», и жареный сыр, от которого хочется жить ещё хотя бы час.
– Знаешь, что самое плохое в нашей работе? – Рамиль облизывает пальцы, не стесняясь. – Мы лечим симптомы и заражаем причины.
– Звучит пафосно.
– Зато правдиво, – он криво улыбается. – Город маленький. Здесь каждый слух – твой сосед по лифту.
Мы едим молча, как будто на нас смотрит весь рабочий чат. Мясо шепчет «живи», телефон – «сдохни». Я выбираю первое. Пока.
На выходе – Сипайлово, сумерки и ветер, который разговаривает с капюшонами. Город тянет меня к Белой – туда, где набережная делает вид, что жизнь – это прогулка, а не бегство. Мы берём велосипеды на биатлонке – круги по стадиону, где дышат люди, которым ещё не вручили повестку взрослости. Лёд в лёгких, сердце бьётся честно.
– Тебе бы спорт помог, – говорит Рамиль. – От цинизма.
– Мне бы лоботомия помогла.
– Не переживай, эфир Леры – почти то же самое.
Кофе – на набережной Белой. Бумажные стаканы, которые горячее рук; пар, который делает нас красивее в отражении. Мы смотрим, как вода ведёт свою бесконечную войну со временем.
– Ты понимаешь, что у Сафиной не «ультиматум», а приговор? – Рамиль жмурится.
– Понимаю. Но приговоры – моя специализация. Я их обжалую, а потом с ними сплю.
– Романтично.
– Дешёвый жанр.
В Черниковку нас заносит по старой привычке – Парк Победы, где белки ведут себя как VIP-гости. Я сыплю им орехи, и одна, самая наглая, забирается на кроссовок, смотрит так, будто сейчас напишет на меня жалобу.
– Видишь, – говорит Рамиль, – даже белкам ты не нравишься.
– Белки честнее аудитории. Они берут, не лайкая.
К семи пятнадцати я уже в центре. Проспект светится, как взрослая улыбка – много денег и немного стыда. Перед Гостиным двором – мелкий, липкий движ: смех, музыка, алкоголь, обещания. Чёрное стекло дорогих машин, которые знают больше, чем говорят. Воют сирены. От перекрёстка уходит кортеж с номерами 102 – мигалки, как зубы. Кто-то из больших едет «без пробок», потому что пробки – для нас, остальных. Я стою на ступеньках, и мне впервые за день смешно.
– Красивая жизнь, – говорит мимо проходящий парень в пальто.
– Дорогая, – отвечаю.
– Зато краткая, – подмигивает он и исчезает в дверях, где караоке обещает «лучший звук в твоей судьбе».
Лера ждёт в студии – короткое платье, собранные волосы, голос, которым можно резать хлеб.
– Ты нервничаешь?
– Я голоден.
– Тогда после эфира – раки и креветки. «Красный Панцирь» довезёт, куда скажешь.
– Ты произнесла магические слова.
– «Честность»?
– «Креветки».
– Понятно, – улыбается она. – Пять минут, Артём.
Эфир выходит гладким, как чужая кожа. Я отвечаю, как будто сдаю кровь – честно, но с минимальными потерями. В какой-то момент Лера наклоняется и тихо:
– Скажи одно правдивое предложение, которое тебе дорого.
– Я устал ненавидеть себя по расписанию.
– Спасибо, – шепчет она, и монолог публики в чате на секунду превращается в тишину.
После – наш подъезд к небесам: крыша. Дверь оставили открытой – чудо системного администрирования. Мы выходим, как безбилетники к звёздам. Город под нами – как схема продаж: чёткие пути, мутные мотивы. Я закуриваю. Первый вдох – как извинение самому себе.
– Курить – не модно, – говорит Лера.
– Быть честным – тоже, – выпускаю дым.
– А быть живым – модно?
– До первого скандала.
Мы возвращаемся вниз. Она набирает «Красный Панцирь»:
– Нам раков на двоих, острых. И креветки в сливочно-чесночном. И…
– И ничего лишнего, – говорю. – У меня бюджет на эмоции ограничен.
– Тогда эмоции возьмём в рассрочку, – улыбается Лера. – Адрес я скинула.
Едем мимо «Айбат Халляр». У входа парни спорят о правильной начинке для кыстыбыя, и кто-то, прижав к губам стакан, философствует:
– Настоящий – с картошкой. Но мне нравится «не башкирский» – с цыплёнком и сыром.
Мы берём по горячему – обжигаемся, жуем, как люди, у которых есть дом.
– Кыстыбый – лучшая метафора города, – говорю. – Простая штука с сотней вариантов, за которые можно подраться.
– Не начинай, – Лера смеётся. – Сегодня без драк.
Но драки город устраивает сам, просто без нашего участия. У «двора», под музыку из колонок – короткая разборка: двое спорят тихо и очень убедительно. Слов почти нет, только плечи и взгляды. Потом появляется третий – здоровый, уставший. Плечи опускаются. Разъехались. Без крика, без мордобоя. В Уфе умеют ругаться экономно – как вежливый бизнес-план.
И всё же кто-то платит. Всегда. В этом городе у каждого авторитета свой бухгалтер. Чёрные внедорожники пишут на асфальте подписи из резины, а имен не оставляют. Я узнаю одну эмблему на колесе, и мне становится тепло, как от чужой куртки – значит, я ещё не совсем чужой.
– Поехали кататься, – решает Лера.
– Мы же катались.
– Теперь – кататься с глупостями.
Глупость – это колесо обозрения у Гостиного двора, где кабинки скрипят как совесть. Мы заходим, оператор кивает – «без двадцати двенадцать, последнее». Круг. Город поднимается под нас, как волна. Вверху темно, как будто всё остальное – неважно. Её ладонь на моей шее говорит «живи ещё чуть-чуть». Поцелуй случается сам, потом смех, потом слова, которые говорят только ночью. И, да, в какой-то момент мы становимся слегка безответственными взрослыми, которые не думают о камерах. Не буду вдаваться в подробности: воздух был холодным, стекло тёплым, мы – живыми.
– Это было…
– Глупо, – заканчиваю.
– И прекрасно, – улыбается она.
К двенадцати сорока нас ждёт доставка – пакет пахнет чесноком, морем и свободой. Мы едим на полу в её кухне, как подростки, которые не дожили до посуды. Раки красные, пальцы – тоже.
– За что пьём? – Лера поднимает пластиковый стакан с лимонадом.
– За то, чтобы Белая потекла вверх, – говорю.
– За чудеса?
– За физику, которая иногда терпит людей.
Ночь длинная. Потом короткая. Потом снова длинная. Я ухожу под утро – город тихий, как после исповеди. И тут у подъезда – блеск фар. Машина, которую я знаю. Открывается окно.
– Садись, Артём, – говорит человек, чья должность звучит, как диагноз: «начальник отдела безопасности». Когда-то он был замом министра МВД, а теперь отвечает за то, чтобы нам было страшно открывать рот.
– Ночь добр… – начинаю я.
– Садись. Поговорим, как люди.
– Как какие?
– Как взрослые.
Внутри пахнет кожей и чужими решениями. Он улыбается, как бухгалтер ошибок.
– Видел эфир. Неплохо. Ты почти научился говорить правду.
– Я учусь быстро.
– Тебе понадобится. Ты задел людей, которых не стоит тегать.
– Я никого не тегал.
– За тебя тегнули. Смотри, Артём, – он наклоняется ближе. – Эта история либо закончится тихо, либо с твоим именем внизу официальной бумажки. Выбирай формат конца.
Он оставляет на моём колене визитку – белая, как утро; чернила – как повод молчать.
– До вечера, – говорит. – И выключи, наконец, этот чёртов авиарежим. Ты теперь на громкой связи.
Он уезжает, оставляя на асфальте недосказанность. Я смотрю ему вслед, будто там есть ответы. Их нет. Есть «сегодня» и «до вечера». Есть Белая, которая течёт по своим правилам. Есть я – человек-позор по версии одного канала и человек-пауза по версии другой. И есть голод – на жизнь, на правду, на креветки, которые почему-то всегда заканчиваются первыми.
Я поднимаюсь в квартиру. На кухне запах чеснока всё ещё держит оборону. Телефон мигает, как неон в дешёвом баре: Рамиль прислал отчёт – «Очищено ещё 6 000. Найдено: 1 запись, которую лучше не трогать». Ссылка. Я нажимаю. И вижу – себя, совсем древнего, ещё честного, ещё без ремня безопасности на душе.
– Чёрт, – говорю я пустой кухне. – Ну поехали.
Глава 3. Чистая лента, грязные руки
Утро не приходит – оно возвращается, как долг. В 08:11 Рамиль присылает отчёт: «Минус 6 300. Центр – устойчивый. Отпечатки – как у церковной свечи: растёкшиеся, но горячие». Он поэтичен, когда мало спит.
Сафина – в девять ноль-три, как был приказ:
– Промежуточный.
– Держим. Встречные истории пошли, опровержения растут как грибки. Но центр жив.
– Центры не убивают, – говорит она. – Центры отвлекают. Мы бьём по периметру. И ещё: к вечеру жду список персональных извинений. Кого и как.
– Люди любят, когда им платят.
– Плати из слов. Деньги – потом.
Она смотрит чуть дольше, чем обычно:
– И не суйся в лесополосу.
– В какую?
– В любую. Сегодня у тебя всё – асфальт.
После её «асфальта» особенно хочется в лес. Я пишу Лере: «Надо выйти прогуляться. Голова трещит». Она скидывает точку: «Лесополоса. Трамплин. Полчаса». Голосовые у неё всегда короче текста.
Трамплин торчит из леса, как гвоздь из старого ботинка. Мы идём молча. Под ногами хрустит снег, которым зима подписывает договор о неразглашении. На вершине – ветер, от которого город кажется честнее: видно сразу всё неприличное. Кортеж с номерами 102 разрезает проспект внизу; мигалки ловят дневной свет, как рыбаки наживку. Кто-то из больших снова едет без пробок – традиция сильнее правил.
– Почему сюда? – спрашиваю.
– Здесь слышно, как сердце перестаёт врать, – Лера прижимает ворот к шее. – На высоте ты понимаешь простые вещи.
– Например?
– Что мы с тобой – два человека, которые умеют объяснять ложь, пока не поверят в неё сами.
– Прекрасный диагноз.
– Лечиться не будем, – улыбается. – У нас эфиры, отчёты, визитки.
Мы сидим на деревянном настиле, смотрим вниз. Уфа со своих кварталов выглядит как чехол от гитары – форма есть, музыка внутри. Я рассказываю ей про визитку безопасника. Она слушает, не перебивая.
– Он просил «тихо», – говорю. – А у меня руки чесались «громко».
– Ты знаешь, что громко – всегда дороже.
– Мне уже выставили счёт.
– Заплати. Хотя бы собой. На один день.
Возвращаемся к машине – на соседней площадке быстрый разговор трёх мужчин. Никаких криков. Руки в карманах. Один вопрос, один ответ, одна пауза. Потом все расходятся. Разборки по-уфимски: как переговоры по скидке – никто не улыбается, но всем выгодно.
Днём я возвращаюсь к клавиатуре – пальцы бьют, как барабаны. Скрипт Рамиля перестал «соскребать» большой пласт: кто-то прикрутил защиту и подпитку ботов соседнего пула.
– Каскад, – пишет Рамиль. – Там не один центр. Там «ёлка».
– Руби ветки. Ствол – потом.
– Ствол – человек.
– Не сегодня.
Я оформляю три «покаянных» письма для частных диалогов: жёсткие, без соплей, с конкретикой – кому я должен и за что. В одном – «простите, что посоветовал этот тон». В другом – «моя ошбезопасностика стоила вам репутации, давайте верну её хотя бы частично». В третьем – тишина, потому что там – не простят, но надо попытаться.
В три дня – звонок «сверху, но не от Бога».
– Артём, – говорит голос, который легко цитируют в кабинетах. – Ваша активность заметна. Не делайте резких движений.
– Я старательно ползу.
– Ползите тише.
К вечеру Lера пишет: «Выживешь?»
– Я не для этого профессии выбирал.
– Тогда сделаем вид, что выбирал. В девять – кофе у Белой.
– Приду.
Набережная не лечит, но умеет слушать. Мы сидим на холодной скамейке, пар из стаканов делает нас кинематографичнее. Вода внизу ведёт бесконечную войну со льдом – ничья по очкам.
– Что дальше? – спрашивает Лера.
– Дальше – «чистая лента», – отвечаю. – И грязные руки. Я напишу большой текст. Без соусов. Без скидок.
– Опубликуешь у меня.
– Там меня порвут.
– Там тебя услышат.
Я киваю. Сафина написала бы «не согласовано». Начальник безопасности – «не рекомендовано». Город – «ну попробуй, если не жалко».
Перед домом меня ловит тот самый визиточный голос. На этот раз без машины – просто человек в пальто, в котором тепло чужим людям.
– Слышал, готовишь «честный» пост, – он говорит так, будто просит соли.
– Готовлю.
– Не делай этого. Это «громко».
– Я устал тихо.
– Тогда хотя бы не называй имён. И не произноси слов «кто заказал». Пойми правильно: я не угрожаю. Я предупреждаю.
– Спасибо.
– И ещё: позвони тем двоим. Ты знаешь, кому. Извинись, пока не поздно.
– Поздно уже вчера.
– Это Уфа, – он улыбнулся почти по-человечески. – Здесь «вчера» всегда готовы слушать «сегодня».
Дверь подъезда пахнет железом и детством. Я поднимаюсь, как будто под водой. На кухне – пустые контейнеры, чесночный привкус с вчерашней ночи. Сажусь и пишу. Большой текст. Без сметаны.
«Я – Артём Мельник. Моя работа – объяснять чужие ошибки так, чтобы в них было удобно жить. Сегодня я объясню свои…»
Пальцы идут быстро, как если бы за мной гналаcь собака. Я не называю имён. Я называю действия. Публикую в 22:17 у Леры. И закрываю ноут.
Мир впивается зубами почти сразу. Лента шумит, как вентилятор дешёвого кондиционера. Комментарии делятся на три лагеря: «позор», «уважение», «слишком умный, чтобы верить». Мне – почему-то спокойнее.
В 23:02 – сообщение от номера без имени: «Неплохой текст. Жаль, запоздалый. Завтра поговорим по-настоящему».
Кто это? Любой. В этом и фокус.
Ночью я не сплю. Город вокруг тоже притворяется бодрствующим: гудят трассы, мигалки режут тишину. С крыши опять открыта дверь – кто-то там курит. Я поднимаюсь – молодой парень в толстовке, телефон светится в ладони. Мы киваем друг другу как заговорщики.
– Холодно, – говорит он.
– Жить – теплее, – отвечаю.
– Не всегда.
– Но иногда.
На обратном пути телефон пиликает: от Рамиля – «Снял ещё 12k. Но появился новый пул. И – сюрприз – два твоих старых «добрых» кейса внезапно ожили. Кто-то подаёт их как «ложь»».
Я улыбаюсь сам себе в темноте. Конечно ожили. В Уфе ничего не умирает – всё уходит на перекур.
Я засыпаю под утро, как списанный пресс-релиз. Снизу гудит какой-то кортеж – номера не вижу, но слышу, как город снова делает вид, что всё под контролем. Он любит этот образ. Я – уже меньше.
Глава 4. Ночной проспект, дневные маски
Утро приходит чужим голосом: «Встаньте, пожалуйста». Будильник выключен, совесть включена. На телефоне – цифры, как у кардиограммы: просмотры моего поста бегут вверх, доверие – как обычно, в противоположную сторону.
Рамиль уже в сети.
– Ну что, герой? – пишет.
– Жив.
– Минус ещё 5к упоминаний, но «ёлка» растёт. Питание – с трёх площадок. Кто-то держит ручку.
– Ручка – это человек?
– Угу. И ещё – два твоих старых «добрых» кейса перекодировали как «манипуляции».
– Спасибо, что испортил завтрак.
– Завтрак испортил ты. Я просто дал ссылку.
Звонок Сафины бьёт точно в девять ноль-ноль.
– Встреча через двадцать минут, – говорит, будто сообщает погоду.
– В офисе?
– В «офисе», – холодно произносит она. – Сегодня наш офис – кафе с окнами на проспект. Мы должны выглядеть, как люди.
«Как люди» – это смешно. Я надеваю рубашку, в которой удобно извиняться, и еду.
Кафе смотрит на проспект Октября, как на дефиле: машины причесаны, люди – тоже. Сафина уже на месте, без пальто, без слабостей. На столе – чайник с водой, в чашке – что-то прозрачное, как её намерения.
– Садись, Артём, – говорит. – У меня мало времени.
– Приятно сознавать, что у времени нет скидок.
– У времени есть расписание. И у тебя в нём последняя строка.
– Приятно, – повторяю.
Мы молчим десять секунд. Улица шумит за стеклом, как море, снятое на телефон.
– Ты выложил пост, – наконец.
– Выложил. Без имён, без драм.
– Драмы всегда там, где деньги. Твой текст – неплох.
– «Неплох» – это «сойдёт»?
– «Неплох» – это «ты не умер». Но твой текст спровоцировал ответ.
– От кого?
– От тех, у кого не принято подписываться. И… – она делает глоток своей прозрачной честности, – от наших.
– «Наши» – это кто?
– Те, кто платит тебе зарплату. Пока ещё.
Я смотрю в её лицо. Там спокойно. Это плохо.
– Что нужно?
– Нужны три вещи, – поднимает три пальца. – Первое: ты пишешь ещё один текст. Холодный. «Я сожалею, если…» – без «почему», без «кто». Второе: ты делаешь персональные звонки двум людям. Ты знаешь, кому.
– Знаю, – признаю.
– Третье: ты исчезаешь на пару дней из публичного пространства.
– Серьёзно? Мы же… антикризис.
– Антикризис – это тактика. Сейчас – стратегия. Стратегия: не дразнить руки, на которых перчатки.
– Перчатки – у безопасности?
– У всех, у кого холодные пальцы.
Я смеюсь. Плохо. Сафина не любит смех, когда не она его включила.
– И это всё? – спрашиваю.
– Ещё одно, – наклоняется. – Лера.
– Что Лера?
– Она слишком близко, Артём.
– Это моя проблема.
– Пока – моя. Постарайся, чтобы она не стала нашей.
Мы молчим. По проспекту проходит кортеж с 102. Мигалки ловят дневной свет и играют с ним, как дети с мыльными пузырями. Сафина смотрит на стекло, как в зеркало.
– Мы закончили, – говорит. – Отчёт – вечером. И, Артём…
– Да?
– Не вздумай быть героем. Героев хоронят красиво, но быстро.
Выхожу и набираю Машу. Томится в контактах молчаливым «М.». Старый клиент, старая боль. Она берёт трубку на первом гудке, будто ждала пять лет.
– Да?
– Маша, привет. Это Артём Мельник.
– Знаю, – холодно.
– У тебя секунда?
– Нет. Но ты уже её занял.
Пауза. Я слышу, как она делает вдох – у человека, который умеет держаться, вдохи как маленькие войны.
– Я позвонил извиниться, – говорю. – Тогда я выбрал тон, в котором тебе не стоило жить.
– Ты выбрал тон, в котором мне пришлось обороняться, – поправляет.
– Да. И я… сожалею.
– Сожалеешь, потому что сейчас прижало? Или потому, что правда доросла до тебя?
– Потому что правда доросла, – честно.
– Поздно.
– Знаю.
– И что ты хочешь?
– Ничего. Просто чтобы ты знала.
– Знала – что? Что у тебя есть совесть?
– Что я её включаю. Иногда.
– Включай чаще, – говорит и кладёт трубку. Никаких «прости». Совесть – это когда тебе не дали чек.
Я стою у обочины, как у края сцены. Ладони липнут. Второй звонок ещё тяжелее. Сергей. Когда-то я законтрил его увольнение: сделал из него «источник токсичности», потому что надо было спасать общий бюджет. В «тексте» он стал «человеком, дестабилизирующим». Я набираю.
– Кто это?
– Артём.
– А-а-а. Наш мальчик. Чего надо?
– Прости.
– За что именно? Список длинный.
– За титры в твоей жизни. За «токсичного источника», «дестабилизатора» и «недобросовестного сотрудника». Ты не был ни тем, ни другим.
– Я был неудобным, – спокойно. – А неудобных вы любите превращать в уроки.
– Да.
– Лера заставила тебя позвонить?
– Нет. Мой пост.
– Видел. Смело. Но запоздало.
– Поздно – это когда уже могила. У нас пока… ограждение.
– У тебя – ограждение. У меня – ипотека, – смеётся без радости. – Ладно, Артём. Живи. И не делай вид, что не знаешь цену словам.
– Знаю.
– Тогда заплати. Не мне. Себе.
Он отключается. Мне хочется сесть на асфальт и не вставать. На проспекте пахнет бензином и чужим кофе.
Лера пишет: «Где ты?»
– На проспекте. Учусь не быть героем.
– Получается?
– Плохо.
– Тогда повторяй. В семь я буду у Белой. Принесу орехов белкам. Пойдём их кормить, пока нас кормят новостями.
В офис-коворкинге, где мы иногда прикрываемся «работой», Рамиль уже разложил свои провода как веточки от нервов.
– Смотри, – показывает график. – Вчерашний «искренний» пик дал ответную волну. Но есть странность: вот здесь на растущем плече – живая органика. Комменты не боты.
– Люди?
– Люди. Им зашло.
– Это опасно.
– Согласен. Когда людям заходит правда – это всегда опасно.
Он говорит и стучит по клавиатуре, как по барабану в плохом баре.
– Ещё, – добавляет, – «центр» – не один человек. Там связка: медиа-менеджер + безопасник + два «добровольца» из наших аффилированных.
– И что?
– И то, что ты им сейчас мешаешь. А когда мешают – сначала давят, потом дружат.
– Спасибо за обнадёживание.
– Я реалист, – хмыкает. – Иди уже. У тебя же «Белая».
Белая вечером – как крупная купюра: хочется тратить аккуратно. Лера ждёт на лавке с бумажным стаканом и пакетом с орехами.
– Ты опоздал, – говорит.
– Я учился не быть героем. Это требует времени.
– И как?
– Я пока дубль второй.
Мы идём вдоль воды. Ветер перебирает волосы, как ленту сториз.
– Я позвонил Маше и Сергею, – говорю.
– И?
– И они не аплодировали.
– Они живые, – пожимает плечами. – Живые не аплодируют чужим раскаяниям, Артём. Они просто ждут, что ты не будешь повторять.
– Звучит как религия.
– Звучит как город.
Мы бросаем орехи белкам. Самая наглая снова приходит первая. Смотрит, как кассир, которому ты должен крупную сумму.
– Мне иногда кажется, – говорит Лера, – что Уфа – это сплошное «под подпись».
– А мне – что это вечный «пост-оплата».
– Мы смешные, – она улыбается.
– Мы дорогие, – поправляю.
Телефон вибрирует. Номер – без имени. Но голос – узнаваемый, как корпоративный шрифт.
– Артём, добрый вечер, – бархатно произносит начальник безопасности. – Надо бы увидеться.
– Сегодня?
– Лучше вчера. Но можно и сейчас.
– Где?
– Гостиный двор. Через двадцать минут. Без публики.
Лера смотрит вопросительно. Я киваю: надо. Мы идём к центру. Город зажигает витрины, как спички – одну за другой.
У дверей Гостиного двора нас встречают двое, которые выглядят как «ничего не происходит». Они проводят в маленькую переговорку без окна. На столе – пустой стакан, в стакане – прозрачность.
Начальник безопасности входит без театра.
– Добрый вечер, Лера, – кивает.
– Я здесь как сопровождающая, – спокойно, но так, чтобы слышали стены.
– Здесь все – сопровождающие, – мягко. – Артём, присядь.
Я сажусь. Он не садится – это стиль.
– Ты написал текст, – говорит. – Молодец. Ты даже сумел не назвать имён. Это редкий талант.
– Я просто не люблю похороны, – хмыкаю.
– И правильно. Вот к делу. Ты мешаешь двум процессам. Один – большой и дорогой. Другой – маленький и нервный. Оба – не твои.
– И что мне сделать?
– Перестать быть шумом. Исчезнуть на пару дней. Написать формулу «я сожалею, если…» – ты знаешь – и передать Маше и Сергею короткие записки с человеческими словами. И, пожалуйста, не встречаться с теми двумя из списка, который тебе пришлют.
– Какими «двумя»?
– Ты увидишь. Там всё просто: люди, с которыми лучше здороваться кивком через дорогу.
– И если я…
– Если ты выберешь «громко», – он наконец садится, – то у тебя будет очень громкая неделя. С интервью, повестками и другим, неинтересным контентом.
– Вы угрожаете?
– Я предупреждаю. Это разное.
– И за что такая забота?
– У города иногда есть иммунитет. Ты – его часть. Мы не любим, когда иммунитет ломается из-за гордыни.
Лера дышит ровно, но пальцы у неё на колене дрожат. Я кладу сверху ладонь. Он замечает и улыбается, как бухгалтер, который впервые за год увидел наличные.
– Ещё одно, Артём, – он наклоняется. – Не надо героизма. Мы уже это проговаривали.
– Я не герой, – говорю. – Я просто устал от скидок.
– Тогда плати полную цену, – встаёт. – Надеюсь, у тебя хватит.
Он уходит. Мы остаёмся вдвоём. В комнате пахнет деревом и резиновым штампом.
– Страшно? – Лера первой нарушает тишину.
– Чуть-чуть.
– Мне тоже. Но страх – хороший детектор правды.
– А правда – плохой бизнес, – улыбаюсь.
– Поэтому мы – не бизнес, – отвечает.
Мы выходим. Снаружи проспект живёт своей короткой жизнью. В колесе обозрения кабинки ползут, как мысли после полуночи. Парень у входа говорит кому-то в телефон: «Да, да, без сметаны». Я смеюсь. Город читает название книги быстрее, чем я успеваю его распечатать.
– Поедем? – спрашивает Лера.
– Куда?
– Куда угодно, лишь бы не в соцсети.
В такси водитель включает радио, где обсуждают «честные признания в медиа». Мы смеёмся синхронно. Потом молчим. Такси разворачивает нас в сторону биатлонки. Ночь там пахнет кислородом и усилием. Мы делаем пару кругов пешком – просто чтобы ощутить ноги. На спуске Лера говорит:
– Ты понимаешь, что завтра тебе придётся исчезнуть?
– На день. На два. На сколько?
– На столько, чтобы ты не начал снова врать.
– Это может надолго.
Мы смеёмся. В темноте смешно легче. Вдалеке по набережной проносится чёрный седан – без мигалок, но с уверенностью. Я вдруг чувствую ту лёгкую, почти праздничную грусть, которая приходит, когда ночь ещё не закончилась, а сил уже нет.
– Артём, – Лера берёт за локоть. – Когда совсем прижмёт – напиши мне одно слово.
