Свет
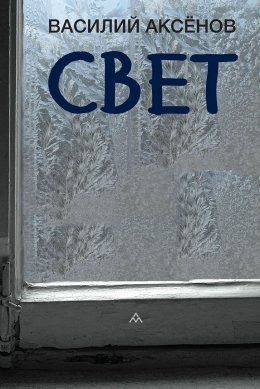
© В. И. Аксёнов, текст, 2025
© Фонд содействия развитию современной литературы «Люди и книги», макет, 2025
© А. Веселов, оформление, 2025
Часть первая
Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
Притч. 23:22
Когда ты станешь таким, каким тебя Бог задумал, ты увидишь то, что дано увидеть только тебе, и захочешь с нами поделиться… Твоей первой любовью был свет, и ты начал писать, чтобы показать это другим.
К. С. Льюис, Расторжение брака
Слова живы, наделены подлинным бытием и выводят человека в область прямого соприкосновения с именуемым.
А. Ф. Лосев
Я живу, чтобы свидетельствовать.
О. В. Волков
Свет в декабре
Из записанного мной тремя сутками ранее, в тот же день как я приехал к матери и подключился к интернету, который здесь, кстати, в «таёжной глухомани», совсем не тормозит (у сыновей подслушал это слово) – как стриж, стремительно летает (и это тоже). На самом деле. Что тут, в Сретенске, что в Петербурге – разницы не нахожу. Ну, это к слову.
А записал (из численника выписал) такое:
«22 декабря. Солнце: восход – 08:57; заход – 15:58; долгота дня – 07:00. Луна: заход – 03:22; восход – 13:09; фаза – 73 %; в знаке Тельца (05:54).
Александр, Анна, Василий, Владимир, Софрон».
Есть среди моих близко знакомых и многочисленных родственников Анны, Василии, имена распространённые, и Владимиры, и Александры. Поздравил с именинами, до кого дозвонился, с кем-то и связь уже утрачена, не отыскать, не выловить в эфире; из тех, кто, знаю, жив ещё, – ряды редеют год от году, знай номера из телефона удаляй, список контактов сокращая, не пополняя его новыми. Не удалил единственный, духу на это не хватает, как будто жду звонка – а вдруг! – и чтобы сразу распознать, увидев имя, и звонок не сбросить: «незнакомый».
Знакомый, Господи, до немоты, до острой боли, до отчаяния…
Софрона, точно, нет, а вот Софронов был. Первый мамин муж. Венчанный. Умер в двадцать три года от чахотки.
Чем его только не лечили, что только не пробовали, кто что подскажет, насоветует, всякими травами, барсучьим и медвежьим жиром; есть собачатину отказывался наотрез, как уж мы со свекровкой его ни упрашивали и ни уговаривали, а согласился бы, и до сих пор бы, может, жил.
(«Жил-то бы жил, но нас бы не было тогда, нас – пятерых твоих детей». – «И то, мол, правда»).
Белорус. Сам он родился в Сибири, а родители его прибыли в наши суровые чалдонские места из Витебской области по Столыпинской реформе.
«Вышла я замуж рано, на восемнадцатом году, мамы уже с нами не было, умерла, тятя с другой женщиной сошёлся в ссылке, с малыми на руках, тут и война, вот предложил мне ухажёр, а я взяла и согласилась, на фронт его не брали по болезне… Хорошие были люди, ничё не скажешь, и сам он, муж мой первый, и родители его, и дети все, было их шестеро, трудолюбивые, тихие, ни лаи матерной от них не услышишь, ни ругани в семье их не случалось, всё миром да ладом, как меж собой, так и с соседями, и на скотину не покрикивали, и к ней с лаской да с добрым словом, и та у них была послушной. Никого уж нет, все вывелись, кто по хвори тяжкой, кто по старости, а кто и с фронта не вернулся».
Внесён мамой печатными буквицами-закорючками, с безобидными ошибками – если уж разобрался я, для Господа и вовсе не задача, – в её потрёпанный от времени поминальник (школьная зелёная тетрадь в линейку) так: «Сиргей». Детей у них за три года совместной жизни – не говорила, по какой причине, из-за его, скорей всего, туберкулёза – не народилось. Помянула она его, своего первого безвременно ушедшего от неё в иной мир мужа, сегодня, вспомнила о нём, нет ли, и спрашивать не собираюсь. Сокровенно.
За мной не стало:
«Господи, помяни в Царствии Твоём раба Божьего Сергия, прости все его прегрешения, вольные и невольные, даруй ему Царствие Небесное…»
И вдруг опять подумалось, как укололо: «А не умри Сергей Софронов в молодости, и я на свет не появился бы, как и мои старшие брат и сёстры… Пути Господни».
Так и войне, Великой Отечественной, жизнью своей мы вроде как обязаны: а не случись она, и нас бы не было – наши отец и мать не повстречались бы.
Стоит войну благодарить… Разве так можно?
Пути Господни, повторю лишь. Мы уже ходим по назначенному.
В тетради шесть листов, остальные шесть когда-то были вырваны, скорей всего, на письма (стёкла в окнах, на Чистый четверг и на зиму, в фонарях «Летучая мышь» и лампах керосиновых газетой чистили обычно, тех был избыток, от «Пионерской Правды» до просто «Правды» и «Известий»). Писала она, мама, только нам, своим детям, больше никому, с другими родственниками переписку вёл отец – открытки, в основном по праздникам: с Новым годом, Днём Победы и с очередной годовщиной Великой Октябрьской революции, – других праздников, божественных, для отца не существовало – «бабьи сказки, поповский обман, чтобы помыкать такими вот, вроде тебя (мама), было легче, ездить на вас, на дураках, ведь всё понятно, вот только вам никак это не вдолбишь, это же надо быть такими безмозглыми, как курица, – в чушь несусветную поверить».
У неё, у мамы, ни одного класса образования, безграмотная, читать, считать и писать самостоятельно выучилась, на пасеке, когда работала помощницей у пчеловода, подростком, буквы и цифры ей «показывал и объяснял сам пасечник, старик-татарин», – в школу, как кулацкую дочь, её не принимали, и на порог-то школы не пускали, «а так хотелось, аж до рёву», – у него, у отца, всё же четыре класса в багаже, пусть и оконченных заочно. Грамотный.
Первые три листа – «за здравие», где есть и я, другие три – «за упокой».
«А отец-то? – спросил я её однажды (был он, отец, и в „за здравие“, после в „за упокой“ переместился, а в „за здравие“ вычеркнут химическим карандашом; много прибывших в „за упокой“, только вчера заглядывал я в поминальник, ну и выбывших, конечно, из „за здравие“). – Он же не верующий, атеист». «Так и чё с того, Ванюха, что не верущий, мало ли, кто каким себя объявит, – ответила она. – Бога-то это разве отменяет?.. Крещён же был, когда родился. Тогда и имя получил. Раньше младенцев всех крестили. Не покрести – судачить станут, осуждать: мол, на погибель детку обрекли, не на спасение, так же нельзя. Сам со стыдом, но признавался: было, мол, было, будь оно неладно, разрешения у меня, дескать, когда понесли к попу в церковь, не спрашивали. А отказался бы? – спрошу. Ну неужели б нет, конечно, – скажет. Крестика, ладанки он не носил, как с ним сошлись, на нём не видывала. Там партбилет всё заменял, какой уж крестик. Но туда-то, на тот свет, явишься, в момент от атеистов-коммунистов на другую лавку, к „дуракам безмозглым“ ближе, перескочишь… И бесы, как говорят, веруют и трепещут, да и не веруют, а знают, им там, не нам чета, виднее».
Это сказав, и улыбнётся: и не губами, а глазами – те мягким светом озарятся.
Ох, мама, мама.
И я всё чаще, вдруг подумал, молиться стал и подавать «за упокой» записки.
Мама сказала бы: «На этом мир стоит». Стоит, стоит, и нам его не опрокинуть.
Тут, правда, так: как постараться…
– С вашим отцом, какое уж венчание – коммунист на всю голову – и заикнуться не посмей. Испепелит. И не словами, так глазами. Да и время было не до венчаний, и где – в церкве солярка и мазута всякая, трактора да машины в ней, бывшей, ремонтировали, дизель стоял там электрический. Как её ангел омрачался, представить страшно, он же её и в бедствии не покидал, и будет там, когда и стены упадут: престол не может оставлять, если назначен, престол-то вечен, раньше так старики всё говорили: церковь сгорела, а престол стоит, при нём и ангел пребывает… Ну вот. Такую жизнь с отцом прожили – терпение нас, милые вы мои, повенчало, и худое до мелочи помню, не забыть, и доброе из памяти не вытравилось. А всё равно жила я за ним, отцом вашим, хоть и с крутым, с тяжёлым был характером, но человеком честным и прямым, можно немного было бы и подкривить, – как за высокой каменной оградой; умер он, мой хозяин, – и ограда рухнула, всем ветрам сразу подставилась, будто всю одёжку с меня, как лист по осени с берёзы, сдёрнуло, сердце и душу оголило – обындевели, вряд ли уже и оттают. И доживай теперь как знаешь, и помирай сам по себе, да и ни с кем, оно понятно, под ручку не отправишься в могилу, все пораздельно… разве что в братскую – туда уж скопом.
– Мама, а мы?
– Ну, вы ещё вот у меня, оно и ладно… Не бросаете старуху, слава Богу, и вам зачтётся… родителей-то если почитаешь. Не я придумала, а по Писанию. Оно и в жизни подтверждается. На вас мне жаловаться грех. А у других… и в инвалидку сдать готовы. Да и сдают, сколь вон примеров. Сдали, как вещь какую на хранение, да и забыли. Чужие люди пусть заботятся. Чужим-то надо?.. С глаз долой, как говорится, из сердца вон. Кому глядеть на старых-то охота – с тоски усохнешь, от них и запах – не цветы… да и ворчливые не в меру, тихо сказал ему – не так, громче сказал, он уж обиделся: чё на меня, дескать, кричишь… А что и сами, придёт время, одряхлеют и оглохнут, не допускают, малоумые. Не объяснил ли им никто… Думают, вечно будут молодыми, глупые.
«Да-а, – иной раз вздохнёт, глядя на меня, продолжительно, – старость не радость, парень, молодость не жизнь», – и улыбнётся.
Про старость пока ничего не скажу, её пока не ощущаю, а вот про молодость – туда вернуться не хотелось бы. Разве на часик, на другой, и то в конкретные места, в определённые моменты. Много и тех, конечно, наберётся – минут счастливых. Но те и так во мне живут, без возвращения куда-то. В любой момент, как в омут, можно окунуться. Не утонуть бы, задержавшись в нём, не задохнуться…
Вот и слукавил я нечаянно. Вернулся бы. Ладно, не сбегать с ружьём на охоту по первому снегу, на глухаря, на косача или на рябчика, весной на утку перелётную, гуся, но порыбачить. В те добрые времена, когда хвойный лес по берегам речек в наших местах не был ещё похабно вырублен, речки были полноводнее, вода была в них ледяная, и рыбы в них непуганой водилось много, рыбы не «сорной» – «красной, благородной». Вернулся бы туда, снасти свои теперешние прихватив, уловистые. Смешно сказать, рыболовных принадлежностей всяческих, как отечественных, так и заморских, у меня становится всё больше, и магазины рыболовные забиты ими, а ловить скоро будет некого.
Отец наш на охоту изредка ходил, на боровую птицу, но с удочкой на речке я его не видел, представить даже не могу. Не в пример ему были евангелисты.
«7 февраля 1885 года; жених: 1-го Восточно-Сибирского линейного батальона Митрофаний Гаврилович Коробейников, православного вероисповедания, первым браком, 28 лет; невеста: села Мангазейского крестьянина Варфоломея Яковлевича Лапшина дочь, девица Васса, православного вероисповедания, первым браком, 22 года; поручители: села Мангазейского крестьяне Терентий Гаврилович Коробейников, Андрей Зверев, по невесте села Мангазейского крестьяне Иван Варфоломеевич Лапшин, Никандр Иванович Черепанов.
26 февраля 1889 года; имя: Евдокия; родители: уволенный в запас армии рядовой Митрофан Гаврилович Коробейников и законная жена его Васса Варфоломеевна, оба православные; восприемники (крестные родители): села Мангазейского крестьянин Яков Капитонович Черепанов и крестьянская жена Наталья Варфоломеевна Шадрина.
30 января 1911 года; жених: села Мангазейского крестьянин Павел Григорьевич Арефьев, православного вероисповедания, первым браком, 24 года; невеста: села Мангазейского солдатская дочь Евдокия Митрофановна Коробейникова, православного вероисповедания, первым браком, 21 год; поручители: села Мангазейского крестьяне Дмитрий Васильевич Черепанов и Афанасий Андреевич Черепанов, по невесте Иван Архипович Аксенов и Василий Иванович Черепанов.
18 октября 1912 года; имя: Иоанн; родители: села Мангазейского крестьянин Павел Григорьевич Арефьев и законная жена его Евдокия Митрофановна, оба православного вероисповедания; восприемники: села Мангазейского крестьянин Филипп Дмитриевич Аксенов и крестьянская дочь Мария Федоровна Аксенова».
Ну а я вот, так уж история распорядилась, по Промыслу ли Божьему, один из продолжателей рода, Иван Иванович Арефьев.
С некоторых пор, при живом ещё, но уже незрячем отце, на тумбочке возле маминой кровати, у изголовья, лежит обычно развёрнутое Евангелие, закладкой – яркая новогодняя открытка советского ещё образца с завьюженным, красноносым и добродушным, словно чуть уже подвыпившим, Дедом Морозом в резных санях, с мешком подарков. Судя по почерку, Никита присылал. Ещё из армии, судя по году. Открытке много лет. Столько же лет закладкой, помню, служит.
По слогам, вслух, читает, слышу, мама:
«В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему; было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился учению Его».
Ну вот, думаю.
– Веки слипаются, в глазах темнеет, – говорит мама. Снимает очки с бельевой резинкой вместо дужек, с толстыми, не протёртыми линзами, с чёткими на них жирными отпечатками пальцев, кладёт их рядом с Евангелием. Одни на двоих с отцом у них были эти очки, по очереди ими пользовались. Просматривал в них отец обязательные «Известия» и «Правду», не обязательный «Труд», а мама шила в них и по вечерам читала вслух и с выражением первоклассника «Хмель», «Вечный зов», «Коня рыжего», «Половодье» или «Тихий Дон», отец при этом слушал, затаив дыхание; муха, назойливо жужжа, летала б рядом, её убил бы – чтобы не мешала. Теперь на тумбочке возле маминой кровати лежат только Евангелие и Псалтирь, другие книги слушать некому. – Ты почитаешь после мне?
– Конечно.
– Может, вздремну, еслив получится. Толком давно уже не высыпалась, – говорит мама. – Всё чё-то в голову и лезет, будто в посудину пустую, всё будто кто-то в ней бормочет, расположился, ну а о чём, не разберу. Да когда тихо-то, так полбеды, то закричат – становится не по себе. Не дай, Господи, лютому врагу человеческому застращать меня грешную, ума-то чтобы не лишиться… безумной страшно уходить.
– А есть он, ум-то, был когда-то?
– Вспомнил отца, он так всегда.
– А как забудешь?
– Не забыть.
– Давай давление померим.
– Какое есть, чё его мерить, – говорит мама. – Придумал кто-то же – давление, раньше не знали про такое, и люди жили… Суп в холодильнике, сам знаешь, овощной, проголодаешься – согреешь. Найдёшь?
– Найду.
– Ну, хорошо… Хочешь смотреть, так телевизор-то включай, он не мешает мне, глухой… можешь хоть в колокол тут бить или на тракторе по дому ездить, когда усну-то, мне хоть чё тут.
– Пока не буду. Насмотрелся.
– Как знаешь, – говорит мама. И говорит: – Рот разрывается – зеваю, спать соберусь – и ни в одном глазу, ты тут хоть тресни.
– Считай слонов.
– Лучше коров уж… или куриц, эти мне ближе, – сказала так, заулыбалась. – Этих представить хоть могу. Слонов не надо. Их испугаюсь, вовсе не усну.
– Считай коров.
– Собьюсь на первой. Всех вспоминать начну, какие у нас были, стану жалеть – расстроюсь. Лучше куриц.
– Можно ворон.
– Да ну их, шумных. И сосчитай их – не сидят на месте.
Мне хорошо всегда с ней было. С мамой. И по душам поговорить, и помолчать. И затаённым бабьим летом в лес вдвоём сходить – за клюквой, за брусникой, за калиной. «Для морсу, от простуды, и на шаньги, и между рам оконных в зиму яркие ягоды положить – для красоты». И песню спеть с ней. Всем остальным в нашей семье медведь на ухо наступил – отцу, Никите, да и сёстрам. И мне казалось, что она, мама, мысли иногда мои читает. Только подумаю что-то спросить, она мне тут же отвечает, а я и рта ещё не открывал. Никита как-то мне сказал: «Вы на одну волну настроены с ней». Может, и так. «На длинную, на среднюю или короткую?» – «Какая там у вас, не знаю».
С отцом не ладили. Мир нас не брал. Тогда. Сейчас: ох, как его мне не хватает. Исправил многое бы. Но… И больше слушал бы, и чаще был бы с ним, вопросов больше задавал бы, не выставлял бы напоказ своё всезнайство. Что же он думал обо мне?.. Понятно. Я то же самое могу сейчас подумать о себе тогдашнем: самоуверенный, самовлюблённый дурень. Стыдно. Стыдно перед собой, перед отцом. А если стыдно перед ним, значит, он есть, не только был. Перед ничем-никем бывает разве стыдно?..
Всё надо делать в своё время. Прежде всего – простая вроде истина – любить.
– И ты ложись.
– Да ещё рано.
– Нам, старикам-то, всё пора. Спалось бы только… с этим горе.
– Плед сверху, – спрашиваю, – положить?
– Пока не надо… и без того наздёвано на мне, как на купчихе, – отвечает, – будто не спать – в ямщину собралась. В ямщину, в ту поехать легче, чем тут уснуть. Вот где беда-то.
Евангелие то же. Без корочек. Дореволюционного издания. Страницы с тёмными и загнутыми от бесчисленного перелистывания уголками.
Вспомнил.
Отец, вернувшись из командировки, краткосрочной или длительной – и по три месяца отсутствовал, случалось, счастливейшее время было для нас с братом, – когда трезвый, когда выпивший, служебный ТТ, в кобуре, но без портупеи и ремня, клал, как правило, под свою подушку. Ремень вешал медной пряжкой на вбитый в стену гвоздь, возле входной двери. Чтобы всегда был под рукой. Или правил, обычно перед баней, сдвинув брови, сомкнув плотно и сжав их зубами по привычке, губы, об него опасную бритву «Золинген», привезённую им с фронта, или применял экстренно как воспитательное и отлично действующее средство для меня и для Никиты – и по делу, зарабатывали, не без этого, и так, впрок. Теперь смешно, ну а тогда… я, помню, плакал от обиды, Никита – тот лишь кулаки сжимал и зубы стискивал. Мама в комод с постельным бельём убирала от отца, «чтобы не взбеленился и не сжёг, если не в духе», небольшой картонный образок Богородицы с Младенцем и Евангелие: в комоде отец ничего не терял и не заглядывал в него. Когда он уходил из дому – в сельсовет, на партсобрание, по вызову на какое-то правонарушение, драки семейные, к примеру, разнимать, где муж жену побьёт, где поколотит та его, унять ли разбуянившегося дебошира в чайной, на улице или в клубе, – мы с Никитой доставали из-под подушки на аккуратно заправленной родительской постели «Тульский Токарев», самозарядный, и целились по очереди в разные предметы: паф, паф! – без промаху, конечно. Магазина в пистолете, слава богу, не было, прятал его отец предусмотрительно где-то отдельно, и отыскать его у нас не получалось, хоть и пытались, разумеется. Не там искали. Засовывал магазин, как позже стало нам известно, отец за репродукцию «Три медведя», висевшую в спальне родителей, или за портрет писателя Николая Васильевича Гоголя, висевший в спальне же слева от большого настенного зеркала с незапамятных времён. Справа от зеркала красовался портрет наркома Климента Ефремовича Ворошилова, за который отец магазин почему-то не прятал. Откуда эти портреты появились у нас, не знаю. Вроде как в сельмаге раньше продавались чёрно-белые репродукции не только пейзажей, но и портретов учёных, писателей, композиторов и иных знаменитостей. В дошкольном детстве я считал, что это наши родственники, разбросанные по всему нашему обширному краю и в Сретенск к нам в гости ни разу не приезжавшие. Зато из винтовок, ТОЗ–8 и ТОЗ–16, хранившихся в не закрывающейся на замок кладовке, палили мы в слуховое окно сарая или с крыши дома, укрывшись в нависших над крышей ветвях старой берёзы, налево и направо. Патроны мелкокалиберные в том же магазине отпускали вразвес, и купить их мог каждый, даже мы. Шишки сосновые в лесу в мешок насобирал, леснику сдал, деньги получил – и за покупкой. Чудо и счастье наше – никого, Бог миловал и нас, и наших родителей, и возможную жертву, кроме сорок, ворон и воробьёв, не подстрелили. Тогда нет, теперь вот и их, безвинных птиц, пусть и вредных, вороватых и назойливых, пусть и с большим запозданием, оплакиваю. А вот Евангелия, хорошо о нём осведомлённые, мы не касались. И от отца хранили эту тайну. Тот нас, конечно, и не спрашивал.
Да. Позже, немного повзрослев, ходили мы с этими винтовками – отец уже нам разрешал – и на охоту. Я – с ТОЗ–16, она полегче, мне было лет четырнадцать-пятнадцать, брат – с ТОЗ–8. Никита старше меня на три года. И добывали, домой пустыми редко возвращались. Не только рябчиков – и глухарей, и косачей, гусей и уток. Дичи тогда, как во дворе, полным-полно окрест водилось.
«1862 г. родился 23 октября, крещён 23 октября незаконнорождённый Димитрий Селивановой деревни Бельской волости у крестьянской дочери девицы Марфы Макаровой Турпановой, православной. Восприемники: Селивановой деревни крестьянин Онисифор Абрамов Касьянов и крестьянская дочь девица Зоя Макарова Турпанова. У Димитрия родилось четыре сына – Яков, Григорий, Василий и Макей, дочь Наталья. У Макея Дмитриевича Турпанова и Русаковой Анастасии Амвросиевны родились: Матрёна, Наталья, Васса, Анна, Елена, Иван, Полина, Пётр».
Елена Макеевна Арефьева, в девичестве Турпанова, моя мать.
Фамилия отца «незаконнорождённого» Димитрия не установлена. По семейной легенде, был он ссыльным поляком.
Отмечать водкой, вином ли самую короткую ночь с мамой не станем. Она мне не компаньон. За всю свою долгую жизнь стопку красенького, может, и выпила, как признаётся, ну а белого – ни капли. Не пила, дескать, и начинать не стоит. А то сопьюсь ещё на старости, мол, – шутит – позору будет мне и вам.
А я и выпил бы. Да, кроме чая и воды кемской, сырой или кипячёной, нечего. Привозил, когда я приехал, а он ещё не уехал в командировку, Никита литровую бутылку водки «Седая Ислень», тем же вечером мы с ним её и уговорили. Под укоризненные взгляды мамины: мол, ая-яй, не налегайте, – и под пельмени магазинные. За приезд мой и за встречу.
С мамой позже мы и почаёвничаем. Я буду пить пустой и крепкий, как его, этот-то, чифир, по маминому определению, она – с мёдом с жёлтого цветка, осоту и шишки, янтарно-зелёным, жиденький, забеленный томлёным, с пенкой, молоком – позволяет себе, хоть и пост. Посудачим с ней о том о сём. Не радость ли?
Пошёл на кухню, помыл линзы маминых очков тёплой водой, протёр вафельным полотенцем, вернул их на тумбочку.
Мама, в шерстяном коричневом платке, лежит на правом боку, лицом к камину, с закрытыми глазами, укрывшись одеялом под самый подбородок. Задремала, нет ли, не пойму.
И вспомнились слова её: «Что малый, что старый – одно несчастье».
Сердце моё сжимается… от нежности к ней, от любви. И от бессилия – годов ей не убавишь и сил своих не передашь.
Красивой женщиной была, теперь красивая старуха. Не молодится, по-христиански с возрастом своим мирится, живёт в согласии с ним, только на немощь жалуясь порой, и то с улыбкой, – когда нет сил на то, что раньше сделала б легко: дров наколоть, когда нет рядом мужиков, вскопать землю под гряды и засеять их, на покос сходить, сбегать за ягодой ли, за грибами. Очень хотелось бы посмотреть, как она выглядела раньше, в детстве и в юности. Нет фотографий, к сожалению, не уцелели, при той-то жизни трудно было сохранить. Может, когда-нибудь увижу. Чем хуже Вечность интернета, в ней всё хранится, без утрат, в ней жёсткий диск не рассыпается.
Святая блаженная Ксения, моли Бога о рабе Божием Василии, земляке твоём, Царствие Небесное…
Пять лет набухшей, безысходной и неубывающей печали. Будто луна вступила в полную фазу, почти как нынче, так и застыла, убывать не собирается.
Словно о сердце кошка точит когти, и не одна, а набежали дикой стаей, со всех сторон его скребут, боль не унять – она сбивает сердце с ритма. Душу тоска гнетёт – нудно та унывает, горестно грешит. И сил в себе не нахожу, чтобы исправить этот грех, эту «ошибку». Лишь до отчаяния себя не допускаю. Возможно, чьими-то молитвами. Сам бы давно уже сломался. Но что-то держит. Или – Кто-то. Благодарить? Не позволяет малодушие, и как – не знаю, кто бы подсказал. И заставлять себя приходится, чтобы сказать: Спасибо, Господи, за всё. И тут же кто-то на ухо зашепчет мне: что, и за это?! Господи, помилуй.
Когда-то собирался, отложил уже в очередь на рабочем столе, после «Божественной комедии» и «Посмертных записок Пиквикского клуба», перечитать «Солнце мёртвых» Ивана Сергеевича Шмелёва, теперь уверен: перечитывать не стану. Сердце дорвать до последнего вздоха… А вот два письма Ивана Александровича Ильина – «О смерти» и «О бессмертии» – у меня в компьютерных закладках. То и дело открываю и перечитываю. И 1-е послание святого апостола Павла к Коринфянам… «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею»… И первое послание к Фессалоникийцам… «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды»… И Книгу пророка Иезекииля… «Сын человеческий! Оживут ли кости сии?» – «Господи, Боже, Ты знаешь это!» И тут закладка – старый конверт АВИА, с трогательным маминым письмом мне на флот – на 37-й главе.
«Здрастуй (так!), сынок мой дорогой, Ванюха милый!» Это в письме том.
Здравствуй, мама.
Двадцать пятое декабря.
Спиридон Солноворот.
Долгота дня 07:01. Восход солнца 08:58. Заход – 16:00. Луна растёт. В знаке Близнецов. Заход – 07:54, восход – 13:59. Фаза – 95 %. Именины – Александр, Спиридон.
Католическое Рождество.
Не отмечаем. Православные. Ни одного католика у нас в Сретенске нет, разве кто скрытый, спящий. Были когда-то, среди ссыльных и военнопленных. Помню таких – немцы с Поволжья, несколько семей. Вывелись. Кто-то совсем уже осибирился, переженившись с местными, кто-то в Германию уехал. И возвратились многие, но уже в город – кто в Елисейск, кто в Маклаково. И нет у меня лично знакомого католика. Где бы то ни было. Ни одного. Так что и некого поздравить. А в целом, все католики мира и без моих поздравлений обойдутся. И в Кремле, как сообщил ровно год назад пресс-секретарь нашего лидера, протокольной практики поздравления глав западных стран с католическим Рождеством в России нет. Ну, у меня тем более – ни протокольной практики и ни житейской.
И протестантов заносило в Сретенск историческими сквозняками, и мусульман, даже китайцев – здесь по ручьям и малым речкам они мыли раньше золото, добираясь пешком из Китая, здесь кое-кто из них и оседал, если в тайге был не убит и не ограблен, распятый на шесте, – и буддистов калмыков – во время Великой Отечественной войны, операция «Улусы», – и эти тут не задержались. Кого-то климат тут извёл, кого-то выжил с наших мест, слишком суровый. Селиться стали кержаки, семейства три уже заехали. Как и огнём, их и морозами не испугаешь. Со времён Петра Великого, убегая от него, Антихриста, лесами да болотами, по приисленьской тайге от скита к скиту перемещались, и освоились, или, сказать иначе, их же словом: обнатурились. Народ упрямый, не сломить, пусть не такой уже и стойкий, как страстотерпец Аввакум и его верные сподвижники.
Спиридон Тримифунтский.
Почитается во всём христианском мире наравне с Николаем Чудотворцем. Даже свирепые османы, покорившие Грецию, благоговейно ходили в храм, в котором некогда служил святитель, и омывались водой из бьющего здесь источника.
Слышу: мама (так и не уснула, значит) шепчет – глуховатая, переболела менингитом, давшим осложнение, перенесла когда-то операцию на среднем ухе, «страшно и вспомнить, кость в голове долбили, будто в дереве, как только там, на том столе, и не скончалась. Вас, малых, жалко было оставлять, молилась крепко, внял Господь», – шепчет громко, потому и слышу:
– О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей…
Отвернулась, наверное, от камина к стене (кровать скрипела) – дальше не разберу, что она шепчет, и сам заканчиваю вслух:
– Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Заглянул в ноутбук. Выбрал из множества собранных кем-то в единый список некоторые события, случившиеся в этот день в разные века и годы в мире:
25 декабря 800 – коронация Карла Великого титулом «император Запада» в Риме.
25 декабря 1492 – на острове Эспаньола Колумбом основано первое в Новом Свете поселение – Ла-Навидад.
25 декабря 1759 – в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твёрдую ртуть.
25 декабря 1917 – провозглашена Советская власть на Украине.
25 декабря 1946 – в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
25 декабря 1979 – на экраны вышел музыкальный приключенческий фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра» режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
25 декабря 1979 – начало ввода советских войск в Афганистан.
25 декабря 1991 – отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР.
25 декабря 2010 – начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.
25 декабря 2016 – катастрофа Ту–154 под Сочи. Погибло 92 человека.
События. События. События. Были и прошли. И были ли? Были, наверное, раз зафиксированы. История. Её мгновения, великие, трагические или рядовые. И были где-то. А ты тут. Это как будто так – будто стоишь ты в глубине материка в густом лесу и видишь лишь стволы деревьев, а там, в Мировом Океане (и допустимо – в Океане Времени) курсируют в разных направлениях, дрейфуют, отклоняясь от курса, баржи, которых ты не видишь, даже, не видя, и не думаешь о них, судёнышки всякие, корабли, торговые или военные, вплоть до подводных лодок, но к тебе никогда они не подойдут, рядом не пришвартуются и не возьмут тебя на борт.
Ну не возьмут и не возьмут, тебе и дела нет до этого. Ну, было – было. Там – во Времени. А тут прямо перед тобой пульсирует Вечность.
Вечер. Окно в ледяных кружевах. Небо за окном в плотной изморози. Тёмный, почти неразличимый, хоть и заснеженный, ельник. Не знал бы я о нём, и ни за что не догадался бы, что есть он рядом, окруживший от невзгод село. И угасающая почти столетняя мать. Та уж и вовсе пред Вратами. В прошлом августе исполнилось ей девяносто девять, не за горами и столетие. Я у родителей поздний. Все они, Турпановы, за редким исключением, долгожители. Наталья Дмитриевна, в замужестве Захарьева, мамина родная тётка по отцу, прожила до ста четырёх лет. И отошла в телесной немощи, но в ясной памяти и в чистом разуме. Я её помню. Нитку в иголку при мне как-то, неделю гостила у нас, без очков вдёргивала, ко мне за помощью не стала обращаться. «Далёко-то, – говорила, – и за версту вижу, как коршан, отменно, а вот поближе что – уже не шибко». Любому так бы, в сто-то лет.
Стою в южной угловой комнате, отцовской веранде, перед большим – как мама жалуется: обо всём свете (дом проектировал Никита, немного выпендрился, покуражился, забыв напрочь, где живём, не в Крыму же), – окном, как говорит она – оконьем. Белое, непроглядное – сплошь заиндевело. Продышал круглое «окошечко», быстро покрывшееся тонкой, как слюда, ледяной корочкой, пока ещё прозрачной.
Через изморозь, словно туманом, заполнившую уличный студёный воздух, блекло светит почти полная, с малой выемкой, луна и мерцают тускло звёзды. Альдебаран, Алголь, Мирфак. Или Сириус. Для меня все они числятся под одним родовым именем: Звезда. Это Никита, тот их знает чуть не поимённо, как дочерей своих. Их у него четыре. У Григория Дмитриевича, родного брата нашего деда Макея Дмитриевича, было десять дочерей. После того, как жена принесла ему одиннадцатую, ходил по избе и плевал, огорчившись, в иконы. Не изрубил ещё на щепы их, на том сказать ему спасибо. Никита в иконы не плевал, крестился на них радостно, доволен дочками: принцессы. Ну, там и правда: ногти, по маминым словам, как когти у совы, поотрастили и красят их да точат, как литовку, и веки всякой краской себе мажут – большое дело; хотя бы раз приехали, полы бы старухе помыли, да ни за что, и сама она, барыня-сударыня, пила поперечная, нашёл же где-то, отыскал, как будто здесь ему девчонок мало было, на здешних любо поглядеть, клюка клюкой, и чё-то строит из себя ещё, как будто в зеркале себя не видит… Это она о невестке, жене Никиты. А о своём дяде как-то говорила: «Дядя Григорий, Григорий Митриич, читал – сам-то читать, конечно, не умел, а заставлял читать одну из дочерей, сестёр наших двоюродных, сам слушал – только Левит, ничего другого из Ветхого и Нового Заветов». Ел Григорий Дмитриевич, по маминым словам, всё только «по ветхозаветному правилу и соблюдал во всём Закон». И умер он от истощения в шестьдесят два года, так изнурил себя, ослаб от исполнения, при крестьянской, трудной-то работе.
Отец так же вот, стоя перед этим окном, процарапывал усердно ногтём наледь, уткнувшись в холодное стекло большим, как у Льва Николаевича Толстого, похожим и по форме, носом, вглядывался совершенно слепыми к тому времени, мутными, когда-то ясными серо-голубыми, глазами, то одним, то другим, в непроницаемую тьму, отходил разочарованно от окна и ложился грузно на диван, на котором спал и доживал свой век. Умер он в девяносто два года, девятнадцать лет назад. И дольше жил бы, но «устал, и с нами стало ему скучно».
Он и родился в октябре, с фронта вернулся в октябре, в этом же месяце и умер.
– Ничего так, как небо, – говорил, – увидеть не хочу. Одним глазком бы… Какое оно нынче, баба?
– Да обычное…
– Да как обычное-то!? – сразу начинал сердиться.
– Сегодня голубое.
– Другое дело. То обычное! Обычным небо не бывает.
– Ну, ладно, ладно, не серчай.
– Как не серчать, когда ты это…
– Ну, успокойся.
– Ага! Она сначала разозлит… и вечно это… как заноза.
– Иди к столу, пора обедать.
Мама добродушно улыбается. Отец не видит этого, незрячий.
– Змея змеёй… Кому угодно настроение испортит.
– Уж успокойся.
– Ладно ещё, что не кусает, а то бы ядом отравила.
Пол заскрипел – к столу подался. Тяжело ступает – пол под ним скрипит, в буфете звонко отзывается посуда. Поест плотно – на аппетит он никогда не жаловался, чаю холодного попьёт с каким-нибудь вареньем – больше других любил кисличное, из красной смородины, – и смягчится, сидит, слепой, чему-то улыбается.
А маме, кстати, той только кипяток и подавай, чай же холодный для неё – помои.
– Помои, – повторял отец. – Глотка лужёная, пей кипяток, мне не навязывай, а то привыкла…
Снял с вешалки отцовский полушубок, накинул на себя, влез в отцовские валенки, надел на голову его же шапку-ушанку, вышел из дому, спустился с крыльца. Озираюсь. Полярная звезда, как на неё ни посмотришь, всё на одном месте. Приколотил её кто будто. Возможно, так оно и есть. Кто-то ж когда-то их развешивал…
Северное сияние. Под Большой Медведицей. Ленточное. Переливается, касаясь ельника. Какая красота, величие какое. Чудо.
– Выйди от меня, Господи…
И изумляет больше всего это – моё присутствие. Какой восторг!
За ворота, подёрнутые куржаком, ступил. Снег под ногами поскрипел знакомо, вызывая в памяти события из детства. Блекло фонари в селе помигивают. Энергосберегающие. Раньше здесь не было таких. От них и свет иной, не как от прежних, прежний «живой» был, этот – «мёртвяцкий». Тихо. Даже собаки не перелаиваются. Гавкать станешь, и язык к нёбу примёрзнет, и горло застудишь. Опытные, понимают. Забились все по своим будкам, в калач свернувшись, нос в пах уткнули. Греют себя своим дыханием. Дымы от труб печных не виляя и не выгибаясь, как в более тёплую и ветреную погоду, прямиком устремляются к небу, теряются в небесном полумраке, смешавшись с изморозью. Слышно, как в лесу трещат деревья. И лиса где-то – рядом, возможно, на поляне, перед ельником – звягает сипло. Может, от одиночества. От скуки ли. И развеселить, разогреть её некому – волков зимой здесь нет, летом лишь изредка заходят, – снег для них у нас глубокий, а медведи крепко в эту пору спят, посасывая лапу. Пусть спят, без них спокойнее, без шатунов. Эти, оголодав, деревню не минуют.
Долго не постоишь. До костей пробирает, и полушубок не спасает.
Вернулся в дом, впустив вперёд себя проворный клуб белёсого морозного воздуха – прилёг тот на пол и исчез – как и не было.
– Холодно там? – спрашивает мама.
– Да не жарко, – отвечаю.
– Не меньше пятидесяти.
– Не меньше.
– Сколькой уж день так вот стоит.
– И не сбавляет.
– А сколько градусник показыват?
– Не разглядеть – куржак мешает.
– И до шестидесяти снизится.
– Возможно.
– Ну, раз зима, так чё и ждать… оно обычно.
Прошёл к себе в комнату. Заглянул в ноутбук.
В Петербурге:
– 2,6 °C, облачно, влажность – 91 %, давление – 572 мм рт. ст., ветер – ю/з, 4,0 м/с.
Не погуляешь по Сретенску, пройдусь по Петербургу. Мысленно.
И выхожу сразу на Чкаловский – не помеха для мысли пространство – в миг преодолел. И будто слышу голос Кати.
- – Мы все
- На Петроградской жили —
- Братва, не битая никем.
- Портвейн из горлышка глушили
- В прокуренном параднике.
- Мы задирали, но не здешних,
- До крови дрались во дворе.
- Любили девушек безгрешных
- И провожали на заре…
- В «клешах» по Чкаловскому чинно
- Мы совершали наш вояж.
- Не матерились беспричинно
- И посещали Эрмитаж.
- Читали мы Хемингуэя,
- Верхарна знали наизусть,
- Но замирали, столбенея,
- Когда звучало слово Русь.
– Чьё это? – спрашиваю.
– Сергея Константиновича Поликарпова.
– А я такого и не знаю.
Снимала Катя, жена моя, раньше комнату в коммунальной квартире на Всеволода Вишневского, и район знала хорошо. Диплом писала по дореволюционной застройке Петроградской Стороны.
И дальше – провожал её в студенческие годы после занятий до дому – будто слушаю урывками:
– Дом Жакова… Питирим Сорокин, изгнанный из Хреновской семинарии Костромской области, часто бывал в этом доме, здесь же он познакомился и со своей будущей супругой Еленой Петровной Баратынской… Дом дешевых квартир Императорского Человеколюбивого общества, возведён в 1900 году по проекту Гейслера… В нём же располагался Мариинский институт слепых девиц… Блок, – слышу, – признавался в любви к Большой Зелениной – тоже тут рядом, соседний квартал… Здесь же дефилировала красавица Лариса Рейснер, в кожаной куртке, с маузером на боку… В августе 1918 ходила на разведку в занятую белочехами Казань и попала в плен… Совершила дерзкий побег… Секс-символ Октябрьской революции…
И про мой дом будто слышу:
– Во время войны он был расколот пополам, бомба застряла в нём… немецкая.
Это я знаю, соседка баба Таня мне рассказывала. Через ванную у нас по потолку проходит стягивающая металлическая балка.
Возвращаюсь мысленно по Лахтинской, чтобы пройти потом по Малому и завернуть к себе на Ропшинскую.
Миную белоснежный храм святой блаженной Ксении, лет пять назад достроенный и шестого июня две тысяча девятнадцатого года освящённый митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.
Даже тут, в мысленной прогулке, стесняясь прохожих, малодушествую – не крещусь на купола прилюдно.
Отступаю, Господи, отступаю. И почему всё так-то, по-предательски?! Каким бываю всё же жалким я! Досадно.
Вернулся на несколько шагов назад – перекрестился всё же. Мысленно. Другое дело. Совесть успокоил.
Солнце на лето (на Засечный), зима на мороз.
С этого дня, в Петербурге, я начинаю собирать свой походный рюкзак, с которым и поеду летом в Сретенск. Так неизменно. Дети подсмеиваться начинают надо мной: папа, мол, в сборах, не мешать, не беспокоить, чтобы не забыл что-нибудь, блесну, виброхвост или твистер. Сами они второй от третьего не отличат. Ну ладно, смейтесь.
Нынче Никита вызвал меня к матери – «приболела», а он скоро, мол, и надолго уедет на Подкаменную Тунгуску, где по его проекту что-то строится, что-то там с кем-то согласовывать. Сёстры – Наталья, Татьяна и Нина – живут далеко: Наталья – в Магадане, Татьяна – в Краснодаре, Нина – в Архангельске, повыскакивали замуж, мужей поближе не нашли, – да и не совсем здоровы, тяжело сорваться с места им, в возрасте. Мне всё равно где работать, работалось бы только, а работаться не будет, и так ладно. Катя, жена, в Пюхтицком монастыре, год там послушницей пробудет. Дети взрослые, самостоятельные. Я и поехал. Да и с мамой хотелось побыть – вот и возможность.
Только что пришло сообщение от архивиста – сама предложила исследовать мою родословную, – замечательной подвижницы Ольги Викторовны К-ой:
«Работая по вашей линии, я пришла к выводу, которого вы просто не знаете. Из моего пусть небольшого опыта, мне НИ РАЗУ (размер шрифта её) не встретился человек, который бы так ГЛУБОКО ушёл в историю ОДНОГО КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА. Всегда, у всех, примешиваются разные группы, разные сословия. Поселенцы, каторжане даже, служилые, люди совсем из других мест, прибывшие в Елисейск в более поздние времена. Происходит такая „переработка“, что ли, слов не подберу… в генетике. У вас же – на 400 лет, может чуть меньше – Елисейский уезд, глубокие старожильческие корни, и в принципе регион очень узкий. И почти все – крестьяне, что пашут землю, да беломестные казаки. И никаких вливаний со стороны. Это очень интересно наблюдать. Я даже предполагаю, что тот некий, невидимый отец Дмитрия – он местный, свой, а вовсе не поселенец. Мне видится так из логических заключений. У вас может быть своё „чувствование“. И я могу ошибаться. А линии ближайших поселенцев я тоже уже посмотрела, насколько возможно».
Тут же и ответил: «Спасибо, Ольга Викторовна. Я так и предполагал, по семейным легендам. Очень вам благодарен».
В доме напротив жили когда-то мои одноклассники, муж с женой. Валера и Валя. Сгорели от водки. В один год. Несколько лет дом этот после них никто не занимал. Теперь, смотрю, и окна светятся по вечерам в нём.
Подбросил в камин дров. Сел рядом на табуретку – за угольками следить: какой вдруг вылетит, вернуть его обратно. Мама рядом, на кровати. Смотрит на огонь.
– Любила раньше на покосе… так вот сидишь, обедаешь возле костра… ещё все вместе-то… давно уж.
– И на рыбалке, возле речки…
– Рыбачить мне, Ванюха, было некогда. И не умела.
– Да знаю, знаю… А кто тут, – спрашиваю, – поселился?
– Где, в Шабалинском доме-то, напротив?
– Да, – говорю.
– Медичка новая.
– Понятно, – говорю. – И молодая?
– Да не старая, – говорит мама. – Лет сорока.
– А Анна Карловна?
– Ушла на пенсию. Да и больная… плохое что-то… рак-то этот.
– Плохое, точно.
– Бог ей в помощь.
Лицо мамино озарено тварным светом – огнём с берёзовых поленьев – из камина. А изнутри как будто светится нетварным. Как осознать?
Прошлым летом привозил я священника, духовника моего, с Монастырского (Яланского) озера. Отца Иоанна. Он её причастил и исповедал. Вышел ко мне и говорит:
– Паче снега убелюся… Да, все они, старики, уже чистые, как первый снег, а она, Елена Макеевна, и вовсе, как новый лист мелованной бумаги.
Узнал уже из интернета: Марьинку наши бойцы отбили у братьев-небратьев – отлично. Молодцы ребята. Важная победа. Дай Бог, не последняя.
Включил телевизор – время новостей.
От генерал-лейтенанта Конашенкова услышал:
«На Краснолиманском направлении подразделения группировки „Центр“ отразили две атаки шестьдесят третьей механизированной бригады и двенадцатой бригады спецназначения ВСУ южнее Кузьмино и в районе Червоной Дибровы (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянки (ДНР) и Серебрянского лесничества. Уничтожено до ста боевиков, два автомобиля, боевая бронированная машина и гаубица Д-тридцать».
Я смотрю, и мама смотрит. Молится она ежедневно за русское воинство и за своего внука, старшего лейтенанта, сына моей сестры Нины, который сейчас под Бахмутом-Артёмовском.
– Скажи, дак кто там побеждат-то? – спрашивает мама.
– Мы, – отвечаю.
– А победим?
– Куда мы денемся, конечно.
– И чё они на нас так взъелись?..
– Заболели, – говорю. – Болезнь такая – бешеное украинство.
– Украинство… В Забегаловке и на Поречной Гринчуки и Грищуки жили, ты их, наверное, не помнишь…
– Помню, помню, как не помню.
– Хорошие люди. И Цибуля… тот жадноватый только был, ругался грязно.
– И хорошие заболевают. Крамских тут тоже жил, военнопленный. А после выяснилось – был карателем, служил в эсэсовских войсках, не рядовым, а капитаном. Родом со Львова… так мне помнится. С Инкой Крамских учились вместе.
– И этот с виду тихим был… И правда, что как заболели… Они же и Христа, обезумели, гонят.
– Гонят.
– И церквы вроде отымают…
– Отнимают.
– Смотрела я… И до чего мы так докатимся?
– Ты же Евангелие, – говорю, – читаешь.
– Ну так и чё что? – спрашивает.
– От Иоанна Богослова.
– Подумать страшно… Иди, сынок, ложись, – говорит мама, – меня не сторожи. Камин сама я, встану, скутаю. От печки вон идёт ещё тепло, от русской. Не замёрзнем. И полушубок захвати с собой, на одеяло сверху кинешь.
– Рано ещё, – говорю. – Почитаю.
– Ну, ты как знашь, я буду спать.
– Спокойной ночи.
Не расслышала.
– Завтра блинов, пораньше поднимусь, если смогу, сил еслив хватит, тебе напечь, или оладий постных, что ли… Ещё дожить бы.
– Доживём.
– Как Бог устроит.
Выключив телевизор, пошёл в свою, бывшую отцовскую, комнату. Слышу:
– Господи, сохрани силою Честного и Животворящего Креста Твоего под кровом Твоим святым внука моего (сына сестры моей Нины) Димитрия от летящей пули, от смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради его от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, зол, несчастий, предательства и плена. Господи, исцели его от всякой болезни и раны, от всякия скверны и облегчи его душевные страдания. Позволь ещё с ним повидаться…
Был у другой сестры моей Татьяны сын, и тоже Дмитрий, пал на первой чеченской. Срочник. Десантник. Ростом был метр девяносто девять. В Кяхте службу проходил. Хоронили мы лишь несколько его обгоревших косточек, в небольшом, как для младенца, смастерённом Колей Барминым, местным умельцем, гробике-шкатулке. Тут, в Сретенске. Мороз спадёт, схожу на кладбище.
Прошелестело тихо что-то там, над крутой заснеженной железной крышей дома, – звезда, наверное, упала в ельник. Ну не по крыше же скатилась?.. Хотя кто знает.
Мышь пискнула в подполье жалобно: озябла, или кто на её запасы посягнул, недобрые соседки – огрызаясь?
Мама во сне вздохнула, как ребёнок, – не тяжело, легко – как о хорошем.
Свет в январе
Тринадцатое января.
Старый Новый год.
Родители наши не провожали и не встречали за праздничным столом как Новый, так и Старый Новый год. Традиции у них, коренных жителей Сретенска и близлежащих деревень, всю жизнь крестьянствующих, такой не было. Рано, как и в любой другой день в году, если не случалось что-то чрезвычайное – смерть, например, или рождение, – не позже десяти часов вечера, они, уставшие, ложились спать, вставали рано утром, часов в пять – хозяйство диктовало расписание: не погуляешь – «скотина ждать тебя не будет».
Нам, «избалованным советской властью», позволялось: когда ещё и погулять, мол, как не в молодости. Такая нам была поблажка.
Мы, парни и девушки, собирались компаниями, сдружившимися ещё с детства, у кого-то из наших друзей, чьих родителей по какой-то причине не было в это время дома, выпивали под звучавшую на магнитофоне популярную музыку, закусывали, ровно в двенадцать часов, под бой курантов в телевизоре, звенели, чокаясь, гранёными стаканами – в наших домах фужеры и бокалы были редкостью, – сидели за столом ещё какое-то время, снова выпивая и закусывая, после, захватив с собой шампанского, вина и водки, отправлялись в клуб, на танцы, и уже там, крепко уставшие, встречали утро.
Редко без драки обходился новогодний праздник, кстати, не только новогодний, чаще, конечно, из-за девушки, ближе, как правило, к утру… Но не об этом.
Заглянул с утра в численник:
Восход солнца – 09:32:49, заход – 16:28:33; долгота дня – 06:55:44.
Луна: восход – 10:36, заход – 18:51; растёт.
Прочитал маме:
«Отдание праздника Рождества Христова.
Преподобной Мелании Римляныни, святителя Петра Могилы, митрополита Киевского, преподобного Паисия Святогорца, священномученика Михаила пресвитера; мученика Петра».
Есть за кого ей, маме, помолиться, меньше – «за здравие», больше – «за упокой». И я вдруг вспомнил.
Нет уже нынче ни одной, на божьей нивке обретаются, а раньше несколько Маланий было в Сретенске. Чуть ли не всех я их и помню, с нашего края, точно, всех. Имя давали раньше при крещении – метрики так-то кто тебе и где бы выдал, помимо церкви, – по святцам только, а не абы как. Не то что нынче, по словам мамы, кому как в голову взбредёт, – до Апрелин дело дошло, до Октябринов (где-то до Байрактаров даже, Джавелин – в ещё недавно православной вроде бы стране, или окраине), – не в честь святых, люди коров так называют, по заключению мамы, быков и тёлок.
Жили в Сретенске, как я уже сказал, несколько Маланий, но на ум, заслонив всех остальных, одна явилась – Маланья Григорьевна Скурихина. Была на моей памяти Маланья Хромая, а эта – Кривая. Прозванная так из-за настрогавшегося на левом глазу бельма. На сучок острый в лесу наткнулась этим глазом. По рассказам: бегом бежала от медведя, так испугалась, ещё в девчонках. Кривой уже и замуж выходила, но и с бельмом, жених ею не побрандовал: любовь пламенная у них была – не по расчёту.
Мужа её в сорок втором году призвали, в сорок втором же и убили его на фронте, под Ленинградом. Одна растила дочь и сына, двойняшек, родившихся перед войной. Сын Степан был и нормальным вроде с виду, но сумасбродом неуёмным. В четырнадцать лет, исколов и сложив крёстной поленницу дров, отведав у неё же на Первомай канунной бражки, угнал из колхозного гаража гусеничный трактор, смял на нём клубный палисадник, а потом завалил возле сельсовета телеграфный столб, и в результате стал насельником детской воспитательной колонии в городе Канске. Из колхозишка, благодаря тюрьме, вырвался и паспорт получил, и дал другим пример, как это сделать. Без паспорта тогда куда бы ты, колхозник, сунулся – только в соседнюю деревню да в раён.
Были и такие, говорят, ребята, хоть и немногие, двое, трое ли, что воспользовались этим способом – кто окна в магазине или в клубе демонстративно побил, кто в драке ножичком помахал, никого при этом не поранив, – лишь бы, пусть срок какой и отсидев за это, уехать из деревни.
Завербовался, как говорили, после колонии Степан на какую-то комсомольскую стройку в Заполярье, и в Сретенске с тех пор не бывал, мать ни разу не проведал и на похороны её не явился.
Дочь Зинаида, сестра Степана, была глухонемой. С рождения. В прошлом году ушла из жизни. От худой болезни.
Жила Маланья Григорьевна на соседней, параллельной нашей, улице, называвшейся Забегаловкой. Потому что с двух концов, чтобы попасть на неё, надо было вбегать в крутую горку, в угор, как говорим мы здесь. Огороды, наш, арефьевский, и их, скурихинский, смыкались, разделяла их лишь редкая изгородь из кольев и осиновых жердей – так поставленная, для близиру, и бороздой могли бы обойтись. На воротцах, выводящих из ограды в огород, висел у Маланьи Григорьевны на крюке или гвозде медный таз, ярко блестевший в солнечные дни, отправляя в глаза озорные золотые зайчики. Мы с Никитой, ума-то не было совсем, выбрали его как самую яркую мишень в обозримом пространстве. Первым, по старшинству, стрелял из тозовки Никита. Попал он или нет, мы не поняли, но таз не звякнул, или не услышали, с гвоздя не сорвался и даже не шевельнулся. Выстрелил я. И тоже вроде как промазал. И расстояние тут не великое – метров двести, вряд ли больше. А через секунду, наверное, две ли, воротца открываются, и появляется в них Маланья Григорьевна. Нас с Никитой – глупые-глупые, но – тут же пот прошиб холодный. Лук выходила пощипать тётка Маланья, окрошку, наверное, готовила. Нащипала стрелок луковых и скрылась за воротцами в ограде.
В тот день, поставив тозовку в кладовку, где ей и было место предназначено, мы с Никитой уже не стреляли.
Отца дома не было, был он в то время в Маковском, на каком-то убийстве, Маланья Григорьевна ничего не заметила, потому и шуму не подняла, и мы с братом скоро расслабились. Начало летних каникул, пока свободные – рано для ягод и грибов, им не сезон ещё, и для покоса ещё рано, прополкой грядок сестры занимались, – успеваем, пользуясь свободой, нагуляться (не было, правда, так, чтобы когда-нибудь успели, всё нам её, свободы этой, не хватало): отправились мы на следующий день в тайгу палить по шишкам, сосновым, пихтовым и еловым, и по прихваченным с собой в двух хозяйственных сетках стеклянным банкам и бутылкам. Пока все их не расколотили, домой не пошли – патронов были полные карманы, тех и не убыло почти – так ими были обеспечены мы, во что сейчас поверить трудно – прям дикий Запад. Но было, было, сам свидетель. Мало свидетель – и участник-соучастник.
Впрок от отца, пусть и не за это, мы с Никитой всё же получили. Нам и стараться, зарабатывать особенно не надо было. Не в духе прибыл он, отец, не в добром настроении, всего-то, и мы ему попались под руку. Не попадайся. Оплошали. Но так в тот раз сложилась ситуация, не в нашу пользу: отец, в дверях внезапно появившись, нам преградил отход – удрать не получилось.
Дня через два после этого, через три ли, поздно вечером, при вынырнувшей из ельника рыжей луне, под доносящуюся с танцплощадки музыку, беспрерывный пересвист засевших в картофельной ботве перепёлок и дружный стрекот кузнечиков на полянах, перебравшись из нашего в соседский огород, подкрались мы с братом к тем воротцам, на которых висел таз, осветили его, для полной видимости и уверенности, фонариком и обнаружили, что не было на нём ни пробоины, ни вмятины от пулек. Осмотрели доски вокруг таза, и там отверстий не нашли. Решили, что патроны устарели, ослабли, и пульки упали на землю, цели не достигнув. Бывает. Ведь не могли ж мы промахнуться, с нашим-то опытом. Конечно – нет.
Тогда и в голову прийти такое не могло, теперь подумаешь: и тут Бог уберёг – то ли меня и Никиту от Канской детской воспитательной колонии, какой другой ли, то ли её, тётку Маланью, более заслуживающую Божьего внимания, от ранения или от смерти, то ли наших родителей от горя и позора.
Огород скурихинский, каким он был тогда, таким и остаётся, на том же месте, но с другой уже изгородью – колючей проволокой в четыре ряда на листвяжных нетолстых, не ошкуренных столбах. Городские оккупировали заброшенный огород, картошку в нём сажают – да и ладно, пожароопасной дурниной – лебедой, коноплёй, морковником и крапивой – не зарастает, – а потом, ближе к осени, наезжая всей семьёй, под громкую музыку, русский шансон, низко бухающую из машины с открытыми дверцами, выкапывают и увозят восвояси.
А вот дома скурихинского уже нет – испилил, наверное, кто-то его на дрова. В моё отсутствие. Или разобрали и перевезли в тайгу, смастерив там из этих брёвен тёплую охотничью избушку. Стайку кто-то ли сложил, хлевушку или баню. И нет тех воротец, на которых висел когда-то медный таз, отправляющий в ясный, погожий день в нашу сторону заманчивые солнечные зайчики.
Ох, это Время.
Тётки Маланьи крестник тут же вспомнился. Жили они рядом в Забегаловке. Володя Могило (пусть и не Могила, но мы, вся наша околоточная компания, только так его и называли в детстве, на что он, молодец, никак не реагировал, у других тогда и хуже были прозвища, а тут и не прозвище вроде, просто в фамилии изменена одна лишь буква и ударение случайно сделано не там, где нужно, а потому и не на что тут обижаться). Одноклассник. Отслужив водилой срочную в Хабаровском крае, вернувшись на родину, женился на ровеснице, за которой в школе ещё, в девятом классе – десятый бросил, поступил в профтехучилище, – живя в яланском интернате, ухлёстывал, шибко уж глянулась она ему, и переехал из Сретенска сначала к ней в Ялань, а потом, в Ялани не найдя работы подходящей и с родителями её не поладив, вместе с уже беременной женой перебрался в Усть-Кемь, куда годом раньше переселился из Сретенска с семьёй его родной дядя. Днём Володя работал на шпалозаводе, а по ночам ловил самоловом красную рыбу, стерлядь и осетров, на Ислени. Из дому в тот злосчастный вечер, прихватив бутылку белой, чтобы было чем согреться в лодке, на рыбалку ушёл, а домой не вернулся. Крючок в руку, насквозь пронзив ладонь, воткнулся, и махом выдернуло рыбака самоловом за борт из казанки. Не успел освободиться от крючка и шнур перерезать – так, наверное. Не сам же в реку сиганул, причин для этого у него вроде не было, и не столько же он выпил, да и пил не первый раз, и все пьют, не он один – дело обычное, – в реку никто же не бросается, разве что искупаться ради отрезвления. Звёздной гулкой августовской ночью. На Погодаевской яме. Восемнадцать метров глубина. И течение дай боже. Смертельно опасную снасть после – знали, где он промышлял, – кошкой зацепили, на берег вытащили, и там – Володя. Улыбается – без губ. Всегда он, Володя, в одиночку рыбачил, без напарника: делиться не любил добычей – на свою семью горбатился. Оставил сиротами дочь и сына. Выросли уже, взрослые. И жену молодую – вдовствовать. Так, говорят, замуж она больше и не вышла, одного хватило разу. Я давно её, Зинаиду Могило, Малышеву в девичестве, не видел, со школьной поры, а если и увижу, вряд ли узнаю. Глаза у неё, помню, были разного цвета: один полностью – густого чая, а другой – наполовину голубой. И в школе звали её Панночкой. В честь той, что в гоголевском «Вие». Хотя обычная была девчонка, весёлая и добродушная. Вот по глазам, возможно, и определю. Конечно. Если расцветка их не поменялась.
Кстати, в семье своей Володя был Тарасом. Почему-то. Мы не вникали. Друга нашего Андрюху Устюжанина тоже иначе дома называли. Алексеем. Что тут такого, дескать, так бывает. Ну а прозвище у Андрюхи было Дурцев. И не мы его так прозвали, а его родной дедушка. И батогом, бывало, стукнет внука, если тот зазевается, не увернётся. Вредный Андрюха был, и получал. Чаще за то, что подворовывал табак у деда. Или махорку. В одиночку Алексей-Андрюха не курил, делился с нами.
День прибыл на полчаса, ночь настолько же укоротилась. На целых или только? В каких измерить единицах, кроме минут? Тридцать долей тихого ещё, зарождающегося ликования? Слабой пока надежды? Надежды неосознанной? На что-то. На Кого-то. Я в эту пору, глядя на закат вечерний и на утреннюю зорьку, начинаю оживать, и явно это чувствую. Как медведь, наверное, в берлоге, перевернувшись с боку на бок и немного приоткрыв глаза, чтобы в толсто и туго заснеженном окне-лазе своего временного жилища-спальни разглядеть слабый свет, смутно обещающий, что придёт всё же, как и всему в природе, конец зимовке долгой; раньше же, не обманывая, приходил. И поминал уже: с этого времени принимаюсь я, чтобы не забыть и не оставить что-нибудь важное и нужное, наполнять рюкзак, с которым отправляюсь каждым летом из Петербурга в Сретенск. Неизменно. Непременно. День прибывает – наполняется рюкзак. Можно судить по рюкзаку – насколько прибыл день текущий. К летнему равноденствию он уже битком и окончательно заполнен, готов – бери его и поезжай. Ну и, как правило: беру и еду.
Потеплело. Тридцать с небольшим. Для нас, чалдонов, не мороз. Четверо суток, не прерываясь, крепко вьюжило, плотных сугробов намело – мы говорим субои, не сугробы, что то же самое, – дорожки с верхом занесло, их расчищали и натаптывали заново. С утра сегодня погонял вяло по затвердевшему, как наст, полотну снега низовой ветер сухую, колкую курёху, к вечеру стих, в тайгу убрался, среди деревьев подметать, мышей пугая. Воздух без изморози сделался прозрачным, будто отсутствует, звёзды на небе стали ясными, лучистыми, и их число умножилось без меры, самые малые меж крупных обозначились – мерцают: не забывайте и про нас.
Можно на улицу и в одном свитере выйти – не замёрзнешь. После шестидесяти-то. В одном свитере, без телогрейки, и дров наколол и в дом их натаскал, к печке и к камину – про запас. Мама меня немного пожурила: разжарел, дескать, вот как простынешь, парень, и узнашься, будешь на улицу так вылетать, долго ли на себя накинуть что-нибудь, будто одёжи в доме нет, ну, мол, как маленький.
Угу.
Походил по дому, дрова в печке клюкой подшевелил, берёзовое полено, для жару, к осиновым добавил и в свою комнату подался.
Прохожу мимо.
– Ты почему в одних носках? – говорит мама. – Пол-то, как лёд, поди, холодный. Надень-ка валенки, будь добр.
Послушался, стал добрым – надел валенки. Отцовские. Моих здесь нет. Нет, правда, валенок и там, в Петербурге. Уютно в них – отцом ещё разношенные, и тепло его ещё, пожалуй, сохранилось в них. Хоть увози с собой – не будут лишними. Никита скажет: нет, брат, оставь, – и сам в них ходит, бывая здесь. Пусть будут тут – приветом от отца.
Раздвинул тяжёлые шторы, заменяющие двери, чтобы и ко мне доходило от печки тепло. Глянул сначала в окно, то чистое, без наледи, оттаяло, снизу лишь снегом запорошено, на дом, что напротив, затем – в ноутбук.
«Важные события 13 января».
1263 – битва у Терека между войсками Золотой Орды и хана Хулагу.
1703 – вышел первый номер газеты «Ведомости».
1872 – в России начала работу Служба Погоды, вышел первый прогноз погоды.
1910 – состоялась первая публичная радиопередача.
1912 – в Петрограде состоялось открытие арт-клуба «Бродячая собака».
1990 – армянский погром в Баку.
1991 – штурм советским спецназом телебашни в Вильнюсе.
В прошлом. История. Не Вечность.
К Вечности возвращаясь, вышел из комнаты. К телевизору подступил. Помедлил чуть, включать не стал: да что я там ещё не видел? Спросил у мамы:
– Будешь смотреть?
– Да нет, не буду. Если уж вечером… кино какое, передача.
– Пойду, – говорю, – прогуляюсь.
Желудок у неё расстроился, и меня, думаю, стесняется. Пойду, на самом деле, прогуляюсь.
– Ступай, ступай, – говорит мама, – засиделся. Меня не надо караулить – не убегу, – и улыбается. И говорит: – В гости к кому-нибудь зайди. Хоть повидаешься. Сколько живёшь, в деревне ещё не был.
– С кем повидаться? – говорю. – Тут никого из наших не осталось.
– Ну, в клуб зайди, – говорит мама. – Там-то полно, наверное, народу.
– А в клуб зачем?.. Кино давно уже не ставят. А для танцулек староват. Как ты? – спрашиваю.
– Как я… Да лучше всех. Жалуток только донимат, и чё такое утром съела?.. корочку хлеба пососала. Иди, иди, – говорит. – Я подремлю, устала чё-то, и ничего вроде не делала. Вот уж где горе-то, дак горе… самое тяжкое – безделье. Как же лентяям трудно жить. Так полежи да посиди-ка…
– Физзарядкой, – шучу, – займись.
– Займусь, – улыбается. – На части развалюсь, кто меня будет собирать?.. Если смогу, чуть-чуть в себя приду, картошки хоть сварю в мундире. Поешь с капустой или с огурцами. Грибы – в подполье надо лезть, я не смогу, дак ты спустись, если захочешь… То ходишь голодом – ослабнешь.
– Ну, отощал.
– И отощаешь.
– Не помешало бы.
– Удумал… Поди, не барышня какая.
Я усмехнулся: ну, времена такие… гендерная дисфория.
Сегодня мама не вставала с кровати. Занемогла маленько. Чай и поесть я приносил ей на подносе, устраивая его на табуретке рядом с кроватью. И аппетиту нет совсем. Так уж, немного поклевала. И кипятку полчашки лишь осилила. Без сахара, без мёда, без варенья.
– Ну вот, насытилась, Ванюха, отвела, – говорит, – очередь. А чё уж будет… ну, да ладно, ведро-то рядом.
Делая обычный обход по старикам, посетила нас сегодня новая медичка, смерила у матери давление, послушала сердце, оставила какие-то таблетки, сказала, как, когда и по сколько в день их принимать. Вырвав из записной книжки листочек, написала на нём номер своего мобильного телефона.
– Звоните, если что, – сказала мне, но на меня не глядя. – Зовите. Я или дома, или в фельдшерском пункте. Знаете, где?
– Конечно, знаю.
Надела голубой пуховик и голубую вязаную шапку, которые сняла и положила на стул до того, как подойти к маме.
– Спасибо, – сказал я. И спросил: – А как вас звать?
– Не за что, – сказала она, так же не глядя в мою сторону. – Валентина… Викторовна. До свидания.
– До встречи.
Ушла. Проводил её взглядом в окно. Там, где я расчистил, идёт ровно и смело, дальше, где не расчищал, – осторожно ступает, рукой в красной варежке балансируя, чтобы не упасть и не зачерпнуть снегу в красивые полусапожки. Смотрю – вижу – стройная. Скрылась в заулке. К старикам Мизоновым, больше там не к кому, направилась, дальним нашим родственникам по отцу. Тётя Наталья и дядя Егор, бездетные. Был ребёночек – заспала, был ещё один – хиленький, помер, и годика не прожил. Смирились, больше не рожали.
Глаза у неё, думаю, у новой медички, под цвет пуховика и шапки. И щёки розовые – от мороза. И волосы густые, светло-русые, на солнце, может быть, и золотые.
– Хорошая, – сказала мама.
– Наверное, – сказал я.
– Издалека откуда-то приехала. Оттуда вроде, где воюют.
– Не местная. У нас так: «хде» – не произносят.
– Да я, сынок, не понимаю, так, не так ли, кто как произносит… И дети есть, двое, – сказала мама, – а мужа вроде нет, то ли погиб, то ли в разводе… Детей сюда пока не перевозит. Живут где-то, у бабушки, может, у той, у другой ли. Я уж не спрашиваю, с разговорами не лезу. Нравится мне она – простая, вежливая, много не говорит.
Я промолчал.
– А Анна Карловна – лиса… Раньше лиса была, теперь уж чё там… полиняла. Заходила как-то, в ноябре ещё, ты не приехал, ко мне, взаймы просила – на лекарства. Дала, чё было, жалко бабу. Как шторка жёлтая вон… этот рак. Откуда взялся?
– И лет немного ей.
– Кого там… только на пенсию пошла. Болезнь на возраст не глядит.
Потоптался я по дому. Подошёл к вешалке. Оделся в отцовский полушубок, валенки и шапку. И себя им, Иваном Павловичем Арефьевым, почувствовал. Чу́дно.
– Ну, я пойду.
– Иди, иди.
– Ты без меня тут…
– Обойдусь.
– Ну если что, кричи.
– Нельзя кричать мне, напрягаться, – и улыбается. Понятно.
Прошёлся по селу. Умирает. На душе от этого невесело, совсем уж. Только небо всё то же над Сретенском – радует. Голубое-голубое. Как глаза у нашей новой медички, Валентины… Викторовны.
Встретил Колю Бармина. Того, что делал для моего погибшего племянника гробик-шкатулку. На два класса младше меня учился. И учился неплохо, на чатвёрки да пятёрки, и рисовал замечательно – малых детей и стариков, те уж как вылитые, получались, лес нарисует – как картинка, коня, собаку или кошку – ну хоть на выставку вези, на стену вешай. Поступать после школы никуда не стал, и никуда, если не считать срочную службу танкистом в ГСВГ, из Сретенска не выезжал. Сначала в колхозе работал, колхоз имени Дзержинского (ссылку очередную отбывал неподалёку тут Железный Феликс), как и все другие, развалился, кочегаром в школьную котельную устроился. Теперь, как школу закрыли, разными промыслами – грибы, ягоды, орехи кедровые, охота и рыбалка, дёготь гонит на продажу, если закажет кто, и бересту дерёт, – промыслами этими да пасекой держится. В детстве на девочку похож был Коля, и спутать можно было, кто его не знал. Глаза большие, серо-зелёные, с длинными ресницами, волосы светло-русые, с завитушками на висках. Девчонки, с ним встречаясь, пели: «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, а то девушки придут, поцелуют и уйдут». Краснел Коля, смущался. «Колька у меня сисьнительный, – говорит о нём его мать, тётка Прасковья. – Как тока и жанился, не оробел. Ольга сумела, охмурила, не пропустила мимо рук. Без колдовства оно не обошлось, канешна». Отец его утонул в Кеми, когда Коле было семь лет. Божий человек был, муравья не обидит.
На свежем воздухе крепкий дух недавно выпитой самогонки исходит от Коли. Уж извини, Иван, малёхо дёрнул. Да ладно, ладно. Улыбается широко – скуластый стал, остяцкая порода проявилась, оттеснив русскую – рот полый, с редкими, чёрно-бурыми зубами, от табака и чая крепкого. Может, и вставил бы, но денег нет, да и без них оно не худо – не болят, не ноют от студёного, и к врачам с имя не надо обращаться. Щёки впалые – будто курил Коля, дым в себя, всосав щёки, втянул, дым после выпустил, а щёки так всосанными и остались.
Рассказал Коля, как два дня назад, когда сильно метелило и света белого не видно было, шёл он от Сани-кержака из-за речки, из Нижней половины, заблудился. Без навигатора же был. Услышал, а потом и разглядел, что трактор сена зарод из-за реки везёт кому-то. Пристроился сзади, решив, вот он меня и выведет, мол, куда надо. Заехал в чей-то огород трактор, тракторист сани с зародом отцепил и уехал. А он, Коля, стал ходить по глубокому снегу вокруг зарода и выхода из огорода никак не может найти, и в чьём находится он огороде, понять не может. Как кто-то водит, не иначе. Потом слышит голос Ольги – жена его – и думает, что ему чудится. Голос как с неба будто раздаётся. Нет, настоящая – предстала перед ним. Как лист перед травой, хоть и не звал её, не кликал. Палкой по спине его хорошо отоварила, он сразу и выход из чужого огорода нашёл и до своего дома скоро добежал, не промазал. Дома добавила жена, уже не больно, но обидно – мёрзлой метлой, руками тока закрывался, ушёл в подсобку ночевать, а чё поделашь, драться с ней, с жэншиной, не станешь; в подсобке бражка оставалась – тяпнул.
Поговорили о том, кто из знакомых умер, кто ещё жив, кто куда жить перебрался из Сретенска, новый кто сюда приехал. Да никаво, и кто сюда поедет, вымрут все старики, и Сретенска не будет. Ялань уж вон какой была, и чё осталось – поляна, голая почти… Сколько кому платят пенсии. Ему хватат, а и добавят еслив, против он не будет. Об Украине словом перебросились. Сын Коли, Игнат, ранен был под Авдеевкой, в стегно, лечился в Ленинграде, сейчас дома. Собирается обратно. Мать ревёт, не разрешает. Уедешь туда, дескать, руки на себя от горя наложу. А ты, мол, как? А что я, дескать… Парень взрослый, сам пусть решает. Да и кому-то надо… А мать, чё мать, поплачет, станет ждать.
И: заходи, дорогу знаешь.
И ты, мол, тоже.
Разошлись. Коля – не домой – в ларёк. За паперёсами, в последней пачке штуки три осталось, кончились, и уж за хлебом заодно, это жана уж приказала.
Я – к мосту, через небольшую родниковую речку Серебрянку, ниже моста, метрах в ста, впадающую в Кемь и разделяющую село на две половины, Верхнюю и Нижнюю. Плёс подо льдом и под толстым слоем снега, а шивера свободна – парит густо, всю зиму не замерзает. На ней бельё полощут женщины, и иордань не надо прорубать. Сейчас не видно ни одной: Старый Новый год встречать готовятся. Пожалуй.
Много домов, крестовиков и пятистенков, с заколоченными окнами, а где и вовсе с выбитыми уже стёклами и снятыми с петель дверьми, с провалившимися крышами. Тоскливо смотрятся, убого среди снега. Один ровно ещё стоит – недавно бросили его хозяева. Другой – круто покосился, уткнувшись в улицу, назад ли запрокинувшись. Летом они хотя бы прячутся в бурьяне и в бузине, быстро разросшихся, без человека, – тогда не видно их почти, скрывает зелень. В сохранившихся палисадниках голо и сиротливо стоят где берёза, где черёмуха, а где сирень или рябина – задумались или спят.
Тут жили те, тут жили эти. Перебираю в памяти односельчан, умерших или уехавших из Сретенска. А в этом доме – друг, а в том – девчонка, с которой первый в жизни раз поцеловался. Губы её, припухшие от непривычки и от черники синие, но пахнущие почему-то земляникой, волосы – сеном свежим с сеновала, кожа – рука скользит по ней, не остановится… Не думать лучше, легче не становится.
Ох, это Время. Ох уж это Время. То ли твой враг, то ли помощник.
В клубе – шумно, издалека уже было слышно. Молодёжь с вахты вернулась, на Новый год и Рождество, и Старый Новый год ещё отметят дома, – вальщики, подрывники, бурильщики. В бильярд, наверное, на пиво состязаются. На вахте сухой закон. Строго, чуть запашок – свободен, парень, лучше уж воздержаться, дома наверстать. А тут часть заработанных денег жёнам или родителям отдадут, другую часть просадят за неделю – имеют право. Летом приедут, машинёшку импортную бэушную приобретут. Эту разобьют, на другую, такую же, полный сезон калымить будут.
Не стал в клуб заходить.
Ельник вокруг зазеленел, освободившись с помощью ветра от упеленавшего его за тихую погоду снега, – стеной огородил Сретенск. Издавна. Были бы лыжи, сходил бы в тайгу. И идти туда теперь подумаешь – ноги или лыжи сломать – вырублено сплошь, пни, вершиннику навалено – не продерёшься. Камень возвышается над ельником, стволы реликтовых сосен на нём обагрены солнцем. Манят. Давно на Камень не взбирался. Далеко с него видать. Даже Ялань. Москвы и Киева не видно.
Тени на снегу – тёмно-синие. Словно в воде – в тени так небо отражается. Где тени нет, там снег слепит глаза.
Чуден свет Твой, Господи, чуден.
Домой вернулся.
– Ну и как? – спрашиваю.
– Да вроде подремала, полегче стало голове, – говорит мама. – Есть как захочешь, сам найдёшь. Промялся.
– Найду, конечно.
Новости с мамой посмотрели.
– Ай, – сказала она, – всё одно и то же. Или уж я ничё не понимаю, и мне так кажется.
– Понимаешь, понимаешь. Всё всегда везде одно и то же.
«Что наверху – то и внизу, что внизу – то и наверху». Вспомнились слова Гермеса Трисмегиста. Что вчера, то и сегодня.
В полночь начали в селе палить из ружей – обычай такой. И до утра не прекратят, пока, сморившись, по домам не разбредутся.
– Стреляют, что ли? – спрашивает мама. – Чудится ли…
– Стреляют, – говорю.
– Ещё кого-нибудь подстрелят.
– Стреляют вверх.
– Да мало ли. Ружьё же… не рогатка, и той без глаз оставить можно.
Мы как-то с Никитой, вконец обнаглев, без разрешения отца, взяли его тульскую двустволку, патроны с мелкой дробью и присоединились к салютующим. Так же вот, в Старый Новый год. После отведали отцовского ремня. Понятно. И следующий Старый Новый год мы с братом без ружья уже встречали.
– Может, ещё камин затопим? – спрашивает мама. – Прохладно чё-то.
– Давай затопим, – говорю.
Растопил – дрова сухие – быстро разгорелись. Сижу возле камина. Мама – на кровати. Сняв с ног чулки, натирает настойкой голени. Летом ещё набрал я по её просьбе красных мухоморов, спирт медицинский в городе достал. Настойку сделала сама. По чьёму-то рацэпту.
– Отруби мне их, Ванюха.
– Топор, – шучу, – тупой.
– Да хоть тупым, на всё согласна. Ломит их так, что мочи нет терпеть. И что такое? – говорит. – Кто в них завёлся, червь какой?.. Зверок ли лютый, больно гложет.
Старость, думаю… Какая же ты, мама, старая, думаю. И думать так совсем не хочется…
Смотрю на пляшущее по поленьям пламя. Завораживает, глаз не отвести. Чем не костёр?.. Дрова не смолистые – не трещат, угли не вылетают из камина на пол. Тяга хорошая – дымом не пахнет, а то бывает – когда сильный задувает ветер, гудя в дымоходе голодной собакой.
Какая уже старая…
И мама:
– Ох, и какая же я старая, Ванюха…
– Это с кем сравнивать.
– Вот хоть с тобой.
– Я тоже старый.
– Не болтай.
И всплыла вдруг в памяти картинка из раннего детства. Года мне три или четыре. Сижу я на невысоком, залитом солнцем крылечке в три ступеньки. В старом нашем доме, которого уже нет. В ограде, заросшей муравой, будто ковром застелена ограда, стоит мама, в белой в голубой горошек кофте с коротким рукавом, в белом же платке, повязанном по-татарски (это я сейчас додумываю), развешивает на верёвку, громко встряхивая прежде, постиранное и выполосканное разноцветное бельё. Дверь в дом распахнута. Радио в доме, тарелка, не выключено, песня какая-то звучит, торжественная (это я сейчас определяю). Спускаюсь в неосознанном порыве, босой, в одних трусах, с крылечка и бегу к маме по мягкой мураве. Утыкаюсь лицом в мамин живот. Чувствую, как её, нагретая солнцем, коричневая юбка пахнет хозяйственным мылом. Наклоняется мама, не выпуская из рук тряпицу, и целует меня в двойную макушку. «Ты чё, сынок?» Молчу, не отвечаю. И мне спокойно, хорошо – не отрывался б век от мамы.
– Какая же я старая, – спустя какое-то время повторяет мама. – Господи. Скоро сто лет исполнится, и будто не жила, жизнь промелькнула, как моргнула. А вспоминать начнёшь – и думаешь, как же давно всё это было, что и не верится: так долго люди не живут, деревья только… В детстве моём старуха, дом их от нас стоял наискосок, Касьяниха, ещё роднёй какой-то приходилась нам, сидит всё на лавочке возле ворот, достанет из кармана щепотку табаку, сунет в нос, понюхает, после устроит руки на батожке, обопрётся на них подбородком, глаза слезятся, меня увидит и заявит: «Долго девчончишка не проживёт». Почему, мол? «Лоб у неё поварёнкой (половником)». А вот узнала бы она, эта Касьяниха: я всё живу, живу, живу, чужой век заедаю. Насколько уж отца пережила вон… Сколькой уж год?
– Да скоро будет двадцать.
– Только помри, и время полетело… Он в октябре же?
– В октябре.
– Это я помню… Дождь со снегом валил с неба, на дороге слякоть, едва на взгорок к кладбищу поднялись… меня и ноги не несли.
Помню я, помню.
Сон этой ночью про отца приснился. Зима. Будто стою я в его бывшей комнате, теперь моей, смотрю в окно и вижу: одетый в чёрную фуфайку, чёрную шапку с торчащими в стороны ушами, болтающимися тесёмками и в чёрные валенки, бредёт быстро, мощно, размахивая руками, как йети, по глубокому снегу мимо своего дома и не оборачивается на него. Брёл, брёл, резко остановился и начал закапываться в снег. Закопался. И меня это совсем не удивляет, воспринимаю как обычное. Видел я уже этот сон несколько лет назад. Только там отец не останавливался и в снег не закапывался, а ушёл мимо дома вниз по логу, в угор поднялся и скрылся в ельнике. Медведь медведем.
Каким же в следующий раз он мне приснится? Да и приснится ли? Отец навязываться не любил. Да и теперь, похоже, что не любит.
Стоял когда-то в Заполярье на реке Таз, в Обском бассейне, в месте впадения в неё реки Мангазейки, славный город, основанный русскими колонистами в 1601-м году, – Старая Мангазея. Опорный пункт торгового пути – Мангазейского морского хода. После царского запрета вывозить пушнину морским путём город пришёл постепенно в упадок и исчез к концу XVII века. Добили его пожары, случившиеся в 1642-м и в 1662-м годах. Затем, в 1672-м году, на берегу реки Турухан, в шести километрах от её впадения в Ислень, на месте Туруханского зимовья, основанного в 1607-м году воеводами Давыдом Жеребцовым и Курдюком Давыдовым, был поставлен новый городок, который с 1672-го года стал называться Новой Мангазеей. Ни пшеница, ни даже рожь там не вызревали, доставлять их туда из центральных районов России получалось плохо. И было решено построить слободу, названную впоследствии Новомангазейской, южнее, не в мягком, но более пригодном климате, откуда хлеб доставить в город было проще: вниз по Кеми, а потом по Ислени. В семнадцатом веке прибыли из Архангельска двадцать девять или тридцать бравых боярских детей и основали это поселение. Посадили туда пашенных крестьян, обязанных поставлять зерно «на мангазейские и Туруханские расходы». Освоение новых земель продвигалось медленно, только уж осенью 1670-го года крестьяне впервые распахали целину и в следующем году собрали первый урожай.
Вот среди тех боярских детей был и наш предок – Терёха (Тренька) Арефьев, один из первых поселенцев Новомангазейской слободы.
В книге Павла Николаевича Бараховича «Малоизвестные страницы истории» встретил я такую запись.
«Самое страшное бедствие постигло Мангазейскую слободу 29 мая 1693 г., когда крестьянин Федька Арефьев (сын Терёхи Арефьева. – В. А.) „опаливал гумно“ и от поднявшегося ветра пламя охватило всю постройку, а потом перебросилось на соседние строения. В результате сгорел весь острог, запасы семенного хлеба и 13 крестьянских дворов (уцелело 8). В челобитной царю о своем „разорении“ крестьяне подчеркивали, что „у иных в ызбах младенцы погорели“. Согласно отписке приказчика Бельского острога, в слободе „згорело ружья одиннатцать пищалей и мушкетов ручных, дватцать пять ядер пушечных железных, пуд тритцать одна гривенка пороху, пуд дватцать шесть гривенок свинцу, а из огня вынесено: пушка, восемь пищалей и мушкетов“».
Показал я эту выписку Никите, удалив оттуда строки про погоревших младенцев, чтобы не ранить больно его душу, и он порадовался: нашёл основу и оправдание, свалив всё, полушутя-полусерьёзно, на предка, своему влечению к поджогам, спокойней и увереннее жить ему от этого, мол, стало. Ну, хорошо, коль так. В детстве он чуть дом не сжёг однажды, мне тогда было года полтора. Расхаживал маленький Никита по дому со спичками и пробовал поджечь листья гераней и петуний (мама их и сейчас держит, дарит отростки всем, кто у неё попросит; хожу я теперь от горшка к горшку, когда мама не в силах, поливаю). Не зажигались. Стоял на подоконнике на небольшом деревянном кубе, обёрнутом белой вощёной бумагой, искусственный цветок, с вощёными же листьями, – тот разом вспыхнул. Загорелись от него занавески и штора на окне, начал дымить уже косяк оконный. Никита испугался и спрятался в одёжный шкаф. Отец был в командировке, мама на покосе. Я – в яслях, и что бы я тогда мог сделать… К счастью, в ограде находились наши старшие сёстры, играли во что-то, прибежали, увидев в окне огонь, и потушили, залив его водой. Потом он, Никита, уже лет в семь, перед школой, захотел проверить, горит ли сено. Поджёг на задах двора зарод, примётанный к сараю. Сгорел зарод, сгорел с ним и сарай. Дом и другие постройки отстояли. Однажды он и сам чуть не сгорел. Палил в огороде, не слушаясь – ему ж хоть кол на голове теши – ни мамы, ни отца, отговаривающих его от этого и предупреждавших о возможных последствиях, старую траву поздней весной, знойным и ветреным днём, огонь моментально добрался до чужих огородов, и загорелись изгороди. Никита стал тушить, угорел, упал и потерял сознание. Если бы не соседка, увидевшая его лежащим в дыму, не жить бы ему. Правая рука, плечо и шея обгорели. Долго потом в больнице пролежал, в себя приходил. Думали, что с головой у него будет отныне не в порядке. Обошлось. Пока как будто адекватный. И после всего этого, даже теперь, когда идём с ним по тайге, на рыбалку, и он видит стоящее сухое дерево или старый завал оставленного лесорубами вершинника, еле сдерживается, чтобы не поджечь. Раньше для этого, хоть и не курит, спички в кармане носил специально. Теперь насилует себя – не носит. И слава Богу.
Я равнодушно это делаю и поневоле, а вот Никита, его и хлебом не корми, очень уж любит растоплять печки, камин и баню, а также разводить костры и дымокуры. Когда я тут, даю ему на это дело спички. Так коробок возьмёт, что, страсть-то, руки затрясутся. А когда рядом нет меня… да тут уж так: на всё, как говорится, воля Божья. В городе, где брат живёт, в его квартире пятиэтажного панельного дома паровое отопление, и спички нужны, он же не курит, только для того, чтобы свечку иногда зажечь да, намотав на спичку ваты, поковыряться в ухе. Не станешь же во дворе и на лестничной площадке разводить костёр. До этого Никита не дошёл. Пока, по крайней мере.
Ну и ещё. С каким чувством, думаю, проходит брат мимо пустующих, разваливающихся домов в нашей деревне? Архитектура, проектирование. Как это в нём всё сочетается? Может, и сочетается. Сознательно или подсознательно. Чтобы освободить, расчистить место для нового строения? Ладно, я не швейцарский психиатр, не венский шарлатан, сам пусть Никита разбирается. Чтобы усовершенствоваться. Или изжить.
А вот отец (с огнём был, кстати, осторожный), возвращаясь как-то домой из командировки, тёмной, дождливой сентябрьской ночью, увидел, что дом горит на самом въезде в Сретенск, на отшибе. Жили там старик со старухой. Клепиковы. Остановил отец коня, не снимая мокрый дождевик, вошёл в горящий дом, нашёл в прихожей на полу стариков, обессилевших и задыхающихся, и вытащил обоих сразу, ухватив их за шиворот одёжки, уже под падающий потолок, на улицу. Живы остались, отдышались. Выпивший был отец в это время, нет ли, я не знаю. Да и не важно. Часто, помню, после приходили они, старики Клепиковы, к нам и благодарили отца, предлагая ему принять от них в подарок то курицу, то куриные яйца, только куриц и имели, держать скотину сил у них уж не было. Отец, отказавшись от даров, легонько подталкивая в спины, вежливо стариков из дому выпроваживал. А сам он об этом случае и не поминал. Сказал однажды только: ладно, мол, что дождевик на нём был мокрый – всё на этом.
Мама уже лежит, укрывшись одеялом до самого подбородка, глядит в камин.
– Ногам легче? – спрашиваю.
– Да нет, – говорит, – ничё не легче.
– А что тогда их натираешь?
– Да всё надеешься на чё-то… У матушки моей, твоей бабушки Настасьи, тоже всё ноги так болели, мучилась ими тоже, бедная, передалось мне по наследству, – сказала так, задумалась и, чуть спустя, пустилась в горькие воспоминания.
Вспомнила – не раз я это уже слышал, но слушаю внимательно опять, душою сострадая, – как их кулачили. Как, отняв всё, вплоть до деревянной крышки от деревянной бочки, вывезли их среди зимы в тайгу и оставили на пустоплесье. Из Сибири в Сибирь, как по барду. Три ночи по пути ночевали – одну в Ялани, другую в Рыбной, третью в Маковском. Но у кого вот, спроси её, не помнит. На каком постоялом дворе, не скажет. Беда ослепила, память отшибла. Да и лет ей было мало. Прямо среди заснеженного бору строиться стали мужики, умелые, мастеровые. Поставили несколько бараков. Лес сырой, в бараках вода, плахи в проходах хлюпают, к весне много народу поумирало. Лежишь ночью на нарах и слышишь, как в потёмках покойника выносят. А там, снаружи, приходит из тайги росомаха и грызёт трупы – тоже слышно. А вот они, всей семьёй, выжили. Чудом. Да и тятенька следил за всеми. А хромой был, после первой германской, и зубов во рту совсем не имел – повыпадали все от газу. Мама, правда, скоро умерла – сильно внутренности застудила. Все думали, что расстреляют, но через год распоряжение пришло: распустить лагерь. Вернулись в свою деревню. Дом наш занят – под сельсовет. Заново тятенька отстроился – и нас по новой. Теперь уж дальше, на край света. Я в семье у дяди Григория жила, в помощницах, с двоюродной сестрёнкой нянчилась, они считались бедняками, их и не тронули, а вместе с ними и меня. Замуж я уже перед самой войной, молоденькой совсем, девчонкой, вышла, тоже за бедного, он рано умер… от болезни.
– А как, – спрашиваю, – пока бараки не построили, где ночевали вы?
– Ну как где, – говорит мама, – тут же, возле костров. Кто в шалашах, на лапнике. В кучу собьёмся тесную и согреваемся. Дети внутри, а взрослые по краю.
Думаю, интересно вот, столько они пережили, перестрадали, всего лишились, стольких родных безвременно похоронили, а почему ни мать, ни её сёстры, ни братья никогда не говорили плохо о Советской власти и о Сталине. Рабство? Забитость? Нет, конечно. Люди свободолюбивые, и по себе сужу, от этого же корня, нажима со стороны не терпели и не терпят. Вкоренённое в них Православие: всякая власть от Бога? Да, возможно.
Уже овдовевшая. После войны. Живёт со свекровью и свёкром в Ново-Михайловке. Работает на лесоповале. Свекровь ошпарила кипятком по неосторожности в бане спину. Мама ходит за ней. Чем только не лечат, ничто не помогает. Уже и черви в мясе завелись, там и не мясо – один жир. Стала мама, по совету ссыльного старика, фердшала из Тамбовской области, мазать рану пластырем. Воск, еловая сера и коровье масло. И безо всякого нашёптывания. Начало заживать: покрываться тонкой кожицей. Приехал по какому-то делу из Сретенска в Ново-Михайловку новый участковый – Арефьев, фронтовик, мужшына видный, и в разводе. Увидел молодую, красивую, хоть и бедно одетую, женщину, будущую нашу мать. Приехал после ещё раз, находя дела какие-то в Ново-Михайловке. Начал ухаживать за мамой. Та ну никак не соглашалась, ну ни в какую. Потом свекровь и говорит ей: «Будь добра, Елена, соглашайся, хоть отсюда, девка, вырвешься, из леспромхозу. Мы тут уж как-нибудь, и жить уж нам… Дети приедут, похоронят». Решилась мама: лишь бы вырваться. Отдали ей сердобольные свекровь и свёкор нетель в приданое. Повела её мама в Сретенск, к новообретённому мужу. Долго шла. Пути сто километров. Ночевала возле дороги, привязав корову к дереву. Дошла. Сто километров – с нетелью, и вот по жизни – скоро исполнится сто лет.
И нас, общих детей, тут народилось пятеро. У мамы нет, а у отца остались в Новомангазейском селе от первого брака ещё двое: сын и дочь. Ну и внебрачных… а сколько тех, я и не знаю.
Отец был старше мамы на двенадцать лет, без малого.
– Чё, будем спать? – спрашивает мама.
– Будем, наверное, – говорю.
– Пора. Если усну ещё, конечно… днём-то чё делала – спала.
Ушёл к себе. Включил ноутбук.
Пришло письмо (орфография и пунктуация авторская).
«Уважаемый Арефьев,
Меня зовут Дин Паркер. Я являюсь законным представителем, поверенным и менеджером по работе с частными клиентами моего покойного клиента. В 2021 году мой клиент г-н Маршал Арефьев скончался, оставив после денежное наследство в размере десяти миллионов пятисот тысяч долларов США (10 500 000 долларов США). Мой покойный клиент и закадычный друг вырос в „Приюте для детей без матери“. У него не было ни семьи, ни бенефициара, ни ближайших родственников суммы наследства, оставленной в его банке.
Финансовый закон о наследовании четко разрешает умершему банку использовать умершие деньги по своему усмотрению, если наследственные деньги остаются невостребованными в течение тридцати шести месяцев после смерти владельца счета. Причина, по которой связались с вами сейчас, заключается в том, что вы носите ту же фамилию, что и умерший, и я могу представить вас в качестве бенефициара и ближайшего родственника. Закон о наследовании явно оставляет бремя доказывания того, кто является родственником или нет, покойному адвокату для доказательства. Как покойный адвокат, закон гласит, что последнее слово в том, кто является бенефициаром имущества покойного, остается за мной.
Это на 100 % законно. Я как юрист знаю. Если вас заинтересовало это предложение и вы готовы хранить это предложение в полной конфиденциальности и доверии, то сразу свяжитесь со мной, и мы сможем проработать детали, и вопрос Вашей компенсации. Если вы не заинтересованы и нашли это электронное письмо оскорбительным, или вы думаете, что это игра, пожалуйста, не отвечайте. Пожалуйста, вы можете отправит свой ответ по электронной почте: ail. rdean. parker@mu.
С уважением, Дин Паркер (ESQ)».
Ну, думаю, разбогатею наконец-то. Квадроцикл прикуплю. Или Ниву. Сколько же жуликов на белом свете? Не извести.
Закрыл ноутбук, лёг на диван под полушубок, взял Книгу.
Прочитал:
«…и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: „позвольте мне переправиться“, то жители галаадские говорили ему: „не Ефремлянин ли ты?“ Он говорил: „нет“. Они говорили ему: „скажи: шибболет“, а он говорил: „сибболет“, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи».
Ничего нового под луной. И та же «паляница».
Подумал, был бы жив Вася, был бы он давно уже там, на Донбассе. Ничуть не сомневаюсь.
Самый страшный момент в моей жизни – и не момент, а вечность целая как будто, всё продлевается и продлевается, и повторяется и повторяется: звонок от жены.
– Вася разбился.
– Как разбился?!
– Насмерть.
Месяца за два до этого принёс Вася от своей бывшей одноклассницы котёнка, породистого, тайского, с надломленным на конце хвостом. Тося. По пятам ходила Тося за Васей, а то сидела у него на плече.
И тут вдруг заметалась по коридору, громко запричитала. Не сама, похоже, по себе.
То ли что-то почувствовала, говорят про них такое.
То ли я завыл – поэтому.
Пять лет прошло, протянулось ли, но до сих пор, когда, находясь дома, услышу вдруг с кухни или из своего кабинета, как зашумит в замке входной двери ключ, обмираю: вот дверь откроется и переступит он порог: папа, здорово. Здорово, сынок. Уже не вою. Навылся. Пил поначалу чуть ли не ежедневно. Месяца полтора. Не помогло. Только всё хуже становилось, хуже и хуже. Господи, помилуй!
Открыл снова Книгу, начал читать:
«И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре… Кто хочет слушать, слушай; а кто не хочет слушать, не слушай…»
Закрыл Книгу, взял другую.
«Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос, со всею прямотою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености…»
Отложил книгу. Поднялся.
– Господи, – сказал, – Ты знаешь мою просьбу. Но не так, как я, а так, как Ты, на всё Твоя святая воля.
Господь промолчал. Или я не расслышал.
Вышел в большую комнату. Дрова в камине прогорели. Огоньки сине-зелёные на углях не танцуют. Задвинул вьюшку.
Мама лежит, глаза закрыты. Поправил на ней развёрнутый поверх одеяла клетчатый плед. Прислушался – дышит.
– Ты чё, Ванюха? – вдруг говорит она. – Испугался? Подумал – умерла?
– Да просто глянул, спишь, не спишь?
– Уснула вроде.
– Разбудил?
– Да сплю-то я, так уж, вполглаза… А вот Никита испугался бы. Уже так было… Стреляют всё ещё?
– Стреляют.
– Скоро, поди, угомонятся.
– Вряд ли.
Кого винить, думаю, если ещё Пётр Первый ввёл своим указом новое начало года, сместив его с первого сентября на первое января и приказав праздновать наступление Новолетия пальбою из пушек и ружей. Так вот до сих пор мы и палим. Хорошо, что не из пушек.
– А сколько времени? – спрашивает мама.
– Полтретьего, – отвечаю.
– Камин-то скутал?
– Скутал, скутал.
– Не рано ли… как вроде пахнет.
– Не волнуйся.
– Ну, буду спать.
– Спокойной ночи.
Пошёл к себе. Встал у окна.
Ночь за окном. Поздняя. Луна. Растущая. Бледнеют матово поляны снежные. Темнеет ельник. И ни одна звезда не упадёт – примёрзли.
Сказки из детства вспоминаются – про волка серого, Бабу Ягу. И про медведя с деревянной лапой. Теперь не страшно. Но интересно: и этот страх тогда был в радость. Когда читала по слогам их, эти сказки, мама. Мне, перед сном.
Побрёл мысленно с Катей по заснеженному Петербургу. Вышел на Большую Зеленину, к «Чкаловской». Напротив – огромный дом, номер 13. И будто слышу:
– В тысяча девятьсот двенадцатом году поселился в этом доме поэт Вильгельм Александрович Зоргенфрей, сын военного врача, по происхождению лифляндского немца…
- Чем известна, чем гордится
- Развесёлая столица?
- Как поддержит свой престиж
- Русский Лондон и Париж?
- Александровской колонной,
- Кавалерией салонной,
- Медной статуей Петра
- И конюшнями двора…
Не задержался в этот раз надолго в Петербурге. Вернулся в Сретенск. Всё в той же комнате. Смотрю в окно.
Сова мимо пролетела, рядом с окном. Бесшумно. Промышляет. То ли мышей скрадывает, то ли уснувших под стрехой воробьёв – слышит, наверное, как те во сне тревожно вздрагивают.
Рассеял взгляд на оконном стекле – и видится:
Ведёт, ведёт мама за верёвку за собой нетель – огненно-красную, как мне представилось, – по осенней распутице, и как мне хочется сопутствовать ей – оберегая.
Тихо сказал:
– Спокойной ночи, мама Лена.
Вижу:
Одна звезда всё же упала. На дом соседний.
В доме у Валентины… Викторовны только что погасли окна, но вот и, тёмные, они меня тревожат.
«Гнусик, а ну слезай давай с плеча».
Свет в феврале
Седьмое февраля.
Восход солнца – 08:14; заход – 17:15; долгота дня – 09:00.
Это я выписал из «маминого» численника, с православными молитвами, постами и праздниками, – раньше каждый его листок, без исключения, оторвав очередной, прочитывала она внимательно, с той и с другой стороны, с первой до последней буквы, по-детски шевеля губами, полушёпотом и по слогам, теперь не всякий день и «сил хватает до него добраться, вроде и рядом, несколько шагов, и вот пройди их… дожила, подумать только», – численника, что, меняясь вечером тридцать первого декабря каждого года на новый – Никита загодя привозит ей из города, покупая в лавке монастырской, – висит у нас на кухне, то есть так дело обстоит в Москве, по ней замеры.
Для подтверждения:
ООО «Каламин», 129085, Россия, г. Москва, ул. Большая Марьинская, 2. Хоть в Костроме и отпечатан этот календарь.
А вот как в нашей широте, конкретно в Сретенске: восход солнца – 08:46:50; заход – 17:26:35; долгота дня – 08:20:45.
Так сообщила Сеть всезнающая. Верю ей на слово – авторитет.
Чуть не забыл сказать: теперь листки в численнике отрываю я, как по наследству перешла ко мне эта забота, читаю маме содержание. Не пропускаем – каждый день, то вечером, то утром. Как ритуал. Забуду я, она напомнит.
Вот что про численник ещё. Когда был жив и не ослеп ещё, строго следил за ним отец. Листки он не отрывал, а, перевернув, подсовывал их под резинку бережно. Прежде слюнявил пальцы, чтобы лист из них, уже «как деревянных», не выскальзывал, большой и указательный. Так что весь год, от первого дня до последнего, оставался целым численник: в верхней части прибывало, в нижней убывало (как у мамы в тетрадке «во здравие» и «за упокой»). Листы он, отец, тоже прочитывал с той и с другой стороны, и тоже внимательно, с первой и до последней буквы, но ведь и численники-то тогда были «советскими, нормальными», а не «с церковной чепухой… какое-то там Рождество, какое-то Успенье, надо ж такое напридумывать, мало того, ещё и верить в эту чушь». Когда это ответственное дело взяла на себя мама – «нормальные» численники у нас к тому времени уже поменялись на «поповские» – и стала вслух, и для себя, и для отца, прочитывать, что на листке оторванном написано, отец отмахивался раздражённо: ай, мол, не надо, не читай! – а под конец жизни, месяца за два до кончины, он уже и не отмахивался, лежал молчком на диване, глаза незрячие уставив в потолок, куда-то выше ли, руки тяжёлые вдоль тела вытянув, то ли прислушивался к тому, что мама читала, к чему-то другому ли, то ли о своём о чём-то размышлял сосредоточенно, во всяком случае – не заявлял сходу, что чепуха это поповская. Устал, наверное, перечить. Просто устал ли.
Время сценарий так меняет, по ходу пьесы. С чем вот к финалу подойдём?..
Ох это Время.
Ну и ещё, коли попало на язык, теперь последнее про численник. Цепляется он у нас к декоративной лакированной фанерке, вместо картонного экрана. Эту фанерку – уже с численником на ней – и вешаем на гвоздь. Мода когда-то, наравне с игрой в шахматы, занятиями в радио-и фотокружках, была среди наших школьников – «выпиливать». И я – не исключение – увлёкся. Никита лобзик даже подарил мне. Вернее – выклянчил я этот лобзик у Никиты, мягкий характер у него, у брата – сломался быстро, лишь бы я «не канючил и отстал». Но от моего «творчества» ничего, увы, не сохранилось, представить нечего мне перед Вечностью и человеческим судом. Все мои «бесценные» изделия, чтобы «повсюду не валялись, чтобы за них не запинаться (преувеличение его)», собрав сначала в одну кучу, бросил после отец в печку. Получалось у меня криво-косо, и постоянно перегревались и ломались хлипкие пилки, а их тоже, как и сам лобзик, достать тогда было непросто – и, намозолив себе руку, а отцу глаза, охладел я быстро к этому искусству, на месяц только и хватило, и перешёл на «фотомастерство». Тут задержался я немного дольше, до срочной службы. И вот, если перевернуть нашу фанерку обратной стороной, увидишь, что там написано. Написано там химическим карандашом и аккуратным почерком такое: «Дорогому другу Ване Арефьеву от друга Вани Войскового к Дню Защитника Отечества, 4 класс». Не улыбнись тут с ностальгией. Я всякий раз, как прочитаю, это делаю.
Отец, кстати, по достоинству оценил работу моего товарища, и в печь она не угодила. До сей поры на своём месте, по назначению и служит.
Прибыл день на два часа. Секунды обнуляю – трудно учесть и трудно ощутить их – в небеспристрастном состоянии; минуты – ладно. Уже не «только», а «на целых!» два часа. Их день, настойчивый, отнял у ночи, подгрыз с начала и с конца; добровольно ли она ему их уступила, утомившись от собственной величавой продолжительности. Бесконечной, как говорит мама. «Изведёшься, пока светать-то не начнёт, всё и глядишь в окно – когда забрезжит; спать бы да спать, но ведь не спится». Заметно вечером и утром, насколько он, день, уже прибыл, сравнив с декабрьским его, предновогодним, совсем уж куцым.
Если смотреть от нашего дома на юго-запад, в верхней, хоть и зубчатой, но в целом ровной линии густого ельника выделяется одна рослая ёлка с раздвоившейся, как у змеи язык, вершиной – да и выросла ещё на взгорке; глянь хоть сейчас, и непременно взглядом за неё зацепишься.
Бывал я когда-то, ещё мальчишкой, возле неё, и в это же примерно время. На лыжах, без ружья, без тозовки. С фотоаппаратом ФЭД–4, бескурковым. Соболя на неё загнал, вернее, сам он, меня услышав, чуткий, заскочил на эту ель, искрой мелькнув передо мною, – среди осинника она одна там, зимой осина – не укрытие. Хотел сфотографировать его, красавца, не получилось – в сучьях умело затаился, со всех сторон, то удаляясь, то приближаясь, ходил вокруг, высматривал, но безуспешно.
Вечерело, когда проявит он себя, ждать не решился, ему-то что, сиди там и сиди, и до утра не шелохнётся, в такой-то «шубе». А мне до дому б засветло дойти, чтобы «глаза на сучьях не оставить», – два километра до деревни, не по дороге – по лыжне.
Никому – ни в тот же вечер и ни после – не сказал, кроме Никиты – он эту ёлку тоже знает, тоже бывал возле неё, но не азартный, слава богу, «рассудительный», и сломя голову туда не кинется, – не сообщил я никому, что видел соболя, что соболь – наш, левобережный, не «баргузин» коротколапый, с роскошным помелом-хвостом. Скажи кому, пойдёт с собаками, ничуть не сомневался, добудет сразу же, пасть ли, капкан поставит на него. Мне его жалко было – стал своим, мы с ним как вроде познакомились.
И всё равно, кто-то его, скорей всего, тогда же и добыл – к деревне близко. Чья-то жена или подруга собольей шапкой разжилась. Но без меня, как говорится.
Так я о чём. Неделю назад солнце закатывалось слева от верхушки этой ели, три дня назад – прямо за ней, царской короной на короткий срок её венчая, двухголовую, теперь вот – справа от неё, и с каждым божьим днём станет всё больше отдаляться к западу от этой метки, запад минуя, к северу направится, но не дойдёт до севера немного, притормозит, чтобы набраться сил, передохнуть; задержится на целых шесть суток уже возле другой метки, но не ели, а лиственницы, ещё более возвышающейся над горизонтом, и поспешит в обратный путь, прибавляя время ночи, сокращая день и приглушая мою радость – ещё нескоро, чем себя и тешу, противясь мысли: пора придёт, и не заметишь. Так и будет.
Да, ох уж это Время.
Кому оно так верноподданно и безупречно служит?.. Предположить, конечно, можно. Нас для него вроде и нет. Если и есть – ему что нас менять, что камни, только с камнями оно более учтиво.
Да, повторяю, ох уж это Время.
Чуть ли не каждое утро, если, до поздней ночи зачитавшись или засидевшись за проектом, не просплю, и каждый вечер выхожу на улицу, к окну ли подступаю – встретить восходящее, «как жених из брачного чертога своего», бодрое солнце, когда не пасмурно, и проводить его, уже усталое, в «чертог». И будто совсем уже, до дна, опустевшая к зимнему солнцевороту душа моя постепенно начинает наполняться радостью – от лучезарного заката или от нежной утренней зари, разбегающихся день ото дня друг от друга в сутках, зато сближающихся ночь от ночи; в наших краях день не стирает ночь до пятнышка – не Крайний Север, но белой делает её.
Как радостью – душа моя полна, так и рюкзак мой – рыболовными снастями. Был бы я сейчас в Петербурге, заполнился бы он, рюкзак, уже значительно. На треть-то точно. Кроме снастей, кладу в него подарки разные, заказы – тому одно, тому другое, – ещё и книги – чтобы было что читать здесь вечерами (библиотеки нет уже в деревне, была когда-то, «при Советской власти»), там до которых руки не доходят. Нынче взял Фаулза, «Волхва», сколько уж лет вожу, никак не дочитаю.
Луна: восход – 07:35; заход – 12:55; убывает.
Даже и зная где искать, даже и в полной её фазе, даже на чистом дневном небе, не всегда луну отыщешь. Ловко маскируется она под лёгкую пушинку, или под маленькое облачко, чуть ли и не прозрачное, и будто чудом только ветром верховым её за ельник не сдувает, невесомую. Движется она своим путём и с такой скоростью, какие предписал Закон небесный ей – не поменяешь, не нарушишь.
Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского; преподобного Анатолия Оптинского, Старшего; священномученика Владимира, митрополита Киевского; священномученика Петра, архиепископа Воронежского; священномученика Василия, епископа Прилужского; мученика Бориса; святителя Моисея, архиепископа Новгородского; мученицы Филицаты и сыновей её.
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
«Суд праведен судите, милость и щедроты творите…»
Заглянул в открытый ноутбук, выбрал события, произошедшие в этот день в разные века и годы в мире (чтобы, в оторванности от него, с ним, с этим миром, связь почувствовать, хотя бы зыбкую, и ощутить себя во Времени):
1238 – штурм города Владимира войсками Золотой Орды;
1568 – испанская экспедиция открыла Соломоновы Острова;
1795 – порт Хаджибей переименован в Одессу;
1855 – между Россией и Японией подписан Симодский трактат;
1863 – запатентован первый огнетушитель;
1943 – хорватские фашисты устроили резню сербов в окрестностях Баня-Луки;
1965 – началась операция «Пылающее копьё» в ходе Вьетнамской войны;
1981 – Гренада провозгласила независимость;
2018 – землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на Тайване; женский волейбольный клуб «Динамо» обыграл «Страбаг».
Оставил ноутбук, к окну вернулся.
Сказал вдруг вслух:
– О! Валентина… Викторовна… на работу.
Сразу в медпункт направится, или к кому-нибудь из стариков прежде зайдёт, их тут немало, в отличие от молодых, тех как корова языком слизала. Спроси про них, про молодых, тебе ответят:
Два-три калеки, мол, и те – туда-сюда, шатаясь, шляются, любуйся ты на них – не просыхают. Работы нет, заняться, дескать, нечем. Как человеку без работы? Ну, только спиться.
Чтоб беспробудно пьющий был, такого я не знаю. Нет тут таких. Так – деньги есть – и «позволяет». Деньги закончились – «сухой закон».
Идёт Валентина… Викторовна, нос варежкой прикрыла. Пар изо рта не видно из-за варежки – в ней, как в ловушке, исчезает. Представил: снег коротко скрипит под зимними полусапожками. В сторону дома нашего даже не глянет – устремлена так.
Смотрю в протаянный дыханием и не успевший ещё затянуться ледяной плёнкой кружок, размером с донце моей кружки из двухслойной нержавейки, с гравировкой окуня горбатого на стенке, подаренной мне знакомым петербургским писателем, рыбаком, футболистом и бывшим десантником Сергеем Ивановичем Быковым, которую вожу с собой повсюду, беру в тайгу и на рыбалку, и из которой пью сейчас горячий чай кипрейный. Никита летом собирал. Не по своей, конечно, воле – «по принуждению», понятно, чьему – подкаблучник. Сам пьёт лишь воду родниковую, сырую, и иногда парное молоко. Ещё и водку, чуть не упустил. Но меру, в отличие от некоторых, знает.
День ярко-солнечный. Снег – в тени фиолетовый, на открытом месте – бело-золотой, как Богородица Казанская, искрится, словно кто-то на него просыпал мелко-мелко, будто в чугунной ступке пестиком чугунным, толчёное стекло цветное. Позёмка вёрткая и невесомая, как дым, – блуждает, пресмыкаясь, по полянам возле ельника, заползает и в деревню, заулки лижет и края, можно подумать, от нечего делать, бесцельно, хотя направил кто-то же её, не самовольно расхозяйничалась. Морозец крепкий, больше сорока. По ощущению. А точно не скажу: плотная наледь не даёт увидеть градусник, к раме оконной приколоченный снаружи. Мама спросила, слышу: «Ванюха, сколько там?» Ответил: «Сорок». – «Ну, вряд ли меньше… обындевели за ночь окна, не отходят».
Вспомнились стихи Юрия Кузнецова.
- Всё сошлось в этой жизни и стихло.
- Я по комнате кончил ходить.
- Упираясь в морозные стёкла,
- Стал крикливую кровь холодить…
- Так стоял в этом смолкнувшем доме.
- И на божий протаяли свет
- Отпечатки воздетых ладоней
- И от губ западающий след.
Смотришь, и тварный свет лучится празднично, и как-то чувствуешь, что и нетварный сквозь него сквозит – откуда только? Можно догадаться.
Чуден свет Твой, Господи, чуден… Не отрывался бы – смотрел. Смотрю вот, есть пока возможность.
Событие случилось в Сретенске. Безрадостное. На Старый Новый год, когда мы с ним встретились на улице, под вечер уже, в сумерках, пошёл Коля Бармин из Верхней Половины в Нижнюю, чтобы «отметить праздник приближающийся», к своему «бясценному» приятелю и товарищу по дружеским беседам, рыбалке и охоте Сане-кержаку, у которого уже и утром он «погостевал маленько». Выпили они «не так уж чтобы много, как обычно», поговорили, домой возвращался Коля, чтобы уже дома встретить Старый Новый год, «с сямьёю и с шампанским, как положено», Серебрянку перешёл и заблудился – «конпас сломался в голове, от подземной аномалии какой-то», – уснул в сугробе. Одну ногу спасли, другую нет – ступню отняли. Пока в больнице «прохлаждается». Ольга, жена, и мать его, тётка Прасковья, не один уже раз ездили «обудёнкой» к нему на рейсовом автобусе в город, проведывали болезного. «Лежит, горе горькое, – говорит тётка Прасковья, – всё нипочём ему, блажному инвалиду, лыбится… Как теперь будет жить, спроси его, он и не думат, мозги… и были-то с горошину… совсем, поди, их отморозил». Ольга при людях не высказывается на эту тему.
Ребята шли из клуба или в клуб, увидели. Так бы и насмерть мог окоченеть и к этой жизни уже не оттаять.
Ох, Коля, Коля. Вот тебе и Коля. Сердце – не каменное, полотняное – сжимается от сострадания, как только вспомнишь, что стряслось с ним. Люди в деревне говорят: «Ладно, хоть так, могло бы быть и хуже». Оно и верно. Отец его, дядя Егор, до того ещё как утонул, года за три или за четыре, – метали в колхозе зарод, – вершить, забравшись по верёвке на зарод, начал, упал, навильник сена снизу принимая, «неудачно» с зарода и сломал себе обе ноги. Как уж и кто его лечил, кто знает, но срослись кости «неправильно», не так, как нужно, ломали, сращивали заново, да с тем же результатом, отступились, и хромал после дядя Егор на обе ноги, как библейский Мемфивосфей. Помню, идёт он, переваливаясь, как утка, с боку на бок, от дому к конюховке или обратно – работал конюхом в колхозе, – а мы, мальчишки, вслух считаем: «Рубль десять, рубль двадцать – на пиво хватит, на водку нет». Не обижался, не серчал и не гонял дядя Егор нас, придурков малолетних, палкой, с помощью которой стал ходить, медведиц на нас, как пророк Елисей на детей иудейских, за нашу дерзость не натравливал. «Тихо́й был шибко», чтобы отвечать. А может – мудрый. Не как пророк – а как обычный человек, и среди них бывают мудрые.
Коля «обличьем шибко уж похож на деда, вылитый, ну а карахтером – в отца, точь-точь такой же – не от мира». Так говорит о Коле его мать.
Чья-то собака пробежала мимо дома – снег сухо похрустел. Крахмал хрустит так между пальцами.
Вышел я в большую комнату. Мама сидит на кровати, расчёсывает пластмассовым гребешком волосы и говорит:
– У всех сестёр моих – надо же, всех пережила – волосы были знатные, густые, а у меня и с детства были никудышные, теперь и вовсе… хвост от репы.
И у них были светлые, русые, а у меня… как у цыганки.
– Ты не цыганка?
– Да откуда? У нас цыган в деревне не бывало.
– Не знаю. Мало ли, какой проезжий…
– Проезжий… Только что.
– Ладно, не прибедняйся, – говорю. – Волосы как волосы.
– Ну, уж куда там… Какого цвета, и не знаю.
– Тёмно-каштановые, – говорю.
– Были когда-то, – говорит.
– Ну, были, были, – соглашаюсь.
– Теперь вон кудри прямо, как у Будулая… беда, и только… словно на кочке две травины.
Седеть мама стала поздно, после семидесяти. Теперь совсем уже белая. В таком-то возрасте – конечно.
– Зато самая, – говорю, – из них красивая.
– Ну уж, Ванюха, не скажи… Как сейчас помню, Мотю замуж выдавали, до кулаченья ещё, за год, наверное, да так, пожалуй, мы с Аннушкой и Ванюшей ещё маленькие были, Полина, та и вовсе, и двух-то лет той ещё не было, а Петя, тот родился уже в ссылке, а через год и мама умерла, остался махоньким наш Петя, как-то вот выжил, Божьей милостью… С лентами синими, в красных ботиночках, шнурованных, и в красном платье на яру стоит – Марья Моревна-королевна… А жизнь, милый ты мой, и на красоту не посмотрела, столько перетерпела наша Мотя, двоих детей в Игарке схоронила, в мерзлоту упрятала их, мужа убило балкой на строительстве каком-то там же… осталась – пятеро детей, и без кормильца. Дети хорошие, одна их подняла.
– Да-а, – говорю. – Не позавидуешь.
– Какое там… И Аннушка с Натальюшкой, да и Полина – разве они, скажи мне, были не красивые?
– Красивые, красивые, – соглашаюсь. – Очень.
– Одна краше другой. Все, молодые-то, красивые, – говорит мама. И говорит: – Так, парень, хочется помыться… Уж три недели в бане не была, может, и больше, надо подсчитать… тут и погода: то вот мороз, то непогода. Пока идёшь туда, оттуда ли – в сосульку обратишься. Да и дойду – а там я как?.. Но и терпения уж никакого. Хоть бы из девок кто приехал, да далеко им… И тут, в деревне, некого просить. Кому чужому я нужна, смотри на клячу, спину три ей, проще, мол, палкой суховатой вдоль хребтины… Кожа на мне уже от грязи лопается, как на рассыпчатой картошке или на ящерке, возьми меня за пятку, тряхни сильней, она и слезет, моя шкура. Новая наросла бы, дак и ладно… Плесень теперь лишь нарастёт.
Сказала так, на меня, не переставая расчёсывать свои «кудри, как у Будулая», смотрит и улыбается. И говорит:
– Вот дожила, так дожила. Могла ли раньше я подумать…
– Могу затопить, – говорю.
– Да хоть топи, хоть не топи, – говорит мама, – дойти до бани не смогу я. Себе-то, хочешь, и топи. Или ты мылся на неделе… Вода-то есть там, нет, не знаю?
– Унесу, – говорю, – на руках. Или на саночках тебя свожу.
– Ну, только что. Как барыню… Свези в овраг вон, там оставь… Да нет уж… Вот как оттеплет, так и свозишь. Сама, – говорит, – напрошусь. Терпеть уж как-нибудь придётся, от этого, надеюсь, не помру. А и помру – оммоют люди, в могилу грязной не опустят. Да хоть и грязной… не телом станешь перед Господом – душой. Ту вот бы как-нибудь отмыть, та уж как мурин…
– Могу твоей невестке позвонить – приедет.
– Кого просить, сынок, так только не её. Прокиснуть лучше…
– Есть, – говорю, – способ.
– Какой? – спрашивает.
– Помыться в доме.
– В корыте, в тазике?.. Чё, шутишь, что ли?.. Я же не влезу, не ребёнок. Хоть, – говорит, – и не с кобылу ростом, не с жаребца.
– Нет, не шучу.
– Да как?
– Узнаешь.
Принёс из «северной» комнаты, закрытой – чтобы не отапливать её – на зиму, резиновую лодку, с которой на рыбалку хожу летом, сплавляясь по Кеми, по Тые или Тахе; на Ислень с нею не суюсь – утлая – волной перевернёт.
Смотрит на меня мама, не понимает, что я делаю.
– Рыбачить, что ли, посреди зимы собрался? Уж не чудил бы, – говорит. – По льду-то как там?
– Скользом, – отвечаю.
– Разве что так. Да в полынье лишь покрутиться, вёслами побулькать.
Молчу. Молчит и мама. Наблюдает.
Камин растопил. Надул лодку возле камина. Проверил прежде – мыши не прогрызли – не спускает.
Накипятил на плите в нескольких кастрюлях воды. Наполнил ею лодку, разбавил холодной.
– Да как?.. Я же в неё и не зайду. Ох и придумал.
– Помогу.
– А раздеваться-то?.. Чё, при тебе?
– А я надену тёмные очки.
– А в них не видно?
– Нет, не видно.
– Зачем очки тогда, если не видно? Людей пугать – для машкарада?
– Эти от сварки, – говорю. – Чтобы глаза не повредились.
– А, объясняй мне, – говорит. – Толку-то нет, дак тут хоть тресни. Ну, хорошо, если не видно.
– Брал у кого-то, – говорю, – давно, на солнечное затмение смотреть, так и остались.
Разделась мама, сидя на кровати. Я в своей комнате. Письмо читаю. От жены. Скучает. Больше по детям, чем по мне, – честно, с усмешкой, признаётся (место обязывает, дескать, – монастырь, нельзя обманывать, лукавить). Ответил: «Скучаю тоже – по всем вместе», – и так же честно, место, мол, обязывает. В ответ пришёл какой-то смайлик – не разбираюсь в этих рожах и разбираться не хочу – будто от беса, несмотря на место.
– Готова, – говорит, слышу, мама. – Сижу, как курица ощипанная, только не квохчу… по коже вон и пупырышки побежали.
Вышел, с очками на глазах. Руки вперёд – как будто ничего не вижу, иду на ощупь.
– Где ты? – спрашиваю.
– Тут я, – отвечает. – Весло-то дашь мне?
– Да хоть два.
Подвёл маму к лодке. Потрогала она, склонившись, рукой воду.
– Нормально? – спрашиваю.
– Что с человеком старость делает… Нормально, – отвечает. – А ты, Ванюха, правда, ничего не видишь?
– Конечно, нет. Хочешь проверить?
– Ладно, поверю, – говорит. – Хоть ты и был всегда омманщиком.
– Да уж, не больше твоего.
– Ага, сравнился. Мне до тебя, как до Подгорной.
– А почему не до Ялани?
– Ялань же ближе.
Подсобил маме забраться в лодку и уместиться в ней удобнее. Подал ей мыло и мочалку травяную, по-нашему – вехотку.
– Удочку, жалко, не взяла, – и улыбается.
– Как помоешься, – говорю, – скажешь. Я буду в комнате своей. И станет холодно – кричи, подкину пару.
– Иди, иди… Вот как бы спину… не достану. Уж извини меня, Ванюха… То вся помоюсь, а спина… Ты же не видишь?
– Нет, не вижу.
Потёр маме спину. Едва от жалости не помер. Подумал почему-то: «Чтобы жить, человек должен помереть».
– Теперь иди, дальше сама. Только бельё ещё подай мне. На радостях-то и забыла.
Нашёл в средней комнате, в комоде, по её подсказке, свежее полотенце, колготки тёплые, рубаху нижнюю, юбку и кофту; «свитер пока менять» не будет. Положил на стул рядом с лодкой.
– Не знаю, мама, то, не то ли?..
– В нижнем же ящике?
– Как ты сказала.
– Заплаты новые – моё… Всю жизнь копила, богатела.
– Всё для себя, всё на себя. А нас в лохмотья, бедных, одевала, морила голодом, сирот. Я помню.
– Как ты хотел… В чём-то ходить мне надо было в лестораны?.. Не в телогрейке же, в которой управлялась, не в шароварах… А в клуб… Как без нарядов и без форсу?.. Умру, – улыбается, – продадите всё моё имущество-богатство, на похороны хватит, чтоб вам не тратиться, бутылки на две-полторы да на закуску… Полы-то мыть, поди, сгодятся. Шучу, конечно, – говорит. И говорит: – Девки вон навозили всякого тряпья, комод забитый. Когда носить мне?.. Сами старухами уж скоро станут, пусть увезут и сами наряжаются – не надевала, не носила – не побрезгуют. А захотят – перестирают.
– Им своего добра хватает. Этим-то барахлом сейчас весь мир завален… Мойся давай, вода остынет. Подлить горячей?
– Нет, нормально. А то сварюсь. Собакам скормишь… вряд ли они, конечно, есть такую станут, не пожелают.
Ушёл к себе – время скоротать. Взялся за «Волхва» – не читается. Отложил книгу. К окну подступил, любуюсь розовыми кружевами – куржак ничуть не истончал, солнце, как круг, за ним не различается, но угадать, где оно, можно – по золотому и бесформенному мареву.
– Иди, – слышу, – намылась старуха, напарилась. Веника нет, а то бы нахлесталась.
Помог маме подняться и выйти из «ванны». Оделась она, сев на стул.
– Тут хорошо, возле камина.
– А в лодке плохо было? Тоже рядом.
– Не будешь в лодке день сидеть… а и сидела бы, – сказала так и улыбается. – Кто бы воды горячей подливал.
– Можно продолжить.
– Нет уж, хватит. То так намоюсь – не узнаешь. Решишь, что деушка какая-то из лодки вышла, молодая, как из парного молока.
– Ага.
Перебралась на кровать. Довольная. Волосы в две косички заплетает. Заплела. Завязала на концах косичек, достав из-под подушки, зелёные тесёмки – чтобы «длиннющие не расплетались, а то запутаешься в них». Шаль на голову накинула.
– Оу-ух, – вздохнула облегчённо. – Вот хорошо-то как. Такое счастье. Спасибо, – говорит, – Ванюха. Догадался. Даже не думала, не представляла… А то совсем уже прокисла, хоть на помойку выноси…
– Наскажешь тоже… Чай будешь, – спрашиваю, – пить?
– Попьём, попьём, чуть отдышусь, – говорит, растягивая слова. – Пока оделась – запыхалась… Сейчас и водки выпила бы, – усмехнулась.
– Налить?
– Да нет, не надо. Какая водка… Так уж я.
Сама, без помощи моей, дошла до кухни.
– Давно тут не была, – говорит. – Почти неделю… Преодолела.
– Теперь с тобой хоть на рыбалку.
– Теперь-то чё мне – хошь куда. За мной ещё и не угонитесь.
– На вёслах будешь.
– Пусть на вёслах. Там уж, на речке, и останусь. Где под обрывом похороните рыбачку, на берегу ли, под ольхой.
Попили чаю. Поговорили. Сначала о Димке, внуке и племяннике, как он там, на фронте, и чтобы воина хранил Господь, потом о матери его, Татьяне, как она там переживает, затем о разном – о том же чае, мол, остыл и подогреть бы (подогрел я), о морозе, и наконец уж – об отце, как честно жил, как умер «смирно», «хоть был и этим… коммунистом, семьи дороже партия была… да и всего, наверное, на свете».
Вспомнил. Когда стоял много лет назад возле только что насыпанного ярко-голубой глины холмика, в стылую октябрьскую слякоть, под косым дождём со снегом, колко стегающим лицо, мельком поглядывая на понуренных родственников, почувствовал такую гравитацию вдруг, будто оказался я каким-то образом не на своей родной планете, а на белом карлике Сириус «Б» в созвездии Большого Пса. Так меня глина к себе притянула, чуть не расплющив. И домой пошёл (поплёлся) – будто по гире пудовой на каждой ноге, под гору вроде и идти, но скользко было.
Домой вернувшись и усевшись за стол, выпили водки на пару с Никитой. Родственники наши люди в основном непьющие. Киселём лишь поминали. Выпили еще: я – под сочувствующие и понимающие взгляды родственников – полный стакан, Никита – половину. Выпил я, на этот раз один – всё не берёт меня как будто, не легчает мне, словно не водку пью, а воду родниковую. Вышел на улицу, за ворота, свежего воздуху в лёгкие набрать, чтобы спёртый из них вытеснить. В Сретенске тихо. Даже собаки, до хрипоты навывшись и налаявшись, умолкли. Спровоцировать их захотелось – гавкнуть громко, – но не стал, всё бы отвлёкся. Фонари на улицах безжизненно мерцают, отчуждённо. Смотрю в очищенное от туч верховым ветром небо, ищу глазами Сириус – как будто сам себя там потерял, найти хотелось бы – как без себя-то? И слышу, сзади, от Большой Медведицы, голос отцовский прямо мне в затылок: «Ванька, ты это… шибко не печалься: ещё отведаешь по заднице своей ремня отцовского, не от кого-то – от меня, не забывайся».
Эх, папка, папка, я согласен.
И гири с ног моих упали – мне стало легче – хоть взлетай. Взлетать не стал – вернулся в дом и снова выпил.
Конец августа. Дело к вечеру. С сенокосом мы управились. Сидим с Никитой под навесом, грузила для перемётов готовим, подшучиваем друг над другом. Я – над Никитой – так вернее. Он только щёки надувает – так недоволен.
