Психиатрия в лицах пациентов. Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике. Часть 2
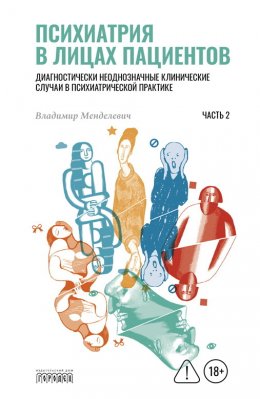
© Менделевич В. Д., 2025
© ИД «Городец», 2025
@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)
Предисловие ко второй части
Первая часть книги «Психиатрия в лицах пациентов. Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике» вызвала оживленный интерес не только у специалистов, но и у «простых» заинтересованных читателей. Оказалось, что описанные в ней клинические наблюдения и их психопатологический анализ привлекли внимание не только в связи с запутанностью почти детективных сюжетов, но и потому, что позволили изнутри взглянуть на «психиатрическую кухню». Читателям стало понятнее, как и почему ставятся те или иные психиатрические диагнозы, как их аргументируют профессионалы, с какими трудностями сталкиваются. Немаловажным оказалось и то, что психиатры в этой книге предстали не как «каратели» и прокуроры, а как адвокаты своих пациентов.
Во второй части «Психиатрии в лицах пациентов» описаны не вошедшие в первую часть случаи из практики, которые появились в поле зрения авторов уже после выхода первой части книги. Оказалось, что необычных, неоднозначных и диагностически сложных случаев не становится меньше – их поток не иссякает. Мы задумались, почему так происходит. Ведь, казалось бы, длительный профессиональный стаж должен снижать число «непонятных больных». Оказалось, что дело не только в профессиональном уровне специалистов, но и в том, что психиатрия склонна к изменениям, а психопатологические феномены – к патоморфозу. Эти происходящие видоизменения связаны со множеством факторов. Часть из них обусловлена накоплением знаний людей (обывателей) о проявлениях психических расстройств и распространяющейся практикой самодиагностики. Другая часть спровоцирована социально-психологическими изменениями и представлениями о норме. Постмодернизм существенно повлиял на то, что именно люди стали называть психической патологией, – репертуар нормативного поведения расширился. Кроме того, люди стали предъявлять завышенные требования к своему самочувствию – их перестали удовлетворять прежние уровни стабильности или комфорта. Произошел некий переворот в головах, и началась гонка за «психологическим удовольствием». Еще одним значимым социально-психологическим параметром стало широкое распространение мистического и мифологического мышления. В условиях, когда многие люди склонны к бездоказательной конспирологии, в психиатрии возникла проблема дифференциации нормы от патологии – стало трудно отличить, к примеру, когда человек «бредит», а когда «имеет свою точку зрения» и необычное мировоззрение.
Авторы будут рады, если описанные во второй части новые клинические задачи и их решения вызовут у заинтересованных читателей интерес к психиатрии и помогут налаживанию отношений между обществом и психиатрией.
Все пациенты дали информированное согласие на использование их медицинских и иных данных в научных и учебных целях.
Имена изменены.
Предисловие к первой части
Обычно психиатрия предстает перед читателем в виде учебников, монографий, научных статей, в которых автор сосредоточивается на описании психопатологических симптомов, закономерностях проявления различных психических и поведенческих расстройств, на рассмотрении механизмов их возникновения. Психиатрия раскрывает себя в виде загадочной, нетривиальной и довольно сложной научной дисциплины. Нередко за повествованием о психиатрии теряется человек, страдающий душевным недугом.
Но есть и иной способ познакомиться с психиатрией – это изучить ее сквозь призму конкретного пациента, уникальных случаев болезни и увидеть за симптомами лица и душу. Именно такому подходу и посвящена книга «Психиатрия в лицах пациентов». Она имеет подзаголовок – «Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике». В книге собраны необычные, трудные для дифференциальной диагностики клинические примеры из жизни конкретных пациентов, которые наблюдались у нас на протяжении последних лет. Нас привлекла в этих пациентах загадка диагноза их психического расстройства. Каждый описанный случай в своем роде уникален, часто приходилось по несколько раз встречаться с пациентами, уточнять у них их видение собственных страданий, иногда наблюдать годами только для того, чтобы понять, что нет никакой диагностической ошибки и что назначенная терапия оказалась эффективной.
Надеемся, что книга заинтересует коллег психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, наркологов, неврологов и всех, кому небезразлична судьба пациентов и кто стремится к объективности в психиатрии.
Квадробинг: где заканчивается игра и начинается психопатология?[1]
Тема квадробинга (квадробики) стала резонансной в российском обществе после того, как законодатели посчитали подобное поведение молодежи неадекватным, деструктивным и девиантным. Общество раскололось на ярых противников и осторожных сторонников. Высказывалось мнение о том, что за поведением квадроберов стоит психическая патология, поскольку «нормальный человек не может стремиться преображаться в животное и вести себя не по-человечески».
Известно, что под квадробингом понимается современная молодежная субкультура, в рамках которой подростки склонны имитировать действия и повадки животных, ходить на четвереньках, иногда питаться из соответствующей посуды, совершать физиологические отправления по-кошачьи или по-собачьи [18]. С точки зрения некоторых специалистов и общественных деятелей, основной проблемой и опасностью подобного поведения является нарушение личностной тождественности, «поиск альтернативной идентичности», влияющей на формирование моральных ценностей и на принятие позиции о существовании множественных нормативных форм самовосприятия, например, позиции в отношении допустимости трансгендерной и небинарной гендерной идентичности [цит. по 4].
Психиатрических работ, посвященных проблеме квадробинга, в научной литературе практически не представлено, поскольку для психопатологов принципиально важным остается вопрос о необходимости обнаружения очевидных симптомов и синдромов, дифференциации их с нормативным поведением, но не моральная оценка поведения человека [7]. С этой точки зрения, игровая деятельность детей и подростков в норме может быть противопоставлена феномену «игрового перевоплощения» (бреду метаморфозы – превращения в животное (зооантропия), в частности, в кошку (галеонтропия) [2, 13, 15]. В качестве основы дифференциальной диагностики нормы и патологии выступают характер и глубина нарушений идентификации и депересонализации. В литературе имеются указания на то, что синдром патологического фантазирования в виде игрового перевоплощения может встречаться в рамках шизофрении, а также при расстройствах аутистического спектра (РАС), шизоидном расстройстве личности и органических психических расстройствах [3, 5, 6].
Ниже приведен клинический случай 11-летней Марины, занимавшейся квадробингом с восьмилетнего возраста и прекратившей подобную деятельность по причине буллинга со стороны сверстников и социального прессинга в связи с новым законодательством. Спецификой конкретного случая явилось то, что обращение к психиатрам не было связано с квадробингом, – мама привела подростка на обследование из-за патологически сниженного настроения, суицидального мировоззрения, интенсивного селфхарма, школьной и социальной дезадаптации. По словам мамы, ассоциирование себя с животными у Марины сменилось на идентификацию с героем (героями) корейских аниме и косплеингом.
Марина, 11 лет. Обращение к психиатрам связывает с опасениями мамы по поводу ее психического нездоровья и неадекватного поведения. Сама девочка не признает необходимости консультирования и лечения у психиатров и лишь выполняет просьбы матери. В своем поведении не видит никаких отклонений – считает нормальным суицидальное мировоззрение, нанесение самопорезов, квадробинг и косплеинг. Рассматривает свои увлечения как приемлемые и широко распространенные среди современных подростков. Обсуждение темы квадробинга старается избегать, поскольку, с одной стороны, она уже не занимается «этим видом спорта», с другой – страшится осуждения со стороны окружающих. Акцентирует внимание лишь на проблеме социофобии.
Анамнез жизни и болезни. Беременность у матери протекала без патологии. Психическое и физическое развитие в соответствии с возрастом. С трех лет посещала детские дошкольные учреждения, в школу пошла с семи лет. В настоящее время учится в пятом классе гимназии с углубленным изучением иностранных языков, в последнее время была вынуждена перейти на домашнее обучение. Есть младший брат трех лет. Учеба в школе давалась с трудом, плохо запоминала школьные тексты, с трудом понимала, что нужно сделать в математических задачах. Со слов мамы, еще в подготовительном классе учителя говорили, что Марина «не тянет» школьную программу. Любимым предметом называет рисование, самым трудным – английский язык, «ненавидела» физкультуру, говорила, что школьников «воспитывают как каких-то солдат». Фразу «шагом марш» и командный голос учителя воспринимала как угрозу. Училась в основном на «тройки» и «четверки». Школу воспринимает как мучение. Жалуется на трудности со слушанием и запоминанием на уроке, на вопрос, «о чем же ты думаешь на уроке?», отвечает: «скорее бы он закончился». На данный момент учителя в школе, со слов мамы, относятся к ней с пониманием. С одноклассниками отношения не складывались с начальных классов. Был всего один друг, с которым впоследствии перестали общаться. На вопрос о причине расставания сообщила, что «стыдно дружить с мальчиком, нас будут считать типа мы любовники какие-то». Особо выделяет тот факт, что раздражало то, что «девочек сажали за парты с мальчиками, которые пинались и которых [она] ненавидела». При этом соглашается, что подобное негативное поведение со стороны мальчиков не распространялось на других девочек. В четвертом классе Марина решила сообщить о буллинге учителю, на что та серьезно не отреагировала. При этом дело дошло до инспектора по делам несовершеннолетних, который провел беседу со всем классом. В настоящее время у Марины всего одна близкая подруга («Юки»).
В дошкольном возрасте Марина увлекалась фигурным катанием, получила третий юношеский разряд, затем бросила занятия, когда начались трудности из-за набора веса. С первого класса посещала музыкальную школу («воспитатели в детском саду говорили о ее исключительном музыкальном слухе»). Бросила занятия из-за конфликта с учителем. В дальнейшем был период, когда увлекалась игрой на барабанах и верховой ездой. Примерно в четырехлетнем возрасте был период, когда Марина подражала поведению кошек – стала ползать на четвереньках, руки держала, как кошачьи лапы, высовывала язык и имитировала все кошачьи повадки. Мама расценила такое поведение как «защитное от стресса». После смены детского сада подобное поведение прекратилось. Однако, она продолжала носить на голове «кошачьи ушки» и одежду только с изображением кошек.
В 9–10 лет началось «осознанное» увлечение квадробикой, которое включало изготовление костюмов (масок), подражание повадкам животных, съемку себя на видео для выкладывания в социальные сети. Стала ходить преимущественно на четвереньках, совершала прыжки, причем старалась это делать максимально похоже на кошачьи движения. В связи с тем, что прыжки совершались с мебели на мебель (с кресла на диван или на стул), в доме было испорчено немало вещей – сломана дверь, на которой Марина, как кошка, пыталась висеть, подоконники, батареи. Из-за этого крайне ухудшились отношения с отцом, в то время как мама относилась к подобному увлечению дочери терпимо и даже помогала в изготовлении масок, хвостов, костюмов. В то же время девочка никогда не требовала к себе отношения как к кошке, не ела из мисок, не ходила по-кошачьи в туалет. Никогда не ассоциировала себя с животным, не считала, что она в действительности не девочка, а кошка или волк (был период, когда она имитировала поведение волка). В школу маски и хвосты не носила, и там как кошка себя не проявляла. Никогда не мяукала, но «выдумывала» себе кошачьи имена («Нямкэт», «Рейни», «Эн»).
Считала, что «квадробика как вид спорта имеет множество положительных качеств – во время хождения на четвереньках и прыжков худеешь и укрепляются мышцы». Занималась квадробингом в компании двух подружек. Чаще всего это происходило либо в квартирах подружек, либо в общем дворе. Втроем разыгрывали сценки, в которых каждая «кошечка исполняла свою роль». Все действия снимали на видео и в дальнейшем выкладывали в социальные сети – нравилось, что видео набирали множество просмотров и лайков. Количество подписчиков канала Марины достигло одной тысячи человек. За время увлечения квадробингом попадала в трудную ситуацию, например, как-то на Марину и подружек в образе кошек во дворе напали девочки, представляющие субкультуру Эмо. Из-за подобного поведения в школе девочку подвергали буллингу, оскорбляли, смеялись над ней. После того как Марина узнала, что за квадробинг введено наказание, она приняла решение прекратить подобную деятельность. В это же время увлеклась корейскими аниме и косплеингом – перевоплощением в роли героев мультфильмов (фильмов), переодеванием в костюмы и в передаче характера, пластики тела и мимики любимых персонажей. В качестве объектов для подражания сначала был выбран Эн – мальчик-робот (из аниме «Дроны-убийцы») – добрый, благородный персонаж, помогающий окружаюшим людям. Затем его сменила девушка Рейни – придуманная Мариной девушка-квадробер с ушками на голове. В дальнейшем выбор пал на корейского «суицидального мальчика Ли Хуна».
Впервые обратились к психиатру в возрасте восьми лет в связи с жалобами на плохую память и внимание, была направлена к нейропсихологу, который посчитал, что у девочки «чисто психиатрические проблемы и что без приема лекарств занятий проводить не имеет смысла». Поводом для этого стало то, что на прием девочка пришла в ободке с кошачьими ушками на голове. После повторной консультации у психиатра было принято решение о том, что «никакой психофармакотерапии не требуется – подростковый возраст пройдет – и исчезнут проблемы». Однако, состояние Марины продолжало ухудшаться – она перестала справляться со школьной программой, еще более уединилась, перестала выходить из дома, участились эпизоды селфхарма, усилились размышления о «никчемности жизни». Состояние усугубилось после того, как она стала свидетелем падения мужчины с балкона. Вместе с другими свидетелями происшествия подошла к телу упавшего на землю человека и в испуге внимательно рассматривала все детали. Однажды сообщила матери о том, «почему это одному человеку выбрасываться из окна и умирать можно, а мне нельзя».
Была проведена консультация профессора-психиатра онлайн, во время которой Марина общаться не захотела и за спиной мамы прыгала, как кошка, с дивана на кресло. Было констатировано, что у девочки «приподнятый фон настроения, двигательно возбуждена, импульсивна, демонстративна. Речь смазанная, односложная, высказывания наивно-откровенные. Предпочитает быть в образе кошки, чем быть девочкой. Ассоциации конкретно-инфантильные». Выставлен диагноз: «шизоаффективное расстройство, синдром патологического фантазирования у ребенка с резидуально-органической церебральной недостаточностью» – и рекомендован прием арипипразола по 10 мг в сутки. Со слов мамы, впервые признаки «социофобии» у Марины проявились за полгода до обращения к психиатрам. Она начала бояться людей, избегать общения, выбирать уединение, в связи с чем практически не выходила из дома. Причину своего страха людей объяснить не может, хотя иногда сообщает, что люди на улице, в транспорте могут на нее «странно» смотреть («мужики таращатся», «некоторые прям смотрят, прям с улыбкой»). Поясняет, что, возможно, это связано с тем, что ее считают «ненормальной». С того же времени у Марины появилось желание нанести себе порезы для того, чтобы «снять стресс». Объясняет, что страдала от того, что у нее нет друзей, конфликты в школе и «социофобия». Порезы на руках, на животе, на ногах, на лице наносила острыми предметами. После таких действий «становилось легче на душе, забывались проблемы». Вначале совершала селфхарм почти каждый час, затем реже – каждый день, в последнее время прибегает к такому способу расслабиться не так часто. Использует «трекер вредных привычек» – методику, которой Марину обучил психолог («ради подарков готова по три-четыре дня не резаться»). Договоренность по трекеру соблюдает почти всегда, таким способом отучилась резать одну руку. Отмечает, что иногда удержаться от стремления нанести себе самопорезы «крайне трудно». За полгода несколько раз возникали «панические атаки», когда «начинало трясти, не могла усидеть на месте, глубоко дышала, появлялся страх смерти».
Психический статус. На прием зашла, робко озираясь по сторонам и оглядывая собравшихся врачей. Внешне выглядит смущенной, испуганной – взгляд опущен в пол, фигура сутулящаяся. Одета в одежду темного цвета, оверсайз. Волосы падают на лицо, прикрывают глаза. В контакт вначале вступает неохотно, утверждая, что у нее никаких психологических проблем нет и она ходит по врачам исключительно для успокоения мамы. В процессе беседы становится более раскованной, открытой и откровенной. Голос тихий, но хорошо модулированный. С самого начала просила не обсуждать вопрос квадробинга, поскольку, во-первых, это уже неактуально, а во-вторых, потому, что ее уже много раз об этом расспрашивали, и она все подробно рассказала. На руке имеются неглубокие порезы от нанесенных самоповреждений. На щеке наклеен пластырь телесного цвета («для красоты»). Стала так приклеивать пластырь в последние недели, подражая своему кумиру (идолу) Ли Хуну[2]. На вопрос о том, как ей бы хотелось, чтобы к ней в процессе обследования обращался психиатр, сообщила, что предпочтительнее именно Ли Хун, а не Марина. Однако, не стала на этом настаивать и спокойно реагировала, когда ее называли настоящим именем. Ассоциацию с Ли Хуном объясняет тем, что она похожа на него доминирующим настроением, мировоззрением и увлечениями – «суицидом похожа, он тоже любит оверсайз». Отзывается о Ли Хуне с восхищением («хороший, милый») и сочувствием, делая упор на его страданиях, одиночестве, на том, что он сирота, потерявший родителей. На вопрос о том, что ведь она сама не сирота, ее родители живы и ничего трагического в ее жизни не происходило, сообщает, что сопереживает таким, как Ли Хун, и хотела бы, чтобы и к ней так же относились окружающие. Обрадовалась, когда психиатр сообщил, что видел эту манхву и оценивает ее как психологически интересную, раскрывающую важную тему одиночества.
Марина сообщила, что ей нравится «косплеить» Ли Хуна, на скопленные ею самой деньги даже купила парик этого персонажа, приклеивает, как и он, пластырь себе на лицо и имитирует его поведение. Полностью отдает отчет, что она не является Ли Хуном, а лишь перевоплощается в него для того, чтобы почувствовать спокойствие на душе. Ее не смущает, что копирует она не девочку, а мальчика. Марина очень хотела бы, чтобы и ее подруга, которой она дала имя Юки, поучаствовала в этой игре. При этом понимает, что та бывает грубой, негативной по отношению к ней, вследствие чего никакие секреты свои ей не доверяет. Со слов мамы, у Юки свои психологические проблемы, но, учитывая, что других подруг у Марины нет, «ей приходится дружить с ней». Помимо этого, у Марины есть интернет-подруга из другого города, с которой она делится секретами, и ей бы очень хотелось, чтобы она была с ней рядом. Со слов мамы, та девочка «очень добрая» и «мило общается». Марина объясняет, что на данный момент отказывается от посещения всех школьных мероприятий, поскольку никто ее там не понимает и не принимает. Иногда общается с младшим братом, но в целом «ненавидит» и его («он все ломает, портит вещи», «родители больше любят его, больше внимания ему уделяют»). На вопрос о том, зачем она так много времени проводит на балконе и иногда ведет себя рискованно, например, садится на край, сообщила, что не боится упасть и ее это успокаивает.
Описывая свое «прошлое увлечение» квадробингом, говорит о том, что это была и игра, и занятие спортом. Никогда себя не ассоциировала с животными, понимала, что она девочка, и не хотела меняться. Осознавала, что окружающие воспринимали такое поведение как неадекватное, но ей нравилось так играть. Кроме того, нравилось, что к ней со стороны подписчиков странички в соцсетях приковано внимание. С некоторой досадой говорит о причинах прекращения занятиями квадробингом. Называет два основных – крайнее недовольство со стороны отца по причине того, что немало домашней мебели было сломано из-за ее «кошачьих прыжков», и страх наказания после принятия закона о запрете квадробинга.
Об отце активно не рассказывает, на вопросы о нем отвечает отрывчато, немногословно («с папой мы не общаемся», «я его боюсь», «он на меня кричал»). Мама подтверждает, что у них с Мариной произошел конфликт из-за увлечения квадробикой, когда папа «психовал», требовал снять маску с лица. В настоящее время они не разговаривают друг с другом.
Во время беседы Марина склонна спокойно обсуждать тему самоубийства, считая, что это вероятный вариант исхода ее жизни. На вопрос о том, что, если она верующая, то подобное поведение не является правильным, задумывается и соглашается, что «идеи о самоубийстве – это теория, и никаких действий я предпринимать в ближайшее время не собираюсь». Обсуждает эту тему с особой серьезностью, не проявляя страха и эпатажа, демонстрируя философское отношение. При этом сообщила, что, если выбирать, то лучше всего спрыгнуть «например, с шестнадцатого или с двенадцатого этажа», не уточнив, почему именно с них. Однако, потом добавляет, что любит сидеть на окне, но боится при этом выпасть из него. При вопросе о том, нужно ли что-то поменять в жизни, сказала, что «ничего менять не надо», подумав добавила, что можно «школу полностью убрать». При размышлениях об идеальной жизни сказала, что она не нужна, «и так нормально». А депрессия, спокойное и грустное состояние ей нравится, но причину этого объяснить не может. При вопросах об описании эмоций, чувств, причин поведения часто отвечает «не знаю», «вы все об этом спрашиваете, а я не понимаю».
Говорит, что, возможно, в будущем хочет стать психологом. Хочет закончить девятый класс, но сомневается в том, что это ей удастся («если я пойму, что у меня там хорошие оценки, у меня все получается, то я буду учиться; если нет, то не закончу»). При этом говорит, что может и «не дожить до окончания школы». При обсуждении столь деликантных тем не проявляет выраженных эмоциональных реакций тревоги, страха или оживления. В некотором смысле ориентируется на реакции собеседника. Интеллект соответствует возрасту, речь достаточно развита, словарный запас богатый. Галлюцинаторно-бредовой симптоматики не выявляется.
Психологическое обследование. В контакт вступает с необоснованным недоверием, в периоде адаптации проявляет себя немногословной, скрытной, особо напряженно-мрачной по настроению. Место предполагаемой в новой ситуации социальной тревоги, скорее, занимает пассивно-протестная или косвенная раздражительность, нередко становится фиксирована на отражающих ее собственный эмоциональный фон стимулах, отрывках диалога, проявляя более или менее нелепое, некритичное «смещение» на них мотивационной доминанты. Речь с отдельными механическими нарушениями произношения, связанными с индивидуальными особенностями строения челюсти. В эмоциональной экспрессии доминирует дисфорическое по окраске «выпячивание негативного» вместе с напряженной замкнутостью (в частности, как демонстрация реакции пресыщения или обостренной сенситивности). В первом же рисунке – своеобразное искажение образа вне полученной инструкции, которое вначале никак не поясняет, но в опросе, завершающем работу, говорит о нем с неприкрытым выражением уничижительной гетероагрессии (презрением, отвращением, насмешками) – «Я – дрон-убийца», «Это когда настроение настолько отвратительное, что охота наплевать на весь мир: глобуса не хватает [чтобы сделать это сейчас же]». В этом контексте обращает на себя особое внимание роботоподобный и как бы изуродованный образ человека на рисунке (частичное отсутствие конечностей, замена лица «нежизненной» частью).
Со слов присутствовавшей мамы, в последние полгода девочка «всегда в плохом настроении», тяжело переживает неудачи, высказывается о нежелании жить, «не любит, когда на нее смотрят» (реагирует агрессивно). В просьбах от родителей угадывается стремление к получению немедленного и непосредственного переживания удовольствия (как правило, от покупок, проведения времени «в телефоне»). В раннем развитии – «гиперактивность», манифестировавшая только с 4 лет и до школы компенсированная постоянными занятиями спортом, затем – нейропсихологической коррекцией.
В трактовках проективных картин РАТ аффективно фиксирована на «негативных» трактовках человеческих образов как источниках агрессии, предательства, чувства обиды. Так, о любых трех фигурах говорит «типичная дружба втроем», а о человеке, догоняющем другого, немедленно говорит «побить хочет» (также: «два идиота решили разбить себе голову»). По Методу Цветовых Выборов – реакция эмоциональной напряженности и неустойчивости фона настроения с вовлечением физиологических потребностей (как акцентированного стремления к отдыху и расслаблению), противоречие между тенденциями к спонтанности и самоконтролю, нетерпеливость, раздражительность, подавленное противодействие обстоятельствам, ощущение дискомфорта и приниженности вместе с оптимизмом, поисками социальной активности и признания без тягостной ответственности, упорство и требовательность в достижении своих целей, с уступчивостью ради сохранения связей, неудовлетворенное желание доброжелательных отношений и ощущение непонятости значимыми окружающими.
Внимание по пробе Шульте ближе к легкому снижению по концентрации и распределению: 58”, 59”, 1’16”, 1’13”; реакция на нагрузку в виде неустойчивости волевого усилия (в основном переход к «заторможенной» пассивности). Непосредственное запоминание по пробе «10 слов» в норме после короткого врабатывания, с небольшой неустойчивостью ретенции (5–9–8–10 слов из 10, отсроченно 8). Проба на опосредованное запоминание показывает адекватный или (чаще) акцентирующий субъективные переживания/протестность/сенситивность, эгоцентрический подбор образов (к понятию «болезнь» рисует указатель в две стороны: «туда – болезнь, свобода, а туда – мучение, школа», рисунок к понятию «богатство» – разбитое сердце: «Если что-то будет богатое, то оно еще больше будет агрессивное для меня… Богатое, оно наглое».) «Пиктограммы» неряшливо-схематические в отличие от выверенного индивидуально-значимого рисунка, с чередованием импульсивной гиперстении и тревожности (дублирование линий). Воспроизведение на уровне «низкой нормы» за счет многочисленных неточностей. Мышление в невысоком или замедленном темпе (общая когнитивная инертность), в вербально-логическом и конструктивном компонентах преимущественно типичные недочеты абстрагирования и пространственного синтеза (по «органическому» типу), продуктивность под постоянным и существенным влиянием эмоционально обостренных отказных реакций (вследствие пресыщения нагрузкой и тесным взаимодействием по поводу нее, либо фиксации на субъективно (аффективно) значимом). В классификации предметов показывает способность к объединению по существенному признаку, составляет группу «измерение», однако, иногда малокритично переходит к ситуативным («при болезни используются») или второстепенным конкретным (из-за чего слабо справляется с объединением групп – соединяет их как «стекляшки», «мучения»: связанные со школой), презрительно переворачивает карточки с людьми – «терпеть не могу», неоднократно подчеркнуто называет эту группу «идиоты». Скрытый смысл прочитанного рассказа («Галка и голуби») улавливает верно, но передает с утрированной эгоцентрической окраской («Не очень хорошо поступила – осталась без ничего»), дает демонстративно разрозненные оценки, подчеркивая собственные сиюминутные идеи – «Не надо наказывать бедную птицу!», «Не надо завидовать голубям!», на внешнюю стимуляцию к упорядочиванию ответа реагирует негативно («Мне лично пофиг»). В пробе «Простые аналогии» нуждается в корректирующих подсказках, так как не улавливает наиболее глубокие из заданных обобщающие межпонятийные связи. На Кубиках Коса конструирует с преодолеваемыми затруднениями синтетического восприятия усложненных образцов. Счетные навыки не нарушены: правильно решает в уме несложные арифметические примеры с неизвестными. Интеллект сохранный. В обследовании когнитивной сферы определяется негрубое неравномерное снижение когнитивных возможностей по «органическому» типу (в картине которого преобладают недостаточность функции внимания и снижение уровня обобщения и пространственного синтеза), при выраженной субъективно-эмоциональной обусловленности стиля и содержания когнитивной деятельности, возникающей в силу ситуативно интактных – дистимии, эмоционально-волевой неустойчивости, раздражительности, пресыщаемости, обостренной сенситивности, демонстративных тенденций, а также признаки эмоционально-мотивационной и волевой незрелости, что в совокупности может представлять собой предпосылки патохарактерологического направления развития.
Терапия. За время наблюдения психиатрами получала следующую психофармакотерпию: сертралин (до 100 мг в сутки), ламотриджин (до 50 мг в сутки), арипипразол (до 10 мг в сутки). Проходила психотерапию. Со слов мамы, эффективность незначительная и краткосрочная – оценивалась по частоте самоповреждений. По мнению Марины, она не нуждается ни в каком лечении и принимает лекарства исключительно для спокойствия мамы. При этом отмечает, что настроение на фоне лечения становится лучше, смягчается социофобия, становится более общительной, готовой выходить из дома.
Обсуждение
Представленный случай одиннадцатилетней Марины привлек наше внимание неоднозначностью психопатологической интерпретации наблюдавшегося феномена квадробинга и его трансформации в иную форму «игровой идентичности». Психиатрами, осматривавшими пациентку, в ее игровых перевоплощениях усматривалось патологическое (бредоподобное) фантазирование в рамках расстройств шизофренического спектра, а для купирования состояния назначались атипичные антипсихотики. Анализ случая позволяет по-иному квалифицировать поведенческие расстройства девочки. Дискуссионным является вопрос о том, имеются ли научные основания причислять ее игровую деятельность (квадробинг, косплеинг) к психопатологическому кругу явлений? Учитывая тот факт, что психосоциальная дезадаптация Марины была связана не только и не столько с квадробингом, значимым представляется также анализ связи игровой деятельности с психопатологическими симптомами. В клинической картине заболевания доминировали аффективные расстройства (эмоциональная лабильность, депрессивный фон настроения) в сочетании с суицидальными мыслями и намерениями, поведенческие нарушения в виде самоповреждений и импульсивности, а также личностные особенности (социофобия, мизонтропия). Помимо этого, в клинической картине обнаруживался редкий феномен флюктуирующей идентичности, синдром игрового перевоплощения и квадробинг.
Как показал анализ случая Марины, ее психическое состояние можно было охарактеризовать как соответствующее «формирующемуся пограничному расстройству личности (ПРЛ)». За этот диагноз говорили такие симптомы, как выраженная дисгармония в личностных позициях и поведении, включая возбудимость, сниженный контроль побуждений, склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой «участи быть покинутым», склонность вовлекаться в интенсивные, напряженные и нестабильные взаимоотношения, чередование крайностей (идеализации и обесценивания), импульсивность, рецидивирующее суицидальное поведение, угрозы самоубийства, акты самоповреждения, чувство опустошенности, выраженный гнев и трудности его контролировать, преходящие параноидные идеи или диссоциативные симптомы, а также нарушения идентичности: неустойчивость образа или чувства Я [10]. Из перечисленных критериев у Марины наблюдались практически все, что подтверждало диагноз формирующегося ПРЛ. Никаких признаков расстройств шизофренического спектра обнаружено не было.
Особое внимание в конкретном клиническом случае следует обратить на критерий «диффузной идентичности», признанный одним из основополагающих для пациентов с ПРЛ. Под феноменом диффузной идентичности (ДИ) понимается неустойчивость и неопределенность самооценки, восприятия человеком самого себя, которые переживаются как недостаток аутентичности и цельности истории собственной жизни, вызывающие существенные сложности адаптации человека в обществе [1, 8, 11, 12, 17, 19–21]. По мнению S. Akhtar [9], синдром диффузной идентичности включает в себя шесть клинических признаков: 1) противоречивые черты характера, 2) временная неоднородность личности, 3) отсутствие аутентичности, 4) чувство пустоты, 5) гендерная дисфория и 6) чрезмерный этнический и моральный релятивизм. Этот синдром чаще встречается в молодом возрасте, предполагает наличие тяжелой патологии характера и отличается от подросткового кризиса идентичности.
Квадробинг, вызвавший диагностические споры в случае Марины, относится к субкультуральным подростковым увлечениям, в рамках которых происходит специфическая социализация, социальная идентификация, актуализация для изменения себя, других и действительности, выход «за пределы себя» [4]. Нет никаких оснований причислять квадробинг к психопатологическим симптомам, поскольку, во-первых, он носит массовый (групповой) характер – психические расстройства, как правило, не появляются синхронно у десятков и сотен пациентов; во-вторых, за поведением квадроберов не просматривается ни бреда, ни галлюцинаций, ни обсессий, ни иных клинических симптомов. Квадроберы не утверждают, что превратились в животных, а лишь имитируют и подражают повадкам животных. Они, как в случае с зооантропией, не используют систему доказательств для того, чтобы убедить окружающих в том, что они не люди, а животные [13], и не отказываются жить в обществе.
Внешне сходное с квадробингом поведение описывается в психиатрии при бредовых формах фантазирования детей и подростков в рамках шизофрении, биполярного расстройства и др. [3, 5, 6, 13]. У обследованной нами девочки никаких признаков бредовых идей не наблюдалось, что позволяло утверждать, что квадробинг у нее не носил психопатологического характера.
Главной особенностью представленного клинического случая являлось то, что фабула увлечений не исчерпывалась квадробингом – он трансформировался у девочки в косплеинг героя корейского аниме. Обычно увлечение квадробингом является стойким и не обнаруживает тенденции переходить в другие формы имитационного игрового поведения. Можно предполагать, что это произошло у Марины по причине наличия ПРЛ и феномена диффузной идентичности. Выбор конкретного персонажа для подражания определялся доминирующим суицидальным мировоззрением и мизонтропией. Роль «суицидального мальчика» Ли Хуна позволила Марине отыграть в условиях косплеинга собственные эмоциональные и коммуникативные проблемы, дала возможность «найти родственную душу» в мультяшном герое. Косплеинг, как и квадробинг, нет оснований признавать психопатологией. Некоторые авторы утверждают, что «взгляд через призму теории личностных конструктов приводит к пониманию временности в построении идентичности и плюривокальности самонарративов» [14]. Считается, что игровая идентичность имеет положительное значение для людей, поскольку она представляет собой здоровое развитие большинства навыков и отношений, определяющих качество жизни, таких как разработка решений проблем, с которыми люди сталкиваются на протяжении всей своей жизни, установление социальных отношений и достижение идентичности [12, 16].
Таким образом, анализ клинического случая одиннадцатилетней Марины позволяет утверждать, что игровые перевоплощения в виде квадробинга и косплеинга, основанные на феномене диффузной идентичности, следует рассматривать не как проявления психопатологических симптомов в рамках каких-либо психических или поведенческих расстройств, а как психологический способ совладания (cooping) с трудностями социализации.
1. Банников Г. С., Кошкин К. С. Антивитальные переживания и аутоагрессивные формы поведения подростка с «диффузной идентичностью».//Психологическая наука и образование. 2013. Т. 5. № 1. https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2013_n1/59073
2. Дамулин И. В., Сиволап Ю. П. Ликантропия: психоневрологические и соматические аспекты.//Российский медицинский журнал. 2018. T. 24. № 1. C. 41, 44. DOIhttp://dx.doi.org/10.18821/0869–2106–2018–24–1-41–44
3. Иовчук Н. М., Северный А. А., Морозова Н. Б. Детская социальная психиатрия для непсихиатров. М.: Питер, 2006. 416 c.
4. Клейберг Ю. А. Квадроберы: ювенально-девиантологический дискурс.//Вопросы девиантологии. 2024. № 4 (28). С. 27–34.
5. Кравченко И. В., Макаров И. В. Патологическое фантазирование (аналитический обзор)//Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017. T. 17. № 1. С. 109–115.
6. Макаров И. В., Кравченко И. В. Клиническая типология синдрома фантазирования у детей и подростков.//Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2013. № 1. С. 56–62.
7. Менделевич В. Д. Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии. М.: Городец, 2016. 128 с.
8. Менделевич В. Д., Каток А. А., Митрофанов И. А. Диффузная идентичность как психологический и психопатологический феномен. Случай небинарной религиозной персоны.//Неврологический вестник. 2024. Т. 56. № 4. С. 341–354. DOI: https://doi.org/10.17816/nb640889
9. Akhtar S. The syndrome of identity diffusion.//Am J Psychiatry. 1984. Vol. 141 (11): Pp. 1381–1385. DOI: 10.1176/ajp.141.11.1381
10. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013. DOI:10.1176/appi.books.9780890425596
11. Basten Ch., Touyz S. W. Sense of Self: Its Place in Personality Disturbance, Psychopathology, and Normal Experience.//Review of General Psychology. 2019. Vol. 24 (2):108926801988088. DOI: 10.1177/1089268019880884
12. Breakwell G. M. Identity resilience: its origins in identity processes and its role in coping with threat.//Contemporary Social Science, 2021. Vol. 16 (5). Pp. 573–588. DOI: 10.1080/21582041.2021.199948
13. Garlipp P., Gödecke-Koch T., Dietrich D. E., Haltenhof H. Lycanthropy – psychopathological and psychodynamical aspects.//Acta Psychiatrica Scandinavica. 2004. Vol. 109 (1). Pp. 19–22. DOI:10.1046/j.1600–0447.2003.00243.x
14. Ghaempanah B., Khapova S. N. Identity play and the stories we live by.//Journal of Organizational Change Management. 2020. Vol. 33 (5). Pp. 683–695. DOI:10.1108/JOCM-07–2019–0238
15. Guessoum S. B., Benoit L., Minassian S., Mallet J., Moro M. R. Clinical Lycanthropy, Neurobiology, Culture: A Systematic Review.//Front Psychiatry. 2021. Vol. 11 (12):718101. DOI:10.3389/fpsyt.2021.718101
16. Gunes G. Personal play identity and the fundamental elements in its development process.//Curr Psychol. 2023. Vol. 42 (9). Pp. 7038–7048. DOI:10.1007/s12144–021–02058-y
17. Jorgensen C. R., Boye R. How Does It Feel to Have a Disturbed Identity? The Phenomenology of Identity Diffusion in Patients With Borderline Personality Disorder: A Qualitative Study.//J Pers Disord. 2022. Vol. 36 (1). Pp. 40–69. DOI:10.1521/pedi_2021_35_526
18. Puchyn V. Quadrobics: a new trend or a psychological problem? https://medplus.media/en/advices/childrens-health/quadrobics-a-new-trend-or-a-psychological-problem
19. Rivnyak A., Poharnok M., Peley B., Lang A. Identity Diffusion as the Organizing Principle of Borderline Personality Traits in Adolescents – A Non-clinical Study.//Front. Psychiatry. 2021. Vol. 12: 683288. DOI:10.3389/fpsyt.2021.683288
20. Sollberger D., Gremaud-Heitz D., Riemenschneider A. et al. Change in Identity Diffusion and Psychopathology in a Specialized Inpatient Treatment for Borderline Personality Disorder.//Clin Psychol Psychother. 2015. Vol. 22 (6). Pp. 559–69. DOI:10.1002/cpp.1915
21. Verschueren M., Claes L., Gandhi A., Luyckx K. Identity and psychopathology: Bridging developmental and clinical research.//Emerging Adulthood. 2020. Vol. 8 (5): Pp. 319–332. DOI: https://doi.org/10.1177/2167696819870021
Почти мунк[3]
Клинический случай Алсу Б., 21 года, привлек наше внимание тем, что за время наблюдения в ведущих российских и зарубежных клиниках девочке психиатрами выставлялось множество различных диагнозов – от соматоформного, ипохондрического и обсессивно-компульсивного расстройства до шизофреноформного, биполярного аффективного расстройства и параноидной шизофрении с эмоционально-волевым дефектом. На протяжении последних лет Алсу находится на первой группе инвалидности по психическому расстройству (шизофрении). Однако, патологической динамики ее психического состояния, как это бывает при шизофрении, не наблюдается, а оценка доминирующего психопатологического синдрома требует переосмысления.
Алсу Б., 21 год. При нынешнем обращении к врачам высказала просьбу назначить ей альфа-адреноблокаторы, «поскольку [ее] надпочечники вырабатывают много адреналина», и от этого у нее «не прекращаются приступы психического расстройства». Терапевт перенаправил пациентку к психиатру.
Анамнез жизни и болезни. Наследственность психическими расстройствами и генетическими заболеваниями не отягощена. Родилась в срок, единственный ребенок в семье. Папа и мама филологи, но мама в настоящее время не работает, поскольку ей приходится «ухаживать за больной дочерью», которая требует постоянно быть с ней рядом и неукоснительно выполнять выработанные ею ритуалы. Отношения в семье формально хорошие. Беременность у матери первая, желанная, протекала нормально (до беременности была резекция яичника). Роды естественные на сроке 39 недель. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов, при родах отмечалось обвитие пуповины вокруг ножки, после рождения была приложена к аппарату ИВЛ – во время прохождения родовых путей было затруднено дыхание. Масса тела при рождении 3200 г, рост 52 см. Из родильного дома были выписаны на пятый день. Первые три месяца Алсу была беспокойным ребенком, долго и пронзительно кричала. Первые слова появились в 18 месяцев. Детские дошкольные учреждения посещала с трех лет, недолго, так как часто болела простудными заболеваниями. Воспитанием занимались мама и бабушка. С пятилетнего возраста посещала музыкальную школу по классу фортепьяно. В свободное время любила снимать себя на камеру, перевоплощаться в корреспондента, пародировать популярных певиц, росла в атмосфере доброжелательности, любви, потакания ее капризам и потребностям. Во время прогулок на улице подружилась со своими сверстниками, охотно с ними общалась. «У меня не было хорошего отношения, любви к матери. Мне было, например, противно с ней обниматься с детства». С семи лет пошла в специализированную (английскую) школу. Адаптировалась не сразу. Со слов мамы, часто приходила домой испуганной, после того как учитель повышал голос. В начальной школе училась на «отлично», получала похвалы от учителей, делала успехи в освоении языков. Свободное от учебы время проводила под присмотром матери, была освобождена от выполнения простых повседневных обязанностей (мытье посуды, уборка постели). «Мама меня сильно опекала, до 7-го класса провожала в школу, так как во дворе бегали собаки и могли на меня напасть. Она мне всю жизнь посвятила, а от болезни не сберегла». В общении со сверстниками Алсу проявляла угодливость и любезность, с мамой вела себя бесцеремонно, упрекала и предъявляла разнообразные претензии. Помимо хорошей успеваемости в школе, награждалась дипломами на конкурсах, к примеру, за лучшие стихи. По оценкам учителей и членов конкурсных комиссий, стихи отличались глубиной и осмысленностью. Писала стихи на разных языках (русском, татарском, английском). Также участвовала в олимпиадах по литературе, занимала первые места («я тогда радовалась, я их «сделала», чувствовала себя лучше остальных». В музыкальной школе занимала первые места на конкурсах, считала, что не имела права быть хуже других, повышала планку – «мне это многого стоило, концерты – это стресс, боялась подвести и опозориться». Помимо фортепьяно, занималась пением, «но меня всегда ставили взад», «с 3-го класса обучения в музыкальной школе началась конкуренция, кого-то выделяли, меня обделяли, когда нужно было петь сложный дуэт, учитель говорила, что это не мой, я до сих пор этого не пережила, а в 8-м классе высказала все обиды в сообщении учителю, хотела вызвать чувство вины, учитель попросила прощения».
По характеру мама называла ее «перфекционисткой, яркой и энергичной». В детском возрасте отмечались некоторые незначительные навязчивости: хотелось крутиться по часовой стрелке, а потом против, поскольку было ощущение «как будто нитка вокруг запуталась». В шестилетнем возрасте навязчиво хотелось потрогать утюг: «а вдруг он горячий», «хотелось убедиться, что он остыл, чтобы мозги успокоились». Как-то потрогала оставшийся горячим утюг – появился волдырь на ладони. В 10-летнем возрасте стали появляться навязчивые мысли о том, что «когда смывается унитаз и слышен звук воды, этого нельзя слушать, чтобы не стошнило, в связи с этим при смывании закрывала руками уши». Кроме того, навязчиво считала буквы в названиях, эмблемах («пока мимо едем, если не успею посчитать, то что-то случится, могло вырвать, ощущала тошноту»). Появилось «паническое чувство тошноты по ночам, когда мама выключала свет». Вела себя «странно» – наклоняла голову вперед, моргала, открывала рот. С этого времени начала испытывать ненависть к маме и «ко всему миру», начала конфликтовать с мамой, был конфликт с отцом (побил в ответ на то, что Алсу обижала маму), после этого грубое поведение прошло. Посетила психолога, который не обнаружил у девочки никакой психической патологии. С 5-го класса школы появилась подруга, и на душе «стало легче», поскольку «раньше не хватало времени на друзей». Но отмечала, что внутренне ей с каждым годом становилось все хуже и хуже. Окончила музыкальную школу с красным дипломом. Появились «приступы чистоплотности» – хотелось, чтобы все лежало на своем месте, «если было грязно, доводила все до идеала, стол вытирала влажной салфеткой». Стала ощущать потребность в порядке («все должно было лежать ровно, бесили складки на штанах, все время поправляла хвостик (прическу)». По многу раз могла включать и выключать звук на телевизоре, необходимо было услышать слова «00 минут».
Во время поездки в Германию отравилась чаем, поднялась температура, появилась рвота, подумала, что чай кем-то был отравлен. На отдыхе в Турции перенесла ротавирусную инфекцию, был жидкий стул, субфебрилитет, испытывала выраженную тревогу, слабость, «было страшно болеть». Именно в Турции поняла, что необходимо плакать, чтобы снять напряжение, хоть недолго, но вместе с мамой. После выздоровления было тяжело посещать школу, в течение всего шестого класса пропускала школу «хотела спать, не было аппетита, сил, болело горло – часто ангиной с высокой температурой, жаловалась, что ей плохо: «папа был недоволен, так как учитель не верила, что я болею, но училась я хорошо из последних сил». Была осмотрена кардиологом, неврологом, эндокринологом, но соматические заболевания не выявлялись. Была назначена аминофенилмасляная кислота, после приема которой самочувствие улучшилось. С двенадцатилетнего возраста стала раздражительной, жаловалась на упадок сил, на болезненные ощущения в проекции грудины, была переведена на домашнее обучение. С этого времени появились приступы неадекватного поведения в виде пронзительного, громкого, длительного крика в моменты, когда ей что-то было необходимо от мамы. Сначала это происходило исключительно в ночное время. После крика ей нужно было обязательно проплакаться, и чтобы мама держала ее за руку. Стала реже выходить из дома, целые дени проводила за просмотром телевизора, высказывала многочисленные жалобы на свое «тяжелое состояние», «как будто ранена душа», открыто заявляла о нежелании жить. Еще большее ухудшение состояния наступило через год после выпускного вечера в музыкальной школе. «Было постоянно обидно, все плохо, сил не было, страх, боязнь смерти, а что будет, если я умру, казалось, что у меня рак, а вдруг рак, аппендицит или проблемы с желчным пузырем».
Впервые детским психиатром была осмотрена в возрасте 13 лет. Предъявляла жалобы на плохой сон, непреодолимое желание кричать по ночам, что сама называла «устроить ор», повышенной конфликтностью с родными и, особенно, с матерью. На приеме просила врача подсказать лучший способ суицида. По неотложным показаниям была госпитализирована в детское отделение психиатрической больницы, где находилась вместе с матерью в течение трех дней. При поступлении говорила о «желании громко плакать». Просила разрешения выйти из комнаты и покричать, поплакать, «потому что у меня вот здесь разрывается», – показывала на область грудной клетки. Была фиксирована на этом желании. В отделении была внешне опрятной, суетливой, совершала стереотипные движения руками, подкашливала, периодически заламывала руки, поднимала глаза вверх. От предложенных лекарственных назначений мама отказалась. Девочка умоляла ее выписать, говорила, что ей «безумно плохо… даже не представляете как! Вот тут в душе ужасно тяжело», «тут все у вас не так, домой мне надо, что вы меня мучаете». При этом могла резко повысить голос, сорваться на крик, крайне грубо вести себя с мамой, чего никогда не наблюдалось в отношении персонала. «Уже год как мне плохо, не знаю даже, вот тут в груди, что-то душу давит, и ночью кричу, потому что мне так плохо». В течение дня не отпускала маму от себя. За время госпитализации принимала бензодиазепины, антипсихотики. Была выписана с диагнозом: психастенический невроз со смешанной соматоформной (в виде дисфункции вегетативной нервной системы) и ипохондрической симптоматикой в рамках патохарактерологического развития личности с истероидными чертами. После этого амбулаторно посещала психиатра, принимала сульпирид и милнаципран.
После выписки посчитала отца предателем, который положил ее в психиатрическую больницу, и требовала, чтобы он ушел от них с мамой. Родители приняли решение поселить ее с мамой отдельно от отца на съемном коттедже. Психическое состояние, несмотря на переезд, не стабилизировалось, вследствие чего родители приняли решение о госпитализации в частную психиатрическую клинику. В стационаре кричала пять дней подряд «нечеловеческим голосом», потому что ей нужно было делать ритуалы и плакать, а мамы рядом не было. Была переведена на дневной стационар, принимала рисперидон, хлорпротиксен, депакин. Говорила, что ей очень плохо, что ей мысли постоянно что-то приказывают. Затем повторно была госпитализирована в ту же клинику. Получала галоперидол, бензадиазепины, клопиксол, что, по ее мнению, привело только к усилению «ора». Через месяц после приема трифлуоперазина «началась страшная агрессия», и препарат был заменен на амисульприд. На первой же неделе исчезла агрессия, появилось желание встречаться с подругами, гулять, но «плач и другие ритуалы не прошли». Начала с удовольствием ходить в школу на индивидуальные встречи с учителями. Все это время жила с матерью в съемном коттедже, но соседи жаловались на крики и грозились выселить их через суд. Ухудшение наступило неожиданно без каких-либо внешних причин, и как-то она подралась с мамой. Со слов матери, «ребенка как подменили: бесконечные крики, агрессия, поднимала на меня руку, говорила, что боится наглотаться таблеток».
Через полгода была в очередной раз госпитализирована в психиатрический стационар, где находилась в течение двух месяцев с диагнозом: шизофрения, детский тип, непрерывное течение, параноидная форма, галлюцинаторно-бредовый синдром с компульсивными расстройствами, выраженный эмоционально-волевой дефект. В стационар была направлена участковым психиатром, на приеме у которого говорила, что в голове у нее «сидят твари, которые мысленно приказывают «совершать дурные поступки (ударить бабушку, броситься под поезд) и которым [она] сопротивляется и не делает то, что они ей указывают». В приемном покое кричала в полный голос, била себя кулаками по голове, убегала в другую комнату, звонила отцу и просила «ее спасти». В отделении жаловалась лечащему врачу на постоянное «чувство расширения в груди непонятной энергии» с чувством желания кричать и шуметь, плакать и бить грушу или мать, ощущение в голове мыслей, что с ней что-то плохое произойдет, если не будет кричать или плакать, что у нее мысли подсказывающие, что надо что-либо сделать с собой, матерью, что они ей угрожают. Пришла к выводу, что ей подсказали чужие мысли, что надо громко кричать, плакать, чтобы «не разорваться», затем появилось непреодолимое желание кричать, драться, плакать. Мысли, подсказывающие неприятности, приходили все чаще и чаще. За время госпитализации получала клозапин, галоперидол, хлорпромазин, димедрол, пипофезин, карбамазепин, бензодиазепины.
Школьная характеристика на Алсу Б., ученицу 9-го класса. На протяжении всего периода обучения учебные предметы осваивала хорошо. Была покладиста, дисциплинированна, спокойна, доброжелательна. Однако, начиная с 7-го класса, отмечалось ухудшение успеваемости по многим дисциплинам. Многие учителя стали отмечать быструю утомляемость, неумение концентрироваться на поставленных задачах. Алсу тяжело давались точные науки, появились проблемы с математикой, физикой, химией. Что касается гуманитарных предметов, то здесь наблюдались проблемы с запоминанием учебного материала. Общественная активность стала недостаточно высокой, хотя Алсу проявила себя как неплохой исполнитель, охотно выполняла поручения, но лидерские позиции в классе не занимала. Она стала более замкнутой, ни с кем не имела тесных дружеских отношений.
Третья госпитализация с диагнозом шизофрения, детский тип, непрерывный тип течения, галлюцинаторно-бредовый синдром была осуществлена скорой помощью. Ухудшение случилось в течение недели, когда на фоне поддерживающей терапии (оланзапин, амисульприд, галоперидол) стала напряженной, конфликтовала с матерью, начала кричать, избивать мать, нарушился сон, появилось ощущение, что ее непонятные силы разрывают на части. В отделении жаловалась на плохой сон, желание кричать и плакать, драться. В беседе вскакивала с места, начинала кричать по 5–6 минут, громко выть, а затем вскакивала с места и начинала прыгать до сотрясения пола. Уговорам не поддавалась, говорила, что «непонятная сила разрывает [ее] на части, что надо кричать и плакать, прыгать». В отделении говорила «я хочу плакать и кричать, но для этого мне нужна мама, я хочу, чтобы мама была при мне», жаловалась на ощущение в голове «своих и чужих мыслей», воспринимаемых ею как «голос», но без звучания. Именно эти мысли приказывали шуметь, кричать, драться, «иногда хочется умереть, броситься под поезд в метро или под машину, меня переполняет энергия, разрывает на части, мне лекарства не помогают». В отделении получала диазепам, хлорпромазин, димедрол, галоперидол, трифлуоперазин, кветиапин, депакин хроно, клозапин. После выписки был рекомендован клозапин, трифлуоперазин и анафранил.
Характеристика Алсу со слов отца. До острой фазы болезни дочь отличалась добротой и справедливостью в отношениях с родителями, родственниками, друзьями. После начала болезни, особенно в период приступов, вела себя крайне вызывающе и агрессивно. Исключения составляли краткие периоды между приступами – во время общения с друзьями она была совершенно нормальной, также старалась сдерживаться со старшими родственниками, осознавая, что орать до хрипоты в их присутствии некультурно. Но, как только друзья уходили, отрывалась в реве по полной, сотрясая стены и пять квартир соседей вокруг. В спокойные моменты с удовольствием смотрела музыкальные передачи, особенно «Голос», мечтала выступить в этом конкурсе. Очень сожалела, что в музыкальной школе преподаватели, по объективным причинам, не давали развить ей сольную карьеру. Особо отец отметил, что чувство юмора у Алсу было абсолютно адекватным. С какого-то времени у Алсу появилось множество ритуалов. Особенно частым был и остается ритуал прощания с мамой, даже когда та просто уходила в магазин на несколько минут. Надо было несколько раз сказать «пока», причем разными громкостями голоса, синхронно и т. д. Иногда фантазировала, представляла себя «Песиком» и просила общаться с ней соответствующим образом. И причиной начала «ора» нередко являлось то, что ее («Песика») ругает хозяйка за то, что «он погрыз ее тапочки или, в особенно плохом настроении, ей («Песику») отрезали ушки». Все это давало основание для начала ее приступа. Время от времени наступал эффект привыкания. Уже такого чувства «обиды» не было, и она фантазировала новые «плакательные» образы и ситуации. С учителями и незнакомыми вела себя нормально, сообразно возрасту и ситуации. В месяцы, предшествовавшие последнему обращению к психиатрам за консультацией, у Алсу примерно каждые два часа случались приступы агрессии в отношении близких, в основном мамы. Она выискивала причину или даже без причины начинала унижать маму, издеваться над ней, орать, колотить мебель и, таким образом, заводя себя, достигала эмоционального пика. Если в этот момент ее начинали воспитывать и указывать на недопустимость подобного отношения к близким, Алсу могла наброситься на обидчика с кулаками. Предупреждения о возможных правовых последствиях нападения на маму вызывали у нее еще большую агрессию. После достижения эмоционального пика (добившись, чтобы ее унижения «проглотили») она переходила на рыдания, просила, чтобы мы ее в это время жалели, и у нее на некоторое время наступало облегчение. Жалеть в ее понимании значит простить за причиненные только что оскорбления. Алсу отказывается что-либо делать по дому и обслуживать себя. Мама выступает ее неотступной служанкой. Она ищет любой повод начать конфликт, такая потребность в моральном садизме, но только в отношении близкого человека, так как знает, что никто другой это терпеть не сможет и даст сдачи. Поскольку приступы агрессии случаются практически каждые 2–3 часа во время бодрствования, я предположил, что ей не хватает каких-либо гормонов, и она, таким образом, сама нагоняет себе в кровь адреналин или «сжигает» его таким образом. Мы обратились к врачу, которая является одновременно психиатром и эндокринологом, который не обнаружил у дочери гормональных отклонений и сказал, что не видит у нее шизофрении, а обнаруживает биполярное аффективное расстройство. В связи с этим были назначены стабилизаторы настроения и антипсихотики (ламотриджин, кветиапин, сертиндол). На фоне новой схемы терапии приступы агрессии стали менее выраженными. Алсу человек творческий, пишет музыку и стихи, сама записывает свои песни на студии, учится в музколледже неплохо.
В самом начале болезни родные обращались к методам нетрадиционной медицины – «вытаскивали сущность». Алсу полюбила женщину-кинезиолога, которая «высвобождала стресс через точки». Алсу симпатизировала ей, почувствовала себя неодинокой, «привязалась к человеку, даже обнималась с ней, сообщив, что хотела бы залезть в нее» (объясняла свою фразу тем, что с ней ей было комфортно, поэтому хотела быть полностью в ней). Но поведение кинезиолога как-то резко изменилось – она перестала брать трубку телефона, отказалась от дальнейших сеансов. Выяснилось, что у этой женщины умерла собака, и она горевала из-за этого, но Алсу посчитала, что именно ее сущность, вселившаяся в кинезиолога, убила здоровое животное. После этого психическое состояние в очередной раз ухудшилось – «Алсу была как в тумане, странно себя вела, орала во дворе школы, ничего не понимала, мозги отключились». В дальнейшем пробовали и другие способы нетрадиционной медицины – «ходили по бабкам, которые читали заклинания». Сторонники нетрадиционной медицины говорили, что у нее неправильно работают надпочечники. Стала думать, что ее поведение связано с обменом адреналина, читала специальную литературу, решила, что ей необходимы альфа-адреноблокаторы. На прием в медицинский центр пришла именно с этой просьбой – выписать соответствующий лекарственный препарат. Самостоятельно отменила арипипразол, участкового психиатра не посещала, схема лечения не менялась длительное время.
В возрасте 18 лет Алсу была консультирована в Женеве доктором М. Ардамондо. Было отмечено, что при обследовании обнаружены марфаноидные признаки, экстрапирамидные симптомы (акатизия, ригидность мышц, затруднение глотания, тремор), причиной которых, видимо, стала высокая доза препаратов-нейролептиков. Алсу выглядит моложе своего возраста, опрятна. Во время беседы ведет себя сдержанно, отстраненно, контакт с собеседником поддерживает слабо. Способность ориентироваться в пространстве и времени сохраняется, однако наблюдается повышенная отвлекаемость. Во время беседы демонстрирует ритуально-импульсивное поведение, неоднократно сообщает о желании кричать, которое связывает с навязчивыми идеями («что-то плохое может случиться, если я не закричу»), но себя сдерживает. Наблюдается общее психомоторное замедление, сниженная двигательная активность. Жесты и походка замедлены. Мимика выражена слабо. Речь относительно дезорганизована. Часто путается в теме беседы, демонстрирует бедность ассоциаций, теряет нить разговора. В целом наблюдается отсталость речи и бедность мышления (подтверждается переводчиком). Алсу отрицает наличие бредовых идей, а также изменения восприятия реальности. Наблюдается эмоциональная неадекватность и некоторая тенденция к эмоциональной индифферентности. Эта тенденция снижается в присутствии матери, когда настроение у Алсу становится дисфоричным, особенно на фоне фрустрации. Симптомов депрессии, суицидальных наклонностей не наблюдается. Осознание болезни частичное. Диагноз: обсессивно-компульсивное расстройство с проблемами сознания (F42), сопровождающееся шизофреноформным расстройством без признаков хорошего прогноза в ремиссии (F 20.81). На когнитивном уровне у ребенка наблюдается существенная слабость, что требует полной когнитивной оценки на ее родном языке (без переводчика). Сложность клинической картины связана с множеством соматических компонентов, что дает основание думать о вероятности наличия генетических или метаболических нарушений. С матерью ребенка была обговорена необходимость консультации у следующих специалистов: генетика, гинеколога, невролога, эндокринолога. Также обсуждена необходимость госпитализации для постепенного выведения текущих лекарств и постепенное назначение арипипразола. После оценки эффективности может быть добавлен второй препарат (СИОЗС или стабилизатор настроения). Ребенок может быть госпитализирован в России или в Швейцарии (по желанию родителей). Также рекомендуется начать когнитивно-поведенческую терапию Алсу, а также психообразование родителей. Была подобрана схема лечения – арипипразол, левомепромазин, бипериден. Предложенную схему Алсу отменила самостоятельно, ссылаясь на возникшие проблемы с глотанием таблеток («я перестала глотать, нужно было, чтобы кто-то сжал руку»). По приезду в Россию Алсу была оформлена вторая, а затем первая группа инвалидности по психическому заболеванию бессрочно.
Несмотря на самостоятельную отмену препаратов, психическое состояние Алсу существенно улучшилось – она смогла окончить школу (посредственно) и поступить в музыкальный колледж. Училась на «отлично» на отделении сольного народного пения. В колледже подружилась с одной из учениц, которая помогала ей в ситуациях, когда ей «сильно хотелось есть, но не получалось из-за проблем с глотанием». В это время подруга брала ее за руку, и все удавалось. Стала посещать групповые занятия йогой. Родные отмечали, что при посторонних людях вела себя правильно, «нам никто не верит, что она болела». В тот же период Алсу стала говорить о необходимости снятия диагноза.
Из соматического анамнеза. Аллергический анамнез на лекарственные препараты не отягощен. Туберкулез, ВИЧ, гепатит, кож. – вен. заболевания, ЧМТ отрицает. Операции: отрицает. Гемотрансфузии отрицает. Снохождение, сноговорение, судороги отрицает. Перенесенные заболевания: инфекция мочевыводящих путей. Диспепсия. Миокардиодистрофия. Синусовая тахикардия. Анемия легкой степени. Половой инфантилизм. Задержка полового развития. Менструации с 17 лет, по 7 дней болезненные, регулярные. Половой жизнью не живет. Употребление алкоголя, ПАВ отрицает.
Невролог. Очаговой неврологической патологии не выявлено.
ЭЭГ. Выявляются легкие изменения биоэлектрической активности головного мозга в виде дезорганизации основного ритма. Региональные изменения отсутствуют. При проведении функциональных проб регистрировались короткие вспышки полиморфной активности, без эпилептоидных изменений. Эпилептиформная активность на момент записи не зарегистрирована.
Психический статус. Внешне опрятна, за своим внешним видом следит, волосы аккуратно собраны в хвостик, в беседе его поправляет, ногти аккуратно подстрижены. При обсуждении эмоционально значимых для нее тем обильно жестикулирует, ерзает на стуле, перебивает врача. Улыбчива, учтива. Зрительный контакт достаточный. Фиксирована на проявлениях своей болезни, особенно на ритуалах, которые вынуждена выполнять вместе с мамой. При этом считает, что ритуалы связаны с деятельностью надпочечников, хотя и не настаивает на этом. Критична к ритуалам (крику и некоторым иным), понимает, что это признаки психической патологии. Отмечает цикличность изменения состояния («крик, слезы, рыдания, потом успокаиваюсь», «на учебе я себя так не веду, я контролирую крики, редко могу выбежать с учебы, отпроситься», «мне кажется, что что-то вырабатывается, накапливается, адреналин вызывает крики, слезы», «раньше было, как будто мне кто-то приказывает, что-то сидит в голове, например, броситься под метро, чувствовала тягу что-то сделать»).
Систематизирует имеющиеся ритуалы:
• ритуал, когда необходимо три раза вымыть лицо, поскольку это отражает определенную схему по умыванию (если что-то не сделала, будет нехорошо).
• ритуал, связанный с процессом глотания, – необходимо держать руку мамы или папы, чтобы проглотить пищу, причем строго определенным образом надавливая на руку. Необходимо хлопнуть, повернуться спиной и сказать: «Алла», тогда маме нужно встать. Иногда ритуал должен меняться: «когда я ем, мама мне должна пожелать приятного аппетита (определенным образом), тогда я должна сесть ровно, руки держать перед собой и начинать говорить «бляха», мама в ответ как можно быстрее должна ответить: «муха».
• ритуал – произносить «матное» слово, на которое мама должна обязательно ответить.
• вечером перед сном ритуал причесывания – необходимо сначала выкинуть расческу, лечь посередине кровати и спросить у мамы «ровно»? На это она должна ответить «ровно», затем «давай» – мама отвечает «давай» и должна укрыть Алсу одеялом, мама обязана проверить рукой, ровно ли и посередине ли лежит одеяло, далее мама специальным способом должна подогнуть одеяло («уголочек к уголку»). Бывают дни, когда приходится выполнять этот ритуал по три раза, заново переделывать, если что-то идет не по заведенному плану.
• ритуал «Песик» проявляется в том, что, когда Алсу просит называть ее «Песиком», ей становится очень жалко себя, и она требует пожалеть ее. Мама должна выполнить все требования «игры». Иногда возникают «фантазии», что Песика усыпили, избили, тогда слезы не идут без истерики».
• ритуал драки с папой после того, как они «друг друга доведут», он говорит, «что ты над мамой издеваешься», Алсу становится бешеной, потом рыдает, устаивает драку с папой.
• ритуал, связанный с одеждой, – дома необходимо сидеть только в футболке без трусов, на диване лежать голой в одеяле, так как бесит одежда.
• ритуал «Приятного аппетита» (3–4 раза в день, перед каждым приемом пищи). Надо сказать маме: «Сядь! Сядь!» (мама не двигается, застывает), потом Алсу должна сесть на стул рядом, поправить одежду (чтобы все было ровно, не бесило), поднять «лапы как собака» (маме разрешается двигаться). Затем Алсу начинает дирижировать, а мама моментально должна сказать: «Приятного аппетита», а затем слова: «очень – очень – очень… приятного аппетита – тита – тита…» (на затихание), затем мама должна держать руку, не задавая никаких вопросов, а потом сказать: «Молодец, товарищ Песик, умничка!» На это Алсу должна корчить рожицы, показывая высоту звука. Если мама вдруг что-то делает неправильно, приходится бить ее плеткой, которая всегда лежит рядом наготове.
На вопрос о том, действительно ли она считает себя «Песиком», Алсу с ухмылкой отвечает, что, конечно же, нет – просто она играет в эту игру. Убеждена, что мать должна полностью ей подчиняться и выполнять все требования. «Я спасаюсь ругательствами на маму, но без нее как без воды, усталость вызывает агрессию, потом пореву, ей нужно, чтоб мне легче стало, она воспринимает это легко». «Моя обсессия в том, что я беру тряпку, штаны и, если что не так расходится с ритуалом, шлепну маму, и мне становится легче, если я этому сопротивляюсь, будет хуже, болезнь сильнее меня, я ее хватаю, швыряю на диван, я жду, что будет дальше, своей участи, когда мама умрет или перестанет терпеть». «Я не контролирую эти состояния, ритуалы возникают помимо моей воли, ритуал – это жизнь». «Сравнить их не с чем – слезы, рыдаешь звуками, эмоции, все выходит, у меня физическая потребность, потом облегчение, вздох, ложусь на 15 минут, и норма, все пофиг, уносятся тревожные мысли, теряю силу, но ненадолго».
«Я теперь полностью уверена, что ОКР нужно убирать, что оно сильно прогрессирует, вся жизнь сплошной ритуал, не могу сейчас пользоваться телефоном, оставляет в мозгу всякую хрень, на телефоне пишу смс, и палец держу на «отправлении», на новом телефоне это сильнее, прихожу домой, прошу маму спрятать телефон, ухожу, прошу выдать, смс про то, что нельзя написать учителю, мысли: я этого не сделаю, сердце колотится, руки потеют». «Самое актуальное пользоваться телефоном – с ним все нужно правильно сделать. Ритуал с ноутбуком: не так кнопку нажму – и все заново нужно сделать, если правильно сделала, сразу все забыла, если думаю, значит, неправильно сделала».
Подробно описывает состояние, когда беспричинно появляются мучительные ощущения, цикл ярость – гнев – агрессия, но «всегда по-разному». Сами мучительные ощущения сопровождаются чувством тоски, мысли о будущем, о прошлом, и срочно «нужно выплеснуть эмоции», «чувства здесь первичны», «мысли меня жрут, вплоть до суицидальных мыслей, это копилось много лет, под вечер накапливаются, под вечер сильно плохо».
Критика к своему поведению по отношению к матери двойственная – убеждена, что мать должна неукоснительно выполнять ее требования, но при этом понимает, что мучает ее этим, и боится потерять. Оживляется, когда речь заходит о ее увлечениях. В частности, с удовольствием позволила включить студийную запись ее музыкальной композиции и с благодарностью приняла комплименты. В месте, времени и в собственной личности ориентирована верно. Мышление в обычном темпе без признаков нарушений. Бредовых идей и обманов восприятия не обнаруживается. Суицидальных мыслей нет.
Заключение психолога. В беседе и при выполнении тестовых заданий в коммуникацию и рабочее взаимодействие вступает на достаточном уровне. Во время первой встречи сначала была несколько насторожена, не зная, чем может обернуться для нее встреча с психологом, была скованна. В дальнейшем с готовностью откликалась на заинтересованность собеседника в прояснении фактического положения дел, отвечая на вопросы, предпочитала достаточно прямой ответ, а если затруднялась – старалась подобрать более точное описание. О чем-то рассказывала инициативно, что-то комментировала. В начале встреч и в некоторых ситуациях после врабатывания подчеркнуто демонстрировала свое тревожно-напряженное отношение к тестированию или отдельным заданиям, прямо связывая его с опасением разочарований из-за возможных неудач в стремлении быть успешной. В поведении, в целом, была корректна, вполне устойчиво следовала общепринятым социально-одобряемым нормам. В одной из ситуаций, комментируя некоторые формы своих реакций в поведении, интонациях и мимике, говорила, что ее устраивает, когда к ней относятся как к ребенку. На вопрос о причинах такой оценки отвечала доброжелательно и просто: «Так удобно». При длительных функциональных нагрузках, в целом, была терпелива и достаточно вынослива; сообщая об усталости, она при необходимости вновь собирала ресурсы для выполнения новой задачи. В межличностных отношениях в ходе тестирования, преимущественно, была доброжелательна. В коммуникативной мимике преобладал малоамплитудный фон с подвижной малой мимикой и микромимикой, которые, практически, всегда оставались подвижными, соответствующими контексту взаимодействия и эмоционально-личностным откликам на возникавшую ситуацию или на свои намерения, побуждения, притязания, ожидания и связанные с ними оценки. Инструкции к тестовым заданиям понимала и усваивала на уровне нормы; удерживала на достаточном уровне с редкими эпизодами легкой неустойчивости и элементами практичного упрощения. Вероятно, эти явления частично были связаны с легкой неравномерностью уровня и направленности ее активности (так, при опасении потерпеть неудачу она становилась более напряженной и несколько зажатой, а в попытках преодолеть эти перемены и свое отвлечение на них – более энергичной и резкой до короткой «финишной» взрывчатости). Работала в достаточном темпе.
