Отражения: Кровь на стекле
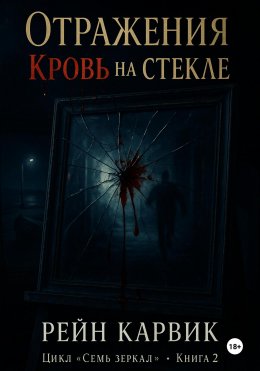
Глава 1
Утро пришло в порт без солнца, но с чёткой линией горизонта, как лезвие под припухшим веком. Ветреная Бухта всегда так встречала воскресенье – будто море, отработав ночную смену, не хотело разговаривать, только дышало глубоко и ровно. Накануне на стол Елены лёг конверт с осколком и прямой фразой: «ОСТАЛОСЬ ЧЕТЫРЕ». Ночь она проспала как человек, который держал в ладони холодный металл и не решился разжать пальцы. Утром телефон взвился двумя короткими – Климов: «Порт. Лодка. Без тела». И все мысли, что ещё пытались устроиться в слово «отпуск», исчезли.
Причал тянулся вдоль набережной, оседая зелёным мхом на сваях. Сеть мокрых следов указывала, где прошли рыбаки, где задержались, где разошлись. За спиной булькал дизель «Емели», единственного траулера, который ночью выходил в бухту, и кто-то из матросов ругался на вполголоса – ругался не на людей, на холод. Елена шла между ящиков для ставриды, не касаясь их плечом – чтобы не забрать на пиджак чужой запах. Серов ждал у крайней тумбы, сутулясь, чтобы ветер не выдувал из ушей жар. Шапка была надвинута на глаза, телефон – в руке, но он не снимал: в такие минуты экран – как случайное отражение, лучше его гасить.
– Там, – сказал он, кивнув в сторону гулко стучащей о борт лодки. – «Авдотья». Прибило к камню. Внутри кровь. Много. Тела нет.
Лодка была маленькой, с облупленной зелёной краской и буквами названия, от которых остались «ВД…Я». На носу – спутанный канат. На сиденье – тёмный, почти чёрный след, обведённый беловатой каймой соли, как если бы кровь успела сначала высохнуть, а потом её корка набрала в себя туман. Елена склонилась, опираясь ладонью в холодный борт, и подумала, что море никогда не отдаёт быстро. Даже если берёт всего на один вздох – оно умеет держать.
– Кто вызвал? – спросила, не отрывая взгляда от сгустков.
– Сторож с «Маяка», – ответил Серов. – Говорит, в четыре сорок пять заметил, что шварт не на месте, а лодка пляшет. Подошёл – пусто. Позвонил в часть. Климов уже людей поднимает.
По настилу приближались двое в резиновых сапогах. Один – дежурный с порта, усы в разводах соли. Второй – парень лет двадцати, из тех, кому ещё интересно смотреть. Он шёл осторожно, как будто боялся наступить на чужую историю.
– Я – Павлик, – представился второй, когда Серов кивнул. – Я тут… помогаю. Ночью, если надо.
– Что видел, Павлик? – спросила Елена.
Он пожал плечами, но не растерялся.
– Поздно уже было. Часов в два. Я стоял вот здесь, – он показал на лавку между двумя тумбами, – курил. Я видел… – он нахмурился, вспоминая, – человека. У воды. Просто стоял, смотрел на волны, как в зеркало. Без шуток. Прямо – как загипнотизированный. Протянул руку – как будто хочет потрогать. Только не дотронулся. Потом – ушёл. Я подумал… ну, мало ли. А в четыре вышел сторож – уже лодка.
Елена перевела взгляд на лавку. На тёмной древесине, вблизи самого края, где соль белит волокна, отпечатался след ладони. Рельефный, как печать. Пальцы длинные, без грубых мозолей; по крайней мере так показалось. Она подняла телефон, сбросила свет экрана и только сфотографировала – два кадра, с линейкой и без. Серов молча поставил рядом пачку сигарет – как ориентир масштаба, и Елена едва заметно поблагодарила взглядом.
– Фигура? – спросила она у Павлика.
– Высокий, – ответил тот. – Плащ какой-то. Или пальто. И – шапка. Я не стал подходить. Мало ли. Ночью все кажутся не теми.
Ветер шевелил полосы тумана, как занавесы. На штормовой полосе ближе к выходу из бухты белели хребты зыби. Елена присела на корточки у борта лодки. На дне, между двумя досками, поблёскивал что-то неровный кусочек. Она надела перчатки, взяла пинцет. Осколок вышел из щели неохотно, словно прилип к дереву. На ладони лежало стекло – грань блеснула тёмно-серебряной полосой.
– Опять амальгама, – тихо сказала она.
Серов кивнул, слишком быстро – он понял и без слов.
– Дно лодки – влажное, – добавила Елена. – Но осколок сухой. Значит, попал позже, когда вода уже стекла.
– Или из кармана того, кто стоял у воды, – подсказал Серов.
– Или из кармана того, кто уже не стоит, – отрезала Елена и, не поднимаясь, посмотрела вдоль причала. – Кто из ваших видел лодку последний раз вчера?
– Дежурный, – откликнулся усач. – В девять вечера все были на местах. «Авдотью» привёл Кудрин весной. Ходовая – хлам, но по бухте – терпит. Теперь вот… – он не договорил.
Имя отозвалось внутри как камешек о стекло. Кудрин – рыбака уже унесли родители и бабы, говор подворотен скоро превратит его в «сам виноват». А лодка осталась – как пустая раковина, из которой вынули моллюска.
Елена поднялась, спрятала осколок в пакет, сделала заметку на полях блокнота: «Порт. Осколок – тип «старый», грань гладкая. След руки на соли на лавке». Рядом – стрелка: «водоросль?». Возле носа «Авдотьи» висела тонкая нить зелени – не из порта, не из тех, что берут на свайных оголовках. Это был тёмный, почти бурый баффур – характерный для отмели под «Сосновым Мысом». Лида научила её не доверять собственной уверенности, но этот оттенок Елена уже научилась узнавать.
– Климов! – позвала она, и он подошёл, отирая ладони о куртку. – Сняли на пробу водоросль? Вот эту, под носом. И с лавки – соль под отпечатком, аккуратно срезать верхний слой. И – след с доски, пудрой, но не жёстко – влажно.
Климов кивнул, не задавая лишних вопросов. Он уже понимал: в этой истории пыль – не только на полках.
(Курсив: неизвестный наблюдатель стоял на дальнем пирсе, где доски скрипят иначе, потому что лежат чуть косо. Он видел, как она присела, как подняла стекло, как спрятала его в пакет. Он не видел её лица – ветер прятал свет. Он провёл пальцем по поручню, оставив линию в соли. Внутри него всё было ровно – как вода, когда на неё долго смотрят. «Осталось четыре», – напомнил он себе и удивился, что цифры могут греть.)
Серов присел рядом с Еленой.
– Тут на углу сарая, граффити, – сказал он, не поднимая голоса. – Не местные красят – у наших такого шрифта нет. Пойдём?
Они обошли причал, миновали горку сетей, пахнущих тухлой рыбой и железом, и вышли к низкой кирпичной стене, которую вечно подмывало. Серов провёл рукой, убирая со стены тонкую плёнку соли. Под ней проступило свежо: «ОСТАЛОСЬ ТРИ». Краска была чёрной, густой, мазки уверенные. А ещё – линия была нарочно неровной, как если бы художник рисовал в перчатке. Елена сжала губы: шрифт был тот же, что на её бумажке, только крупнее, как крик, переведённый в буквы.
– Играет, – сказал Серов.
– Считает, – ответила она. – И показывает счёт нам. Специально.
Она достала камеру, сняла фрагмент стены с общим планом и с крупным – мазок к мазку, капля к капле. И в этот момент порт стало слышно по-другому: как если бы все звуки отступили на шаг. Серов тоже замолчал, и они вместе услышали, как ударилось о борт что-то металлическое, как капля сорвалась со стекла и упала на дерево, как дохнул ветер с мыса – длинно и тяжело.
– Вчерашний конверт, – сказал Серов негромко. – И сегодня – это. Он ускоряется.
– Или мы, – сказала Елена, – просто вошли в поле его зрения. Теперь он рисует для нас. И – для кого-то ещё.
Она не обернулась, чтобы посмотреть, кто на дальнем пирсе, кто на берегу, кто за кучи ящиков. Этому городу нравилось изображать пустоту, даже когда он был полон глаз. Елена знала: пока у тебя в рукаве нет хода, лучше не показывать, что ты видишь. Она продолжала считать – лодка, кровь, след руки, осколок на дне, «Осталось три» на стене. И то, что вошло в привычку, вдруг стало основой: «Сосновый Мыс» тянул к себе нитки, будто за него цепляли реквизит.
– Возьми Павлика под запись, – сказала она Серову. – Пусть повторит каждую деталь, как стоял, как держал сигарету, как тень шевелилась. Уточни, где стояла «фигура». Мы нарисуем это на схеме. Пусть Лида проверит по камерам – хоть какая-то картинка должна была зацепиться.
– Камеры тут мёртвые, – вздохнул Серов. – Разве что у склада рыбы одна живая. Но угол не тот.
– В этом городе углы всегда «не те», – сказала она. – Зато следы – наши.
Она почувствовала, как остывает металл пакета с осколком в кармане. И как новая цифра встала рядом с прежней. Вчера – «четыре». Сегодня – «три». Словно кто-то выключал лампы в коридоре, по одной, и они не знали, где оборвётся провод.
К девяти в порту стало людно: бестолковость воскресной суеты всегда приходит на смену ночной точности. Старики с облезшими ведёрками, мальчишки, гоняющие мяч по лужам, торговки с лиловыми руками, у которых соль отпечаталась в трещинах – всему этому миру было важно, чтобы утро выглядело как утро, а не как продолжение чьей-то ночи. Климов перегородил лентой два пролёта настила и кратко окликал тех, кто стремился пройти «просто посмотреть». Елена вела для себя короткую хронику: в 08:17 – граффити, в 08:26 – осколок из лодки, в 08:34 – проба водоросли, в 08:41 – след руки на лавке. Порт – это хроника, если его слушать правильно.
– Нашёлся хозяин «Авдотьи»? – спросила она у дежурного, когда тот вернулся с переговоров.
– Записана на брата Кудрина, – мрачно ответил усач. – Придёт – будет стонать: мол, отремонтируем. А вы ему что скажете? Что у него лодку – в убийстве?
– Скажу, что его лодкой кто-то воспользовался, – спокойно сказала Елена. – И что если он не скажет нам, кому давал ключи, эта лодка пригодится только для суда.
Он оглянулся на «Авдотью» и злобно сплюнул в сторону – не от ненависти к Елене, от бессилия перед ситуацией. В таких городах лодки – тоже чьи-то родственники: их ругают, но жалеть умеют только молча.
Серов вернулся от Павлика с блокнотом.
– Курил «Приму», – перечислял он, быстро листая записи. – Стоял у третьей тумбы, спиной к «Маяку». Фигура – у воды, ровно напротив, между вторым и третьим буйком. Рост – выше среднего. Шапка – «бини». Пальто – тёмное, длинное. Ветер – в сторону мыса. А ещё – он говорит, фигура держала руки в карманах. Но один раз вынула и потянулась к воде, как… – Серов поискал слово, – как будто хотела тронуть лицо, отражение. И не тронула.
Елена кивнула.
– Схема совпадает с ночной сценой у «Прибоя», – сказала она. – Тянутся – не касаются. Мы имеем дело не с простым «убийцей» в бытовом смысле. Он работает с образом. Ему важно, чтобы было правильно – «в зеркале».
– Значит, это снова – про «семь», – Серов состроил гримасу, как человек, который проглотил ледяную крошку. – Журналистом легче не становится, когда сюжет упрямо идёт по чужой легенде.
– Это не легенда, – сухо сказала Елена. – Это запись. Она когда-то была протоколом – тем, что делали в санатории. Теперь – чья-то личная литургия. Он продумывает кадры. «Лодка. Отпечаток. Осколок. Слова на стене». Четыре штриха. И всё – на воде.
Ей хотелось позвонить Лиде и сказать: «Сравни амальгаму из лодки с теми, что мы уже взяли. Проверь зерно серебра. Скажи, что это «оно».» Но она знала: Лида скажет только «с высокой вероятностью», и это будет честнее. Правда в их деле обычно выглядит как «вероятно».
В этот момент по доскам пробежал тонкий звук – как если бы по ним перетянули струну. Елена подняла голову и увидела, как из тумана к ним идёт Лисицын. Он шёл не торопясь, как человек, который знает, что море никогда не убежит. На плечах – старая портьера плаща, у ног – сапоги, которые не жалко снять, если надо войти по колено. Он остановился чуть поодаль, не пересекая ленту.
– Слышал, – сказал он хрипловато. – Лодку прибило. А тело – нет. – Он посмотрел на Елену так, будто он тоже получил письмо. – Вода – она не жадная. Она только бережёт, пока её не спросят правильно.
– Вы видели что-нибудь ночью? – спросила Елена. – На дальнем пирсе?
Лисицын чуть качнул головой.
– Видел, – сказал он. – Но это был не человек. Это была тень. А тень – она всегда у воды длиннее, чем сам человек. – Он посмотрел на лавку, на белый след. – Ладонь – как у врача. Гладкая. – И, будто опомнившись, добавил: – Или как у того, кто давно не работал руками.
– И где было это «правильно», о котором вы говорили? – не удержался Серов. – В санатории?
– Везде, – сказал Лисицын. – Где у людей сердце с морем договор заключено. На мысу – так точно. – Он кивнул в сторону холма, где серела громада «Соснового Мыса». – Под ним трава не наша. И водоросли не наши. Гниют по-своему.
Елена встретилась с ним взглядом на секунду дольше, чем надо. И это было достаточно: он понял, что она поняла, о какой водоросли речь.
– Спасибо, – сказала она мягко.
Он кивнул и ушёл так же медленно, как пришёл.
(Курсив: неизвестный наблюдатель слушал эти слова через собственную кровь, не через воздух. Он вспомнил, как учились там – смотреть, не касаясь. И как голос говорил: «Не прикасайся – смотри». Голос был старый, как рамка, но в памяти – чистый. «Семь», – сказал он себе. – «Три». Цифры становились теплее от повторения.)
– Гуров попросил не уходить в «мистику», – напомнил Серов, будто вынимая из кармана камешек и перекладывая в другой карман. – Но если честно… – Он развёл руками на тот случай, если в воздухе спрятан диктофон. – Без символов тут ничего не двигается.
– Символ – это только язык, – сказала Елена. – Мы переводим. Он говорит «зеркало» – мы слышим «метод». Он говорит «грех» – мы читаем «травма». Он пишет «Осталось три» – мы чертим список живых. – Она посмотрела на стену. – Скажешь – не хватает драматургии? По мне – хватит.
Серов улыбнулся той улыбкой, которой люди улыбаются на похоронах, чтобы не расплакаться.
– Ладно, – сказал. – Мне нужна цитата. Не официальная. Твоё. – Он достал блокнот, но не поднял ручку. – Что ты думаешь о граффити?
Елена вытерла пальцы салфеткой, хотя перчатки она ещё не снимала.
– Думаю, – сказала она, – что тот, кто это написал, уверен: мы считаем вместе с ним. Если завтра будет «Осталось два», он ожидает, что мы кивнём. Это его способ сделать нас свидетелями, как тогда. – Она выдержала паузу. – И я не хочу быть его свидетелем. Я хочу, чтобы он стал нашим.
Серов кивнул, закрывая блокнот, так и не записав. Иногда важное лучше не иметь на бумаге.
Каяк лениво ткнулся в «Авдотью», и по доскам пробежала слабая дрожь. На мгновение Елена увидела отражение в чёрной воде: размазанное, с дёргающимися гранями, как если бы не она стояла на причале, а какая-то другая версия её – выцветшая, нерешительная. Она резко вернула глаза на реальность, чтобы не дать отражению привыкнуть.
Климов вернулся с пакетами.
– Соль с лавки взяли верхним слоем, как просила, – отрапортовал он. – Водоросль – тоже. Осколок – у тебя. Отпечатков чистых нет – влажность. Но контур руки сфотографировали, размер сняли – длина ладони примерно девять с половиной, пальцы длинные, без «шишек». Больше похоже на «офисного», чем на «портового».
– И это… – Он поморщился, внезапно став не службой, а человеком. – Там, под молом, кровь. На камнях. Её смыло наполовину, но она есть.
– Отметь уровень прилива, – тихо сказала Елена. – И дай Лиде срочно. Пусть проверит, как это «совпадает» с тем, что у нас уже есть. – Она подняла взгляд к мыску. – Наши «свидетели прошлого» редко умеют кровоточить так чисто.
Она знала, что в её словах слишком много смысла для этих досок и сетей. Но знала и то, что порт слышит. Доски в таких местах умеют хранить разговоры.
– Поехали, – сказала Серову. – Нам нужно успеть, пока туман не съел шрифты.
Они ушли от причала, обогнув «Авдотью» так, словно прощались.
Дорога вдоль воды обратно в отдел вела мимо ровной, как линейка, полосы кирпичной стены – той самой, где «Осталось три». Серов шёл чуть впереди, чтобы первым заметить, если кто-то выбежит из подъезда или от машины. Утренний ветер вязал волосы Елены в тугой хвост, хоть она и собирала их внизу; морские капли садились на лицо, как старые поцелуи. Она чувствовала, как в кармане тяжелеет пакет с осколком; казалось, что стекло умеет набирать вес отмыслом.
– Думаешь, «три» – это уже сегодня? – спросил Серов, не оборачиваясь.
– Думаю, – сказала она, – что «он» хочет, чтобы мы так думали. Это тоже метод. Он вычитает у нас спокойствие – по одному.
– Хорошая математика, – усмехнулся Серов. – Учителю Данилову бы понравилось. – Он тут же опустил плечи. – Прости.
– Ничего, – сказала Елена. – Мы все учимся у мёртвых говорить точнее.
У отдела пахло тёплой бумагой и сквозняком. В дежурке свет ещё казался ночным. Климов ушёл к Лиде. Елена поставила пакеты на стол и, прежде чем взяться за протокол, позволила себе закрыть глаза на три секунды. Перед внутренним взглядом возник не порт, не лодка и не граффити. Возникла та самая лавка, белый след ладони – и мысль, которую трудно было назвать: «рука – чистая». Она знала сотни ладоней – они проходили у неё через перчатки, на пудре, через стекло. И умела угадывать по линии жизни, кто чем живёт. Эта – «чистая». Пальцы длинные, не сбитые, без заусениц, без рваных подушечек. Да, можно надеть перчатку. Но след не от перчатки. След – от кожи. Человек не скрывал себя от соли. Он хотел оставить форму.
Телефон мигнул – короткое сообщение от Лиды: «Взяла. Амальгама визуально совпадает, подтвержу позже. Водоросль – «под мысом». Кровь на камнях – человеческая, группа в работе». Елена ответила на автомате: «Принято», – и посмотрела на свою доску. Слева – фото уцелевшего зеркала. Ниже – карточки. «Данилов». «Кудрин». «Савельева». Четыре пустых квадрата. Справа – «III», «V», «VII», «I». Тонкая стрелка к слову «порт». Ещё одна – к «мысу». Между ними – слово «след».
Серов прислонился к дверному косяку.
– Портовой слух уже знает, – сказал он. – Через час в «Чайке» будут шептать: «Он пишет на стенах». – Он замолк, и добавил тише: – И ещё. Мужик из киоска сказал: «Ночью вон там, у «Скалы», кто-то стоял и смеялся. В воду. Как в зеркало». – И показал туда, где море делало вид, что спокойно.
Елена взглянула на часы.
– В полдень – санаторий, – сказала она, прежде чем он спросил «почему». – Официально. Лавров или кто там у них на месте – покажет картотеку. Мы всё равно туда идём. Он ведёт нас туда – даже когда пишет на стенах. И мы должны идти раньше, чем он развесит следующую цифру.
В коридоре щёлкнула лампа – кто-то включил чайник. В отделе стали слышны шаги, в которых есть смысл – шаги людей, готовых спорить. Елена сняла перчатки, вымыла руки так тщательно, будто кровь порта могла въесться в кожу. Короткая тёплая вода ожгла холод. Наверху громко хлопнула дверь – Гуров всегда входил так, будто выносил приговор. Но он не сразу позвал – как будто тоже делал глоток кофе перед понедельником, который наступил в воскресенье.
Она взяла пакет с осколком, ещё раз посмотрела на цифру «I» на кромке вчершнего осколка – тот лежал в сейфе, как вредный ребёнок – и на пустоту сегодняшнего, где цифры не было. «Он держит шрифт для стен», – подумала она. – «А на стекле пишет только тогда, когда хочет коснуться». Она не знала, откуда эта мысль. Но знала, что проверит.
(Курсив: неизвестный наблюдатель сидел на бетонном тумбе в конце мола и слушал, как в воде разговаривают ржавые цепи. У него не было привычки курить, не было привычки пить по утрам. У него была привычка считать и писать. Он посмотрел на ладонь, на линию соли, которая осталась после ночи, и провёл по ней ногтем. От соли осталась царапина – белее кожи. «Три», – сказал он без улыбки. – «Потом – два». Он не любил сокращать дистанцию жестом, он любил сокращать её цифрой.)
– Дай мне пять минут, – сказала Елена Серову. – И – поехали. – Она открыла блокнот на новой странице, выдохнула и, как в детстве перед диктантом, развернула ручку. – «Причал. Утро. Лодка «Авдотья». Кровь – без тела. След ладони в соли. Осколок амальгамы на дне. Водоросль «под мыса». Граффити: «Осталось три»». – Она записала это не для отчёта. Для себя. Каждое слово тянуло линию от порта к холму.
Когда они вышли, двор отделения был такого цвета, каким бывает шерсть морского котика – серо-густая, тёплая на вид и холодная на ощупь. Серов открыл машину, достал из бардачка запасной блокнот – его блокноты всегда заканчивались раньше, чем бензин. Елена села и посмотрела в боковое зеркало. Там было её лицо, и за ним – улица, где туман начинал редеть. Она не задержала взгляд, чтобы не дать отражению права голосовать. Машина тронулась – к холму, к санаторию, к картотеке и к тем, кто давно выбрал для себя «правильно».
На кирпичной стене у порта чёрные буквы «Осталось три» были видны даже издалека. Волна поднималась, и на миг казалось, что вода вот-вот лизнёт нижнюю кромку «О». Но не доставала – словно кто-то сверху держал за невидимую нить.
Глава 2
День в отделе светился тускло, как вываренная кость. С потолка тянулся ровный холодный свет, и от него бумага на столе казалась ещё белее, чем утром. По коридору шаркали шаги, дежурный что-то перебирал в соседнем шкафу, и все эти звуки становились фоном, как шорох моря, которое отсюда не видно. Елена закрыла дверь – не до конца, чтобы не казаться упрямой, но достаточно, чтобы тишина собралась плотнее. Она положила на стол два предмета, которые уже научились притягиваться друг к другу: маленький кожаный дневник Ирины Савельевой с тугим замком и круглый жетон «V» из подвала «Соснового Мыса».
Металл лежал в ладони тяжело, как мокрый камень. На ребре жетона, если поймать свет под правильным углом, почти проступал рисунок – слабый радиальный узор, будто на наждаке отлизывали поверхность. Елена коснулась большим пальцем выбитой римской «V» и поймала себя на нелепой мысли: цифра чуть теплее, чем остальной металл. Она усмехнулась себе – это руки, просто руки.
Замочная скважина в корешке дневника была крошечной, с тонким «солнцем» из насечек вокруг – семь коротких лучей, еле заметных. С первого взгляда – инкрустация, со второго – привычка Ирины оставлять знаки. Елена уже пробовала шпильку, тонкую отвёртку, даже подпружиненный «ключик» из набора криминалистов: всё бесполезно. Теперь было иначе. Она приложила жетон к скважине не «как ключ» – просто так, для себя. Металл щёлкнул о металл – звук пустой. Но когда Елена, не меняя хват, чуть сдвинула жетон, вроде как не туда, куда надо, – глубоко внутри что-то едва слышно «цокнуло». Не замок – не пружина. Отголосок.
Елена замерла. Сцепила в пальцах краешек жетона, поискала тот самый угол, когда металл сам подсказывает, куда лечь. Щёточка насечек на скважине совпала с микрозазубриной на ребре жетона – так, будто кто-то делал пару. И в следующую секунду произошло простое: щелчок – не громкий, но безоговорочный. Замок отпустил.
– Есть, – одними губами сказала Елена.
(Курсив: неизвестный наблюдатель, сидевший на лавке через дорогу от отдела, поднял голову, когда внутри, за стеклом окна, чёрный прямоугольник дневника стал белее – свет упал на страницу. Он ничего не слышал, но внутри у него что-то тоже щёлкнуло: как если бы в груди отворили маленькую дверцу. Он опустил глаза снова, чтобы не портить ритуал взглядом. Рука его медленно чертила на бумажном стакане невидимую «V».)
Кожа обложки тихо вздохнула, когда она разложилась. Бумага внутри была плотная, сероватая, с редкими вкраплениями – видимо, Ирина любила старые блокноты; чернила вели себя на этих страницах иначе: где-то лежали жирно, где-то уходили в волокна. Первую страницу Елена перелистнула почти не глядя – не было ни дат, ни имён, только неровная линия – как проба пера. На второй, в правом верхнем углу, наискось: «Зеркала – как соль, язык помнит, глаза – нет».
Елена медленно выдохнула и перевела взгляд вниз. Текст шёл не датами, а блоками, как будто Ирина писала не «сегодня», а «после». Пальцы Елены сами нашли нужный темп: не спешить, не глотать строки.
«В зале странно. Вроде бы пусто, но под пустотой – трепыхание. Слышно, как стекло дышит. Алексей Соколов говорит: смотреть – дольше трёх минут, иначе глаз только скользит по коже. Смотреть – до конца. Если не можешь – вернись завтра. Говорит: зеркало лечит, если смотреть до конца. Но я верю стеклу меньше, чем воде. Вода, если не хочет – не покажет.»
Соколов. Имя легло в середину страницы как чужой подпрыг. Елена повела ногтем тонкую черту на полях, поставила знак «!», хотя никогда не любила этот жест. Дальше шли заметки – короткие, с поправками на полях, иногда – с обрывками эпиграфов, уже знакомых Елене по Ирининым вырезкам.
«Семь зеркал. Больше – запрещено. Семь – как крюк, на который вешают слова. Каждый смотрит в своё. На рамах – метки, чтобы не путали. С – для «Стыда», Г – для «Гнева», П – для «Пустоты» (Соколов не любит слово «Лень», говорит, оно бытовое). Мы все смотрели, но не все увидели.»
«Мы все смотрели…» – Елена проговорила шёпотом и ощутила, как в комнате снова стало слышно коридор – кто-то понёс мимо пачку бумаг, кто-то сказал «в архив», кто-то рассмеялся слишком громко. Она накрыла ладонью угол дневника, как накрывают тревожного ребёнка. Эта фраза была той самой нитью, за которую кровь уже потянула их в порту. «Мы все смотрели» – значит, группа. Значит, те самые семь подростков, чьи блики и затылки теперь сыпались на стол расследования как горох.
Дальше, через страницу, начинались «портреты». Ирина писала о людях, как о предметах – бережно и отстранённо, будто боялась обидеть взглядом.
«Д. – высокий, но сутулится. В зеркале у него складывается плечо, как у птицы, которой расправили крылья. Он смеётся не тем местом – зубами. Когда С. говорит «смотри до конца», Д. вглядывается так, будто пытается не увидеть. На руке – шрам, как скобка.»
«К. – гладкие пальцы. В зале держит руки в карманах, пока его не просят вытянуть. В зеркале у него лучше получается смотреть, чем говорить. Когда С. спрашивает «чего ты боишься?», он говорит «воды». А когда просит повторить – говорит «гнева».»
«И. (девочка) – волосы как водоросль, глаза как застывший чай. В зеркале не мигает. С. говорит, она «молчит правильно». Я не верю: молчание не бывает правильным.»
Елена хотела перелистнуть дальше, но прежде провела глазами по краям – Ирина делала на полях свои метки – крошечные галочки и стрелочки, как у биолога под микроскопом. Напротив «К.» – тонкая галка и маленькая «V». С маленькой «V» сегодня складывалось слишком много.
«С. говорит: «грех» – не слово, а инструмент. Если назвать – легче вынуть из глаз занозу. Мне кажется, слово наоборот вгоняет глубже. Но он считает – цифрами. Он говорит, что из семи всегда двое уйдут сами, если смотреть не умеют. Один – будет врать. Одна – будет молчать. Остальные – останутся и увидят.»
Елена откинулась на стуле, потерла глаза и вернула себя в равновесие. Внутри появился сухой гнев – не на Иру, не на Соколова, – на систему, которая любила «подгонять» живых под клетки «грехов». Она подняла голову: на её доске в правом углу действительно торчал список семи слов, и под каждым – пустые квадраты. Елена протянула руку и накрыла их ладонью, чтобы не видеть.
Она снова опустила глаза в дневник.
«Мы смотрели, но не все увидели. Тот, кто врал, научился говорить «правильно», С. доволен, но зеркало ему ответило чёрной полосой. Та, что молчала, не плакала – и от этого зеркало стало липким. У двоих море забрало память, а может – и ноги. Это мы ещё узнаем. Остальные… Остальные продолжают приходить.»
На краю страницы чернила вдруг стали дробными, как если бы руку дернули.
«Он вернулся?»
Черта, и после неё – пустота.
Елена закрыла глаза. Её рука, лежащая на столе, вдруг уловила лёгкую дрожь – как от дальнего дизеля, хотя здесь ничего не гудело. «Он вернулся?» – не «кто». «Он». Это не про Соколова, решила Елена. Если бы Ира имела в виду врача, она написала бы полное имя – как делала всегда. «Он» – тот, кто умел смотреть в воду как в зеркало. Тот, кто считал вслух. Тот, кто пишет на стенах.
Она перевернула страницу.
Дальше текст становился плотнее, как если бы Ирина писала быстрее, боясь, что заберут чернила, или что голос рядом скажет «всё, достаточно». Елена перевела дыхание и пошла в этот поток без попытки украсить.
«С. – Алексей – говорит, что память – это не то, что в голове, а то, что в глазах, когда они отдыхают. Он учит не моргать. Он говорит: «Ждите седьмую минуту. В седьмую видно». Когда он ждёт вместе с нами, секундная стрелка не плюёт на стекле – она будто высыхает. Иногда я вижу, как он сам отводит глаза. Он потом долго трёт пальцы, будто вытирает с них амальгаму. Под ногтями у него серебро. Я говорю – так нельзя. Он отвечает – «кто-то должен держать».»
Елена краем глаза отметила: Лиде это понравится – «серебро под ногтями», совпадение с экспериментальными образцами. Но на полях она всё равно записала: «подтвердить химией». Она никогда не позволяла словам полностью подменять улики.
Дальше «портреты» сменялись сценами. Иногда – без имён, только с буквой зеркала на краю.
«Стыд. В зеркало – как в чужое окно. Уходит дыхание, остаются только скулы. Он говорит: «Скажи». Говорит, что «сказать» – это как вынуть занозу. Я думаю – наоборот. Они рвут плоть словами, а потом говорят: «посмотри, крови не так уж много».»
«Гнев. В зеркале видно, как гнев зовёт гнев. Рамы не держат – стекло вибрирует, как струна. Он крестит собственным пальцем воздух и говорит «дыши». У кого-то получается. У кого-то нет.»
«Пустота. Любимая рамка у тех, кто не любит слова. Они стоят, как в углу, их глаза – где-то в море. С. кивает: «правильно молчишь». Мне кажется, «правильно» – это про винт у лодки, а не про молчание.»
Елена отложила ручку и на минуту отодвинула дневник, чтобы привстать, налить воды из кувшина. Стакан звякнул о край, и в этот звук вмешался другой – сообщение на телефоне. Лида: «Амальгама (лодка) – совпадение по спектрам с «старой партией» высокое. Водоросль – «под мысом». Кровь – человеческая, без сюрпризов. Дальше – по стандарту». Елена написала «спасибо» и снова опустила глаза в буквы Ирины.
Там, в глубине страницы, уже просвечивали намёки на имена. Ирина не любила полные фамилии – то ли чтобы защитить, то ли чтобы не потерять право на сомнение. Но буквы были щедрыми, они не умели прятаться полностью.
«Кр—ч—, – пишет нескладно, – задаёт дурацкие вопросы, чтобы не отвечать на свои. В зеркале у него губы тонкие, глаза – влево. Он говорит, что его зовут «Олег», но в доске написано «О. Кр—». Не выясняю, как правильно. Мне оно не надо.»
«П—вл—, – книжный. Боится морской воды, хотя живёт здесь всю жизнь. Прячет книжки в кладовке у столовки. Когда С. говорит «грех», он улыбается. Мне от этой улыбки холодно.»
«Ток—в, – шьёт себе новый воротник из слов. С. доволен. Он не врёт – он перестраивает.»
Елена поймала себя на том, что читает быстрее. Пришлось остановиться и проговорить вслух, чуть шевеля губами: «Кр—ч—», «П—вл—», «Ток—в». Оборванные фамилии из газетных вырезок Андрея, из краеведческого сборника про «экспериментальную терапию», из ведомостей санаторной картотеки. Они не сцеплялись в единую линию, но уже делали рисунок – как звёзды, между которыми глаз сам дорисовывает созвездие.
(Курсив: неизвестный наблюдатель провёл пальцами по виску, где всегда давило в плохую погоду, и пропел про себя строки, которые помнил с тех дней: «Семь… шесть… пять…» Он не любил считалки, но любил порядок. Порядок – вот то, что делают из хаоса зеркала. Он не считал себя «их учеником». Он считался их результатом.)
Елена перевернула ещё одну страницу – там, как разрез, лежала короткая запись:
«Мы все смотрели – но не все увидели. Это важнее, чем кто к кому как относится. Видение – это не дар, это насилие. Оно не делает лучше – оно только делает яснее. После «яснее» редко остаются друзья».
Строка была подчеркнута дважды, другой ручкой, позднее.
– Ира, – тихо сказала Елена, – кто «он»? – И ответила себе, как отвечают там, где слушает не только человек: – Тот, кто не увидел. Или тот, кто увидел слишком.
Она снова пролистала вперёд – не на поиски точки, а чтобы поймать движение. Страницы шуршали сухо, как соль в бумажных пакетах. В одном месте – в середине тетради – бумага обрывалась: вырванный лист, с мясом на корешке. С этой стороны – крошечная запись: «Не выдержал. Ушёл к воде. Сказал: «Пусть решит море». Мы решили вместо него. С. сказал: «Это тоже решение». Я тогда думала – он просто хочет спать. Теперь думаю иначе.»
Елена долго сидела над этой строчкой, слушая, как внутри неё встают вертикально все волосы, которым полагалось бы лежать. Она записала на полях: «санаторская запись/архив – проверить даты бурь, школьные списки, заявления родителей». И поставила рядом тонкую, едва заметную «галку» – знак того, что эта запись будет болеть долго.
За дверью мягко скрипнула ручка – Серов, не входя, показал пальцами жест: «пять минут?» Она кивнула и снова ушла в страницу.
После вырванного листа дневник становился фрагментарным. Ирина, казалось, писала стоя, на колене, в промежутках между чужими голосами. Была одна страница, вся в мелких, почти неприличных для глаза зарубках – как если бы автор отгонял от себя слова чужой рукой. Елена перечитала её дважды, хотя там было всего ничего.
«Не трогай стекло. Не трогай стекло. Не трогай стекло. Если тронешь – руки будут пахнуть серебром. Оно пахнет не как металл – как незнакомое молоко. В комнате, где нет воды, пахнет морем – это от зеркал. С. говорит: амальгаму делают из «чистого». Я вижу – там живёт грязь. Глаза – не чистые руки.»
Иногда Ирина писала про себя – и тогда дневник становился почти светлым:
«Мне нравится, как дети в коридоре не умеют шептать. Они говорят шёпотом громче, чем взрослые – потому что честнее. Когда я их фотографирую, у них лица становятся спокойные. Зеркала им не идут. У зеркала они становятся «неживые». Фотография лучше.»
Елена невольно посмотрела на распечатку фотографии «семёрки», лежащую у неё под стеклом стола – она ещё с ночи оставила её на виду. Семь подростков у большого зеркала. Кто-то улыбался не тем местом. Кто-то отводил глаза в сторону – в отражение. Краем глаза ей снова показалось, что в зеркале позади подростков мелькает тонкая тень – восьмая. Она дала себе строгую команду: «не смотреть», и вернулась к дневнику.
«Он – вернулся? – Ира снова спрашивала себя. – Или это просто зеркала возвращаются? Иногда кажется, что они сами выбирают, кого показывать. Тогда надо закрыть. Но когда закрываю – в комнате становится хуже. Хуже – это когда молчание и гул. Гул – как в трюме. Слышно, как трётся металл. Гул – это и есть «грех».»
Елена задержала взгляд на слове «гул». Ей вспомнился подвал санатория – та самая тягучая тишина, которая плотнее шума. В «зале зеркал» этот гул набирал форму – становился металлическим комаром, который крутится в ухо и не садится. Она потёрла лоб и поняла, что хочет выйти на воздух. Но Серов уже стукнул ещё раз. Она подняла руку: «ещё четыре».
Дальше Ирина возвращалась к именам – не напрямую, разумеется. Её способ – «пройти мимо, зацепить краем».
«Т. – часто смотрит в пол. Говорит, что «так легче». Я говорю – «легче» не значит «лучше». Он соглашается. Но это не соглашение, это способ не спорить. С. его не любит – потому что в нём нет сопротивления. Зеркало любит сопротивление. Тогда оно «работает» (его слово).»
«П. – умный. С ним надо осторожно. Он говорит правильно. Но когда он смотрит в «Стыд», у него в правом глазу выплывает рыбья чешуя. Я сначала думала, это блик. Но блик не может повторяться одинаково. Чешуя – повторяется. С. не видит. Или делает вид, что не видит.»
«О. – не злой. Просто на своём берегу. Он в зеркало не смотрит – он слушает, как в нём шуршит. Это странно. Даже страшно. Зеркала иногда шуршат. Как книга, когда её долго читали и положили на живот.»
Елена поймала себя на улыбке – неуместной, но человеческой. Метафоры Иры пахли руками. В них было что-то от старых мастеров, которые не говорят «фрейм», а говорят «рамка», не говорят «субъект», а «живой». Это вызывало доверие.
Страница перед второй половиной тетради содержала то, ради чего Елена готова была бы спорить с Гуровым неделю.
«Если «грехи», то это не религия, это бухгалтерия. С. любит считать, потому что цифры – это то, чего боятся те, кто привык к легендам. Он улыбается, когда ставит галочки. У меня от этих галочек мерзнут пальцы. Я не хочу считать. Но приходится – чтобы не потерять. Я считаю – не их. Я считаю – зеркала. Их семь. И на каждой – метки. Их – семь. Если убрать «грех», остаётся другое: «гордыня» = «страх показаться маленьким», «похоть» = «страх остаться одним», «чрево» = «страх иметь лишнее внутри», «леность» = «страх пустоты». «Гнев» – не «страх», а «обида». Остальное – неважно. Важно, что у каждого своё зеркало. Местами они меняются. Иногда они бьются сами. Это не мистика. Это люди.»
Елена закрыла глаза и тихо, беззвучно произнесла: «Это люди». Это была та формула, ради которой стоило идти дальше – не глазами, руками. Она уже почти закрыла дневник, чтобы сделать паузу, когда заметила у самого корешка корявую приписку: «Не трогай стекло». И ниже – крошечными: «Он вернулся». Чернила здесь были темнее, ручка – другая. Время в этом месте было гуще.
(Курсив: неизвестный наблюдатель, стоя в тамбуре на лестнице, где пахнет ведром и алюминием, провёл рукой по стене и оставил белую крошку старой краски у ног. Он любил эти маленькие вещи – они подтверждают, что ты был «тут», даже если тебя не увидят. Он хотел написать «три», но удержался. Бумага ему сегодня больше нравилась, чем стены. Он пошёл дальше – медленно, чтобы не шуметь ботинками. Он не любил, когда его слышат раньше, чем видят.)
Елена подняла взгляд – и встретилась глазами с собственным отражением в стекле шкафа. В отражении её рука казалась тоньше, чем есть. Лицо – бледнее. Она поймала себя на том, что переводит взгляд «внутрь зеркала», как учат на карикатурах, и оттолкнула себя от этой ямы силой привычки. Открыла окно на пальчик. Воздух вошёл так, будто в отделе впервые за неделю открыли форточку.
– Хорошо, – сказала она вслух дневнику, как живому. – Теперь ты тоже «в деле».
Ей предстояло – и она это знала – превратить эту соль в протокол. И всё же сначала она позвонила Серову, не выходя из кабинета – короткий сигнал: «Зайди». Он вошёл с полдороги, не стуча, – он умел становиться тише, чем собственные ботинки. Елена не стала тянуть.
– Открылся, – сказала она и показала жетон «V». – Подходит к замку, как будто так и было задумано. Не отмычка – пара.
– Не удивлюсь, – Серов сел на край стола, но тут же отстранился, чтобы не задеть дневник локтем. – Что там?
Она начала – не читать, а рассказывать, как рассказывают человеку, который хорошо знает твой темп. Про Соколова и «смотреть до конца», про семь зеркал и «метки грехов», про то, как Ира сразу переводила «грех» обратно в человеческое, про «мы все смотрели – но не все увидели», про вырванную страницу, про «двоих море забрало», про смешную и страшную запись «не трогай стекло». Серов слушал не перебивая, лишь иногда вставлял в воздух мысль, как булавку.
– «П—вл—», – повторил он, когда она дошла до обрывков. – Это может быть Павлов. Или Паш… Но в контексте твоего снимка – скорее Павлов. «Кр—ч—» – Кравченко. «Ток—в» – Токарев, как в вырезке с врача. – Он поднял глаза. – У нас сходится слишком аккуратно.
– У нас сходятся несущие, – сказала Елена. – Облицовку ещё нужно положить. – Она провела пальцем по краю страницы. – Ира пишет: «Он вернулся?» – и ниже, позже – «Он вернулся». – Она перевернула дневник так, чтобы Серов видел приписку. – Думаю, это не о Соколове.
– Думаешь – об убийце, – спокойно сказал Серов. – Или, как мы со вчерашнего вечера говорим, «о зрителе». – Он помолчал. – В газете, которую я копал ночью, была заметка с подписью «А.С.». И рядом – редакционный блок «письма читателей»: там мальчишка жаловался, что «его заставляли смотреть», что «зеркала – это неправильно». Письму двадцать лет. Имя не сохранилось. Только инициалы. «А. Л.» – но это может быть кто угодно.
– Лавров, – сказала Елена машинально. – Не хочу спешить. Слишком ровно укладывается, когда рано. – Она закрыла дневник ладонью. – Это «третья» глава, Андрей. Пока мы здесь – в «второй». – И, чтобы смягчить, улыбнулась – коротко. – Но ты прав: «он» пишет нам сценарий. «Осталось три» – уже написано. Нам нужно опередить очередной мазок.
Серов поднялся, прошёлся по кабинету, будто отмеряя шагами шум моря снаружи, и остановился у её доски.
– Ты правда веришь, что это «грехи», – спросил он без иронии.
– Нет, – ответила Елена. – Я верю, что кто-то когда-то назвал так семь способов смотреть на себя. И теперь кто-то повторяет этот язык, как выученную молитву. – Её рука сама вывела тонкую стрелку от «Семь зеркал» к «метки». – Я хочу найти метки. Под тем, что они называли «грехом», всегда есть простое – страх. Из страхов мы вяжем верёвки. Кто-то сейчас тянет ими нас.
– Ирина знала его? – спросил Серов, глядя не на неё, а на белую крошку клея, что осталась от вчерашнего конверта.
Елена опустила взгляд в последнюю строку, ещё раз прочла «Он вернулся» – написанное другой рукой, возможно, в другой день.
– Она знала, – сказала Елена. – Не «по имени». По звуку. Это как узнавать шаги в коридоре. – Она кивнула на дневник. – Здесь это слышно. – И добавила, уже для себя: – И это значит, что где-то в её вещах – в лавке, в мастерской – есть предмет, где он оставил свою «метку». Не шрифт на стене. А что-то «её». – Её голос стал сухим: – Мы найдём.
Серов молча подтолкнул к ней стакан воды.
(Курсив: неизвестный наблюдатель сидел на ступеньках служебного входа санатория, где когда-то пахло лекарством, а теперь – сыростью. Он вспоминал, как Ира смеялась, когда фотографировала, и как переставала смеяться у зеркала. Он не считал себя «её». Но он знал: она тоже слышала шаги в коридоре. Он провёл ногтём по камню и оставил крошечную полосу. Он не любил оставлять «подписи», но иногда это было необходимо – чтобы они пошли туда, куда он хочет.)
Елена закрыла дневник, вернула замок в исходное положение – не до конца, чтобы снова не возиться с «V», но достаточно, чтобы «книга» чувствовала себя закрытой. Она аккуратно обвязала его бечёвкой – привычка, ещё с тех времён, когда улики упаковывали «по-старому». Положила рядом копии страниц – те, что можно показывать без вреда делу: высказывания Соколова, «семь зеркал», «мы все смотрели – но не все увидели», обрывочные фамилии без расшифровки, строчку про «лечит, если смотреть до конца».
– В полдень – санаторий, – сказала она. – Официально. Картотека. Лавров. И «камера V» ещё раз. Я хочу, чтобы Лида сняла со дна ящика «журнала» любое, что осталось от вырванной страницы. Иногда клей бумажный оставляет на дереве тонкую «кожу». – Она помолчала. – И нам с тобой – поговорить с «Кр—ч—». Вечером, не сейчас. Без давления, без «грехов». Просто про воду.
– Скажи честно, – вдруг спросил Серов, у двери задержавшись. – Если он и правда «вернулся» – ты его узнаешь?
Елена посмотрела на дневник и увидела, как в кожаной обложке, где-то в тени, тонко шевельнулась линия – просто пойманный луч. И всё же.
– По шагам, – ответила она. – И по тому, как он считает. – Она улыбнулась краем рта. – К счастью или к несчастью, в этом городе очень мало людей, которые пишут на стенах «без орфографических ошибок».
Серов рассмеялся коротко – не от того, что смешно, – потому что надо. Уходя, он приоткрыл дверь шире, и коридор вдохнул в комнату стандартный хозблоковский запах – порошок, кипяток, картон. В этом выдохе не было ничего мистического. И от этого стало спокойнее.
Елена осталась одна и позволила себе короткую роскошь – приложила ладонь к обложке. «Память – это не то, что в голове, а то, что в глазах, когда они отдыхают». Это было красиво – и опасно. «Зеркала лечат, если смотреть до конца» – говорили они. Она верила в другое: лечит не стекло, а способность в какой-то момент опустить глаза и выйти на воздух. На сегодня воздуха хватало. Но день только начинался.
Она выпрямила спину, сняла с доски лист с «грехами» и убрала в нижний ящик. На доске оставила только «семь зеркал», «метки», стрелки к «мысу» и к «порту», и тонкую линию, ведущую от слова «вернулся» к словам «считает вслух». Положила дневник в сейф, достала ключ, дважды повернула. Щёлчок – простой, честный.
Телефон вспыхнул, как тихая молния. Сообщение без имени, с незнакомого номера. Всего две строки: «Ты слушаешь не туда. Смотри дольше. Он вернулся.»
Она перечитала – медленно, как учат в «зале». Потом выключила экран, убрала телефон в ящик, села ровно. Руки не дрожали. Просто кожа на ладонях пахла чуть-чуть серебром – или ей показалось.
За окном, в стекле, две секунды задержалось её собственное отражение. И ей показалось, что оно моргнуло позже, чем она.
Глава 3
«Сосновый Мыс» днём выглядел не как лечебница, а как корабль, поставленный на прикол: длинные корпуса с пустыми балконами, сквозняки, которые гуляли по галереям, и солёная влага, въевшаяся в краску так же прочно, как истории – в стены. Елена поднялась от стоянки по бетонной дорожке, где иглы сосен забили трещины и сделали серый цвет живым. Ветер с моря шёл в лицо, но уже без ночной злости – в нём слышался груз усталости, как в старом дыхании. На крыльце у входа болтался плакат о профилактике дыхательных заболеваний, на углу – ржавая урна, полная окурков, которые складывались вокруг, будто всё здесь отвыкло от закрытых крышек.
На посту дежурной – женщина с тонкими губами и руками, в которых всегда есть работа: для таких людей любое ожидание – это сортировка. Табличка на груди гласила «Евдокия». Она посмотрела на удостоверение Елены и кивнула так, словно кивала не ей, а делу, которое всё равно придётся принять.
– К кому? – спросила, хотя уже рукой тянулась к телефону.
– К Антону Лаврову. Врач, – сказала Елена. – Вопросы по архиву и картотеке. И… по нескольким помещениям подвала.
Последнее слово почти всегда меняло воздух. Евдокия подняла глаза: не страх, скорее, любопытство, но ровно настолько, чтобы запомнить.
– Лавров у себя, – сказала она. – Корпус «А», второй этаж, конец коридора направо. Но по подвалу – это с ним. Сегодня у нас, знаете ли, выходной поток, – она чуть повернула голову, и Елена увидела за её спиной пустынный вестибюль, где два кресла стояли боком друг к другу, как люди, которые не умеют говорить. – То есть – никого.
Коридор был длинным, как привычка, и пах не столько лекарствами, сколько влажной гипсовой пылью, которой подсыпают ремонт, чтобы он казался правдой. На стенах – фотографии довоенных купальщиков, чёрно-белых, солнечных, абсолютно чужих этому ветру и этим лампам. Сохранились и старые указатели – «электролечение», «галотерапия», «психокоррекция» – выцветшие, но упрямые. Шаги отдавались, как в депо.
Дверь с табличкой «Врач-психотерапевт. Антон Лавров» стояла приоткрытой, как горло, которое вот-вот закашляет. Елена постучала в косяк и вошла. Кабинет был узким, с высоким окном на полоску моря и столом, который стоял немного не по центру – так любят ставить те, кто старается не казаться начальником, но всё равно им является. На подоконнике – два горшка с суккулентами; на столе – аккуратные стопки картотечных карточек, перевязанные бечёвкой так же, как Елена утром перевязала дневник.
Лавров поднялся ей навстречу. Ростом с дверь, на нём сидел светлый халат, но под ним – чёрная водолазка; рукава закатаны, на запястье – след от часов, снятых перед встречей. Лицо – ясное, без пуха, волосы – коротко острижены, как у тех, кто не хочет возиться с формой. Глаза – светлые, но внимательные изнутри, как в тех зеркалах, где стекло чуть потемнело. Он протянул руку; ладонь оказалась сухой, но тёплой.
– Антон Лавров, – представился. – Я знаю, кто вы. – И, прежде чем она сказала «по какому делу», добавил: – Вы про Данилова, Кудрина и Савельеву, верно? – Он произнёс их фамилии ровно, как дозировку.
– И про то, что было здесь двадцать лет назад, – сказала Елена, садясь на предложенный стул. – Соколов. «Зеркальная терапия». Группа подростков. Семь.
Он пожал плечами, но не изобразил удивления.
– Соколов – был, – сказал он. – И терапия была. Хотя это слово сейчас звучит громче, чем тогда. Тогда это была идея, – он чуть вытянул нижнюю губу, – и методика, оформленная как «коррекционные занятия». Экспериментальная, да. Ничего сверхъестественного. Просто зеркала и дисциплина взгляда. Считать до двухсот, не моргая, смотреть на себя с тридцати сантиметров, фиксировать «аномалии» и «собственные реакции». Сопровождающий диалог. Ничего того, что вам уже нашептали городские легенды.
– «Встретиться со своей виной»? – подсказала Елена мягко.
Он улыбнулся – без насмешки.
– И это тоже было в лексиконе. Я тогда был моложе. Учился у него. Верил, как верят студенты: пока не столкнёшься с тем, что из методики выпадают живые. – Он сел и чуть подтянул к себе одну из стопок карточек. – Вы знаете, как это, – он кивнул на её удостоверение, – когда протокол держит, а человек – нет.
Коридор вздохнул, и где-то далеко хлопнула дверь – в таких зданиях всё слышно, как в барабане. Лавров на секунду отвёл взгляд к окну. За стеклом темнела полоска воды.
– Соколова официально признали погибшим после той бури, – произнёс он почти машинально, словно проверяя чужую легенду на трещины. – Тело не нашли. – Он скосил глаза обратно к Елене. – Так бывает, вы знаете. Море здесь не любит возвращать.
– Но вы считаете, что он мог выжить, – произнесла Елена так же нейтрально, как он до этого сказал «погибшим».
Он выдержал паузу – длиннее, чем нужно для отрицания, короче, чем для признания.
– Я считаю, – сказал наконец, – что часть его методики пережила его. Независимо от того, где он сейчас. – Он положил ладонь – всё такую же тёплую – на верхнюю связку карточек. – И я считаю, – голос не изменился, – что где-то в подвале сохранились старые зеркала. Их никто не утилизировал. Тогда – было не до того. Потом – тем более. Архивы – мы иногда двигаем. А подвал живёт своей жизнью.
Елена кивнула. Это было то, ради чего она пришла и без чего всё остальное оставалось словами. В кабинете пахло сухим полотном и камфорой – лёгкой, аптечной, такой, что держится в памяти дольше, чем нужно. На подоконнике суккуленты оказались не просто зелёными фигурками: на одном была белая солица – как от морского аэрозоля, другой держал в чашечке листа тонкую чёрную крупинку пыли.
– Мне нужен доступ в картотеку, – сказала Елена. – По подростковой группе. Даты, состав, фамилии, сопутствующие формы. И – в подвал. Официально, по бумаге – сегодня не получится. Поэтому хотя бы посмотреть «где» и «как». – Она чуть улыбнулась. – Я умею ходить тихо.
Лавров усмехнулся едва заметно: этот язык он понимал. Он достал ключи из ящика стола – брелок в виде крошечной латунной рамки – и поднялся.
– Картотека – здесь, рядом, – сказал он. – Подвал… – он задумался, как если бы хотел убрать слово во внутренний карман, – подвал позже. Там нужно предупредить тех, кого лучше предупреждать. – Он встретил её взгляд и добавил спокойно: – Не потому что я прячу. Потому что не люблю, когда вас пугают звуками.
Его слова случайно задели что-то в груди – вспышку воспоминания о вчерашних шагах за дверью «зала зеркал». Елена кивнула. Картотека – это уже много.
– Пойдёмте, – сказал Лавров, мягко отодвигая стул. – По пути покажу вам коридор «психокоррекции». Там висят старые расписания. Они никому не нужны, но иногда на них оседает правда.
Коридор «психокоррекции» начинался за дверью с облупленной эмалированной табличкой, на которой буквы когда-то выжигали чем-то горячим. Внутри пахло влажной бумагой – той самой, которую доставали из папок и читали стоя, не садясь, чтобы «надолго не задерживаться». Лавров включил свет – лампы моргнули, но загорелись ровно. На стенах – две рамы с под стеклом: «расписание групп», «ответственные». Годы шли по ним, как мхи по камню.
– Мы не всё сохранили, – сказал он. – Но то, что осталась – честнее чистых полок.
Елена подошла к первой рамке. В клетках – «коррекция поведения (подростковая)», «аутотренинг», «рефлексия», «группа самоанализа». Внизу – мелко, чуть наискось, вписано: «зеркальная фаза – 7 мест». Елена коснулась стекла костяшкой пальца – не чтобы постучать, чтобы почувствовать толщину. Стекло было старое, немного зелёное.
– «Семь мест», – произнесла она. – Жёсткая цифра.
– Соколов любил жесткие цифры, – сказал Лавров без улыбки. – Он считал, что дисциплина количества – это дисциплина смысла. Если семь – значит не восемь. И не шесть. – Он перевёл взгляд на расписание. – Он говорил: «семь – как неделя». Для группы – цикл. Для каждого – выбор.
Елена уйти от слова «грех» не пыталась. Она знала: когда разговор ведёшь с человеком, у которого тоже есть картотека в голове, лучше не уворачиваться.
– Он называл зеркала по «грехам»? – спросила прямо.
Лавров слегка повёл плечом.
– Называл. Но это была не религиозная игра. Скорее – язык для подростков, – произнёс он. – Он объяснял: «грех» – это имя для привычки, которая делает тебе хуже. «Гордыня» – страх быть слабым. «Жадность» – страх не получить. И так далее. Я… – он замолчал, подбирая слово, – я не всегда был согласен. Но метод соответствовал времени. Тогда требовали «результов» – быстро и отчётно. Зеркала давали картинку. А картинка – это нирвана для комиссии.
– И вы с ним работали, – сказала Елена. – В группе подростков.
– Да, – кивнул он. – На нескольких потоках. Один – тот самый, о котором вы спрашиваете, – он вздохнул. – Семеро. «Семь мест». Он даже рамки маркировал тогда – римскими. Рамы были старые, привезённые из… – Лавров на секунду прикусил губу, – из театрального фонда, кажется. Я не уверен. Но я помню, что на задних планках стояли литеры – некоторые с буквами. И… – он посмотрел на Елену прямо, – однажды я видел на кромке амальгамы выцарапанную «III». Это было не заводское. Это было чей-то ноготь или игла.
Елена не позволила себе ни кивка, ни вздоха. Просто внутренне отметила: линия совпала с тем, что дала ей лавка «Лунная ртуть». Мир складывался, как осколки, которые со второго раза, оказывается, – с одного набора.
– Скажите, – мягко произнесла она, – в комнатах остались какие-то элементы «тех» занятий? Форма, табуреты, отметки на полу. – Она говорила то, что слышат стены.
– В самой «зале» – нет, – ответил Лавров. – Мы годы назад вывезли стулья, закрыли зеркало брезентом. Но… – он чуть кивнул, – подвал – другое дело. Там есть и рамные стойки, и запасные планки, и списанные стекла, – он сделал паузу, – и я почти уверен, что на одном из них сохранились те самые буквы. Пятна лака. Может быть – и «А.С.» где-то на ленте. – Он посмотрел на неё испытующе. – Вы ведь это искали, когда приходили ночью? Я не идиот, Елена. Коридор «слушает».
Она не стала отрицать. И в его голосе не было того, что требовало бы оправданий.
– Я ищу «как», – сказала она. – Зачем мы успеем. «Кто» – тоже, но мне сейчас важнее связать предметы. Потому что «он» связывает именно их, а уже потом – людей.
Лавров пошёл дальше по коридору. Они миновали заколоченную дверь, за которой, судя по шрамам на коробке, кто-то неудачно пытался спрятать прошлое. На следующей висела табличка «Картотека». Ключ лёг в сердце замка, как в правильный паз. Запах внутри был сосново-пыльным, как в старых библиотеках у моря: чуть смолы, чуть плесени, чуть старого клея.
Комната была невысокой и длинной, заставленной до половины металлическими шкафами и шкафчиками с выдвижными ящиками. На каждом – бумажная полоска с буквами и годами. «Пациенты / 199…», «Группы / 200…», «Методички». У стены – стол с лампой; абажур был из зелёного стекла, как в кино, но поцарапанный. На столе – пресс для бумаг, старинный, тяжёлый, с рукоятью в форме «арки».
– Я буду рядом, – сказал Лавров, – но дам вам тишину. Некоторые папки любят, чтобы их открывали молча. – Он коснулся пальцем одного из шкафов. – Здесь – «подростковые», конец девяностых. Вам сюда. – И сел в углу, сделав вид, что читает. Ему это удавалось: тишина с ним слипалась, как у тех, кто умеет не мешать.
Елена начала с ящиков по годам. Пальцы быстро научились распознавать «свою» бумагу: её выдаёт и плотность, и резкость запаха, и то, как края отбились. На карточках – поля: «ФИО», «дата», «диагноз», «процедуры», «группа». На многих – «коррекционная группа №3, №4…», реже – «зеркальная фаза». Там, где стояло «зеркальная», почерк был иной – кажется, рукой одного и того же человека.
– Кто вёл записи для «зеркальной фазы»? – спросила она, не поднимая головы.
– В основном – он, – ответил Лавров. – Соколов. Иногда – медсестра Анна Т. – Он задумался. – Фамилию мы вечно писали с ошибкой; может, потому и в документах осталась каша. «Ток—» или «Токар—». Это не принципиально для ваших задач. Для наших – было.
Елена пробежала глазами «А. Т.». Буквы упали на ту же полку, где лежал вечерний «Ток—в» в дневнике Ирины. Она вытащила несколько карточек – «Группа №3, «зеркальная фаза», «7 мест». В список – семь фамилий. В некоторых – половины не хватало: бумага, как память, ломается по шву. Она нашла «Крав—», «Павл—», «Ток—». Слева было поле «класс / школа». Строчка «шк. №…» вела к тем же годам, что уже были у неё на доске. Логика начинала дышать.
– Можно копировать? – спросила она.
– Фотографируйте, – сказал Лавров. – Ксерокса мы не любим – он сжигает свет. – Он улыбнулся этой странной фразе, как собственной привычке.
Елена сняла на телефон по два кадра каждой карточки: общий и крупный – для рук Лиды. В одном ящике, ближе к дну, нашлась папка «Отчёт экспериментальной группы (психокоррекция, 199…)». Ставший привычным шрифт «машинки», печати с гербом санатория, подпись Соколова. Он писал сухо, но между строк вылезали те же «семь»: «дисциплина взгляда», «распознавание аффективных реакций», «выделение ведущего «порока»». В конце – «заключение»: «в будущем целесообразно перевести методику в статус «клинической» с возможностью…» – дальше шёл текст, от которого в современных отчётах делается не по себе: «отсев», «негативные случаи», «самоустранение». Елена почувствовала, как во рту появляется вкус железа – всегда так, когда слова отказываются быть только словами.
– Вы это читали? – спросила она у Лаврова, не поворачиваясь.
– Много лет назад, – сказал он. – Тогда это казалось «языком науки». Теперь – «языком отговорок». – Он замолчал. – Вы не ищете оправданий. Мне это… – он искал слово, – близко.
Там, где обычно заканчиваются «дела», у Елены начинался процесс «сборки». Она аккуратно вернула папку в ящик, перевела взгляд на соседний – «Фотоматериалы / мероприятия». Так иногда пишут о том, что никто не просил снимать. Внутри – прозрачные конверты с контактами, старые цветные ксерокопии, где лица расплывались в оранжевый. Она искала не лица – контуры.
– Позвольте, – сказала Елена и переложила один конверт на стол. На первом кадре – актовый зал, на стене – баннер «День открытых дверей». На втором – дети в белых халатах, и рядом – мужчина в очках, в светлой рубашке. Не Соколов – слишком молодой. Третий кадр был тёмнее: комната с рамами. И – зеркало. Единственное, целое. На его кромке, если наклонить, можно было увидеть маленький неровный удар – как выщерблина.
– Это чья-то «III», – выдохнула Елена вслух, хотя на фото цифры не было видно. Ей возвращался в ладонь утренний осколок.
– Вы видите больше, чем есть, – заметил Лавров без раздражения.
– Я вижу – совпадения, которые перестали быть случайными, – сказала Елена.
(Курсив: неизвестный наблюдатель, сидя на периле лестничного пролёта, где сквозняк играет с мусором, представил эту картотеку детально – он помнил её запах. Помнил, как бумага жалит пальцы, если трогать её в ноябре. Он ещё помнил, где лежит конверт, который она ищет. Он не торопился. Он любил, когда её шаги сами приводят в нужную дверь.)
– Ещё один ящик, – сказала Елена, скорее себе. – «Фото – учебные». – И потянула на себя тяжёлую металлическую ручку.
«Фото – учебные» оказался самым тяжёлым. Бумага здесь была плотнее, и конверты – толще. На каждом – подпись бледным карандашом: «сеанс 3», «подготовка», «комната». На первом конверте – штамп: «для служебного пользования». Елена аккуратно вклинила ноготь в клапан – бумага немедленно пошла по волне, дала. Внутри – контактные листы и несколько вырезанных, уже увеличенных снимков. В очерёдности кадров угадывался чей-то алгоритм: пустой зал – люди входят – стоят – рассаживаются – смотрят.
Она раскладывала фотографии на столе рядами, как картограф, который у воды просит у берега честной линии. На третьем ряду появился кадр, от которого звук в комнате стал звонче. Семеро подростков – в профиль, в пол-оборота, беспорядочно. Слева – плетёный табурет, справа – край рамы. Позади – то самое зеркало, в массивной, потемневшей раме. И, как всегда, блик: в стекле чёрный кусок отражения, которое отстаёт на долю секунды.
Её пальцы начали искать то, что найдено уже «до»: сутулый мальчишка; девочка со взглядом влево, в глубину стекла; двое коротко стриженных; девочка с книгой; длинный, угловатый – с лёгкой асимметрией лица в зеркале. Они были живыми на бумаге так, как мёртвые не бывают: случайным, неровным, почти медицинским.
– Это… – начал Лавров, подошедший ближе, – это са… – он не договорил. Он узнал. Узнавание было на его лице неслышным – как если бы в виске ударило кровь. – Откуда у вас это? – Он одёрнул себя и усмехнулся. – Простите. Неправильный вопрос. Откуда у нас это – я знаю.
Елена ничего не сказала. Она перевела взгляд на оборот одной из фотографий: карандашом по жёлтой бумаге были выведены цифры – «7». Ниже – дата, двадцатилетней давности. И две буквы: «П.» и «А.С.» – как «подпись» и «проверил».
– Соколов, – сказал Лавров. – Он подписывал все комплекты, даже когда не сам снимал. «П.» – оператор, думаю. У нас тогда был один «П.», который всё делал. – Он замолчал, глядя на снимок, как в собственную биографию. – Можно?
– Конечно, – сказала Елена, отодвигая снимок к нему.
– Вы знаете, – он не поднимал глаз, – он любил говорить «встретиться со своей виной». Но я всегда думал – правильнее «со своим страхом». «Вина» – это для отчёта. «Страх» – для жизни. – Он положил снимок на место. – Это не оправдание, – добавил тихо. – Это ремарка.
– Ремарки полезны, – сказала Елена. – Особенно когда из них вырастают абзацы. – Она взяла другой конверт. На нём – пометка «камера хранения / V». Сердце в груди повело себя некрасиво: сделало лишний, неэтичный удар. Внутри – пара снимков, технических, снятых поверх коробок и замков. На одном – номерные таблички «I», «II», «III», «IV», «V». И ключи – на гвозде. Внутренняя логика круга становилась обидно видимой.
– Это когда делали инвентаризацию? – спросила Елена.
– Кажется, да, – кивнул Лавров. – После бури. Перед тем, как «заморозить». Тогда всё фотографировали – чтобы «если вернёмся». – Он вздохнул. – Не вернулись. По крайней мере – официально.
Она заметила у края стола ещё один тонкий конверт, неприметный, без подписи. В таких карманах обычно держат то, чему никакая подпись не помогает – просто «пусть будет». Елена раскрыла его и вынула один-единственный снимок. Он был тёмным и зернистым. На нём – пустая комната, в дальнем углу – зеркало, накрытое тканью. А спереди – стол, на нём – ложка, кружка, блик света и… – в левом нижнем углу, почти на рамке, – чья-то рука, попавшая в кадр. Ладонь длиннопалая, без ожогов, без мазолей. Кожа – чистая, сухая, но на подушечках – словно лёгкая соль. Елена подняла бровь: утро в порту снова вошло в комнату.
– Кто снимал? – спросила, не отрывая взгляда.
– Не знаю, – честно ответил Лавров. – Это уже из тех «ничьих» конвертов, которые живут в картотеках сами собой. – Он сделал шаг назад, как делает человек, у которого и так тесно в голове.
Елена сложила фотографии в ряд, как выкладывают парад офицеров перед проверкой. И тогда увидела деталь, которая пряталась, пока её не позвали. На одном из «семёрочных» кадров, на самом краю зеркала, где позолота съела дерево, была тонкая царапина – неправильная, как если бы кто-то пытался писать, но рука дрогнула. На увеличение это было просто «шрам». Но у неё в пальцах был «III» из лавки, «I» из конверта, «V» из жетона. И «семь» на обороте. Навык собирал ряд.
– Можно это забрать на час? – спросила она. – Под расписку, разумеется. Отсканировать, чтобы не травматично. Я верну сегодня.
– Я понимаю, – сказал Лавров. – Даже если бы не понимал, всё равно дал бы, – добавил честно. – Потому что вы пришли не «за мистикой». Вы пришли за порядком. – Он улыбнулся близко к усталости. – А порядок – единственное, что здесь ещё заслуживает уважения.
(Курсив: неизвестный наблюдатель, спускаясь в подвал своим маршрутом, где ступени знают его вес, подумал о том, что «порядок» – это то, что делает боль терпимой. «Семь мест», «семь зеркал», «семь букв». Он хотел написать ей записку – «смотри дольше» – но она и так уже смотрела. Он просто шёл, считая ступени: «раз, два, три, четыре…»)
– Ещё одно, – сказала Елена, когда они складывали конверты обратно. – Формально спрошу не сейчас, но… – она подняла глаза, – доступ в подвал сегодня возможен?
Лавров посмотрел в окно – на воду, которая будто притворялась небом.
– Формально – нет, – сказал он. – Не потому что «бумаги», потому что «невовремя». Там сейчас чинят вентиляцию. – Он чуть улыбнулся, – и когда «чинят вентиляцию», там всегда «не место». Неформально… – он вернул взгляд, – если вы будете рядом в шесть, я покажу вам дверь и ключ. Я не пойду внутрь – у меня пациенты. Но дверь – это уже много.
– Достаточно, – сказала Елена. – Спасибо.
И только тогда её рука потянулась к маленькой металлической коробке на краю стола – той, что выглядела чужой. Лавров отметил движение и хмыкнул.
– Там – пропускные цидулы для столовой, – объяснил он. – Ничего романтического.
Елена отдёрнула пальцы – не из вежливости, из дисциплины. И всё же отметила про себя: он видит мелочи. Это либо хороший врач, либо хороший игрок. Иногда – и то, и другое.
На выходе из картотеки Лавров задержался у «рапорта» о той самой «зеркальной фазе», словно не хотел уходить из комнаты, где всё сложено в ячейки. Потом повёл Елену другим коридором – «для персонала». Здесь пахло не камфорой, а свежей краской и мокрым картоном. Трубы вели куда-то вверх и вниз, как сосуды в организме. В узком просвете между двумя дверями был прозрачный пластиковый стенд, на котором висели «внутренние объявления». Елена пробежала глазами по ним, и вдруг – как будто раньше слова скрывали ключ – увидела листок с едва заметным оттиском штампа «архив». На нём – список: «фотофонд: комплект №7 – зал зеркал – хран. ед. 14, 15; «психокоррекция: группы – 199…»; примечание: «передано из отделения…» – слово было размазано водой. Внизу – подпись, от которой у неё ёкнуло: «А. Соколов». Рядом – карандашом, другой рукой: «проверил А. Л.». Лавров.
– Это… – начал он, но Елена не дала ему оговариваться.
– Это – просто факт, – сказала она. – Вы «проверяли» фонды. Логично. – И, чтобы снять с него вину за выжженные буквы, добавила: – Я бы тоже проверяла, если бы имела доступ.
– Я не прячу, – повторил Лавров, чуть устало. – Я берегу ту часть, которая ещё может не сломаться. Знаете, у нас здесь есть странная вещь: вещи ломаются от слова «смотри». – Он усмехнулся. – Вы улыбаетесь – вы это знаете.
– Знаю, – сказала Елена. – Но так же ломаются и легенды. От «смотри». – Она остановилась и посмотрела в окно лестничной клетки. Внизу тянулся пустой двор, где ветер гонял обрывки упаковочной бумаги с гербом санатория. Тот самый герб, что попался ей ночью в лавке Ирины. Круг замыкался не мистикой – логистикой.
Они вернулись к его кабинету. Елена поблагодарила коротко – она не любила длинных речей там, где работа ещё не сделана. Лавров задержал её на пороге одним вопросом – без подвоха, но с вниманием:
– Вы верите в «силу зеркал», Елена Викторовна? – спросил он. – Или это всё – только язык?
Она поставила ладонь на косяк и почувствовала под пальцами шероховатую краску – такую краску наносят, когда хотят, чтобы пальцы скользили меньше.
– Я верю в силу взгляда, – сказала она. – Зеркало – это просто поверхность, с которой проще не врать себе. – И, чуть повернув голову, добавила: – А ещё я верю в силу места. У вас тут – место. Он сюда ведёт не потому, что «мистика». А потому что здесь всё уже готово: воздух, запах, двери, фотографии. Ему тут легче считать.
Лавров кивнул – как человек, который услышал правду, которую давно подозревал.
– В шесть, – повторил он. – Дверь в подвал – с торца, где подъезд для поставок. Я оставлю замок открытым. Но… – он поднял пальцы, – одну вещь не забудьте: если вам показалось, что в стекле кто-то есть, это не значит, что он есть. Это значит, что вы устали. Или – что кто-то очень хорошо поставил свет.
– Я не устаю, – сказала Елена спокойно. – Я экономлю. – И вышла в коридор.
Вестибюль встретил её тем же пустым стуком батарей. Евдокия подняла глаза, и в них было то же любопытство, только теперь к нему примешалась оценка: «успела». Елена кивнула – «успела». У двери она задержалась ровно на ту секунду, которую дают себе те, кто возвращается за забытым – но ей ничего не требовалось. Она просто слушала здание. Из глубины шёл мягкий дуговой звук – тележка по плитке. По лестнице вверх – короткие каблуки. Где-то хлопнула форточка. Всё было обычным. Даже слишком.
На улице воздух был холоднее, а небо – чище. Елена обогнула корпус «А» и вышла к задней стене, к той самой рампе, о которой говорил Лавров. Металлическая дверь с широкой ручкой, краска облезла по краям, замок – свежий, на нём ни «соплей», ни налёта. Она коснулась пальцем – железо отдавалось теплом. Значит, его недавно трогали. Она запомнила это место телом – лучше, чем на карте.
В отдел она вернулась без поспешности – поспешность выдаёт, что у тебя что-то есть. В кабинете, прежде чем закрыть за собой, она разложила на столе снятые копии карточек и фотографии. Около каждого фрагмента написала тонким карандашом – «совпад» – там, где линии сходились. И тогда внизу стола, как будто сама, из-под папки «Методички», выехала тонкая серая папка с наклейкой «Фотокопии (разные)». Видимо, её кто-то подкладывал когда-то «на потом».
Внутри – несколько копий снимка, который она уже видела, но не держала в руках. Семь подростков у большого зеркала. На обороте – знакомая ей по ночи рука: «П.» – карандашом, неровно. И ниже – тонко, чужой графит: «Проверил. А.С.» – и дата. Елена на секунду услышала, как бьётся собственное сердце – не потому, что «мистика», потому что «подпись». Подпись – это тот же звук, что шаги за дверью: «я здесь был». Она села ровнее и положила снимок на середину стола, туда, где на доске уже висели слова «семь зеркал», «метки», «считает вслух».
Хук выстрелил не в коридоре, а на самой бумаге. Между «П.» и «А.С.» кто-то когда-то провёл ногтем – осталась еле видимая бороздка. По диагонали. Как привычка. Как знак.
Елена подняла голову, и в стекле окна, там, где отражается коридор, на миг показалась чья-то тень. Или просто лампа мигнула. Она не пошла проверять. Она взяла телефон и набрала коротко: «Андрей. Есть фото. Семь. Подпись А.С. Будь через час».
И положила ладонь на снимок – не чтобы греть, чтобы заякорить реальность. В этой истории всё ещё держала бумага. И это было её преимущество.
Глава 4
К вечеру город уселся в темноту, как в старое кресло: без сюсюканья, с тихим вскрипом. Двор дома Кравченко был глухим колодцем между стенами – стандартный советский прямоугольник, где мусорка прячется за ржавым сараем, а ветер учится свистеть на одном и том же окне. Елена поднялась на третий этаж, считая ступени так же, как считала сегодня даты и фамилии: не для успокоения – для порядка. На площадке пахло варёным картофелем и линолеумом, который моют солью. Дверь нужной квартиры выглядела тугой: новая накладка замка, старые вмятины рядом. Глазок тёмным кружком смотрел на мир, ничего не обещая.
Открыл мужчина с крупными плечами и слишком тонкими запястьями – словно на него однажды надели неправильную одежду, и он с тех пор носит в себе этот дисбаланс. Олег Кравченко никуда не пригласил взглядом, просто отошёл вглубь и сказал: «Проходите». Голос – ободранный, без приветствий.
Кухня была узкая и тёплая, как ладонь. На столе – кружка с недопитым чаем, в блюдце – два сахарных кубика, один раскрошен. Холодильник старого типа, на нём магниты с видами городов, в которых они, скорее всего, никогда не были. Слева – дверной проём в комнату, откуда пахло пылью и чем-то сладким, возможно – мелиссой. В глубине шевельнулась Марина – сестра, похожая на Олега тем, как держит плечи: будто ждёт удар, но не отходит.
– Мы недолго, – сказала Елена. – Нужно уточнить детали по тем давним «занятиям» в санатории. И – поговорить о сегодняшнем.
Олег усмехнулся так, будто слово «сегодняшнее» ему не нравится – слишком длинное для их действительности.
– У нас нет «деталей», – сказал он. – Мы не любим вспоминать. – Он посмотрел на Мариныну ладонь – та сжала край халата – и смягчился на полтона: – И мы ничего не видели.
Елена не стала спорить. Здесь работало другое: не «вспомните», а «покажите». Она сделала шаг в комнату. Квартира была из тех, где мебель стоит по внешней логике, а вещи – по внутренней. На стене, напротив окна, висело старое зеркало в резной раме – дерево потемнело, позолота местами слезла. Трещина шла от верхнего левого угла к середине, как молния, застывшая на сухом небе. Внизу, на кромке, иголкой – или гвоздём – выцарапана римская «IV». Неглубоко, но уверенно.
– Это давно у вас? – спросила Елена, не меняя голоса.
Марина на миг перестала дышать, словно Елена коснулась не зеркала, а ребра.
– Домашнее, – сказал Олег. – Дедово. В деревне было. Потом сюда привезли. – И, видя, что Елена не отводит взгляд, добавил: – Надпись не мы делали. Была. В сарае валялось, мыть начали – нашли. А трещина… – он развёл руками, – когда переезжали, углом зацепили.
Елена подошла на шаг. В трещине темнела старая амальгама, крошечные островки серебра поблёскивали. Рука тянулась – привычка – но она удержала. «Не трогай стекло», – всплыло Иринино. Она присела, чтобы увидеть кромку под углом. Гравировка «IV» выглядела свежей только по сравнению с остальным – на самом деле ей было много лет. Делали не ребёнком, рука была тверда.
– Вы же знаете, – сказала Елена мягко, обращаясь к обоим, – что у вас висит не просто зеркало. – Она обернулась на фото над комодом. Там – школьная линейка, дети с бумажными журавлями, директора, вечно одинаковые. Выше – ещё одно: семь подростков у большого зеркала. Кадр, тот самый. Олег на фото – сутулый мальчишка, который научился держать голову высоко, только когда вырос.
– Андрей прислал? – Олег поднял подбородок, взгляд стал острым. – Журналист. Он говорил, что «это важно для истории города». История города – у нас в подъезде воняет кошками. А это – не история. Это – мусор. – На слове «мусор» в голосе прозвенело – металл, спрятанный под мягкими словами.
– Прислал «П.», – сказала Елена, не склоняясь к лишней конкретике. – И подпись «А.С.» – «проверил». – Она повернулась к Марине: – Вы помните зал? Рамы, свет, тишину?
Марина мотнула головой, одновременно и «да», и «нет».
– Там было холодно, – сказала она. – И пахло, как в больнице. И… – она искала слово, – и как в церкви. Не потому, что кадило. Потому что все хотели молчать одинаково.
Олег шагнул ближе – между Еленой и Мариной.
– Давайте без этого, – попросил. Не угрожал, не приказывал – попросил так, как просят не пинать пса.
Елена кивнула.
– Я вас не давлю, – сказала она. – Но мне нужно знание простых вещей. Тогда и сейчас. – Она отошла от зеркала, села на край стула, чтобы не нависать. – Вам известны имена тех… – она подбирала слово, – кто ещё был «в вашей семёрке»?
Олег усмехнулся безрадостно.
– Вы же их уже знаете, – сказал он. – Вы пришли не за именами, а – чтобы посмотреть, как мы их произносим. – Он взглянул на стену, где висел тот самый снимок. – И – сколько нас осталось.
– Сколько? – спокойно повторила Елена.
– Двое – не с нами, – сказала Марина, прежде чем Олег успел её остановить. – Я видела фотографии на доске у вашего… у журналиста. – Её голос дрогнул, но не разбился. – Значит… – она во рту перевела про себя арифметику, – двое. Остальные – где-то.
Елена не отводила взгляда.
– Цикл продолжается, – сказала она тихо. – Вы это тоже понимаете. И я не буду убеждать вас рассказывать то, к чему вы не готовы. Но скажу прямо: тот, кто «считает», пишет на стенах. И приходит к воде. – Она указала на «IV». – И он видит такие метки. Даже если говорит, что не верит.
Марина подошла к окну и отогнула прозрачную занавеску – там темнел двор, где одинокая кошка пыталась поймать тень от собственного движения.
(Курсив: неизвестный наблюдатель стоял во дворе, под тем самым окном, но не поднимал головы. Он смотрел в лужу, где отражались пять квадратов света – чужие кухни. «Четыре», – подумал он, глядя в свою тень. – «Потом два». Цифры у него жили не в голове – в пальцах.)
– По делу, – сказал Олег, сдерживаясь. – Что надо? Прямо.
– Осмотрите, пожалуйста, комнату. На предмет чужих меток, – отвечала Елена. – Вчера – сегодня – ближайшие дни. Подоконники, дверные косяки, задник рамы. Если увидите «I», «II», «III», «IV» – не трогайте. Обзвоните меня сразу. – Она написала свой номер на отрывном листке, положила на комод, рядом с потрескавшейся вазой. – И… – она на секунду позволила себе лишнее, – поставьте ночью в окно стул. Не для красоты. Для звука.
– Для звука? – Марина повернулась.
– Чтобы слышать, если кто-то полезет, – объяснила Елена. – Дерево гудит раньше стекла.
Олег кивнул – слишком быстро, чтобы это было «согласие», но достаточно, чтобы это стало «действием».
– Мы останемся ненадолго, – сказал он. – У нас есть чай.
– У вас есть память, – сказала Елена – без обвинения, как факт. – Чай – это хорошо.
Чай оказался терпким, с чабрецом; в нём был привкус горечи, как в разговоре, который ты не хочешь вести, но всё равно ведёшь, потому что молчание делает хуже. За столом Олег сел так, чтобы видеть обе двери. Марина – между Еленой и окном; она всё время трогала край занавески, как будто гладила кошку. На стене тихо тикали часы – старые, с потёртым циферблатом. Это «тик» стал мерить слова.
– Мы в санаторий ходили не «лечиться», – начал Олег, не глядя на Елену. – Нас туда «звали». В школе. Говорили – «психологический тренинг». У кого – «поведение», у кого – «замкнутость». – Он сделал глоток чая так, будто хотел обжечься и не смог. – Первый раз было смешно. В комнате темно, нас семеро, зеркала большие. Сидим. Смотрим. Он – ходит. – Олег не произнёс имени, но в воздухе и так было «Соколов». – Он говорит: «Давайте честно». Кто-то смеётся. Кто-то – показывает фигу в кармане. Кто-то – действительно смотрит. Потом – кто-то плачет. И так неделю. А потом – буря. – Он посмотрел на Елену. – Вы про бурю всё знаете.
– Меньше, чем вы, – честно сказала она.
– Знаете больше, – сказал он, и в его голосе впервые появилось уважение к тому, что она не пугается. – На второй неделе двое не пришли. Один – ушёл к воде. Другого – увезли. Потом – ещё двое. Остались – трое. – Он улыбнулся так, будто в этот момент вспомнил чувство – не конкретно то, а общее: как будто тебя выбрали в игре. – Мы думали – нас «оставили». На самом деле – мы «остались».
Марина слушала, не мешая, и иногда невольно кивала – старому ритму – «семь, пять, три». Её голос снова вошёл в разговор мягко, как в воду заходят по камням:
– А потом всё закончилось, – сказала она. – Бумаги куда-то уехали. Сказали: «проект закрыт». И нам стало легче. До… – она осеклась.
Елена не подталкивала. Она просто наклонилась к зеркалу – не к тому, что на стене, к одному из врагов легенды – к благому смыслу. Иногда простой вопрос возвращает конкретику.
– Почему держите это зеркало? – спросила. – Раз это «дедово». Можно же и снять.
Марина на секунду улыбнулась – впервые.
– Оно оберегает, – сказала она нелепо и тут же покраснела. – Я знаю, что это звучит глупо. Но если оно висит – в доме тише. Когда иногда не висело – было… шумно.
– Шумно – это как? – мягко уточнила Елена.
– Сны, – ответил Олег за неё. – И шаги в коридоре. И вода. Вода, которая не течёт, но громко. – Он сжал пальцы – в этом жесте было много лет. – Мы же не шарлатаны. Мы просто – хотим тишины.
