Вечера на Карповке
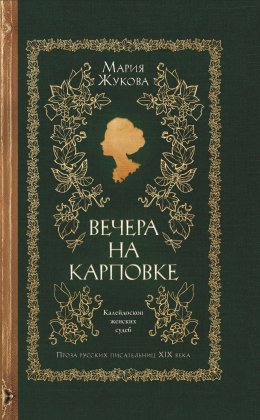
Серия «Из жизни благородных девиц»
Автор идеи серии Наталья Артёмова
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 АЗБУКА®
Часть первая
Жуковский
- Дедушка, сядь к нам, голубчик!
- Сядь, расскажи нам, как
- помнишь, когда сестра Маргарита
- Чуть не заснула.
Северная природа в прошлом 1836 году, столько страшном в предсказаниях, как бы соображаясь с угрозами предвещателей, была скупа на ясные дни. Непрестанные бури, дожди, солнышко ленивое, редко выглядывавшее из-за туманных покровов своих, темные ночи и безвкусные поздние плоды – вот все, однако ж, чем окончились опасения, с которыми многие ожидали его. Впрочем, несмотря на дурное лето, окрестности Петербурга не были пусты; острова, дачи, деревни – все было наполнено переселенцами из столицы, все кипело жизнию и многолюдством, и стук экипажей не умолкал на Каменноостровском проспекте. Не раз милые обитательницы красивых, полувоздушных дач, просыпаясь утром с различными планами и надеждами в голове и увидя сквозь кисейные завесы окон свинцовое небо и березы, склоняющиеся под усилиями дождя, закутывались снова в одеяла и подушки, браня и климат, и Петербург, и целый свет. Хорошая надежда для горничных и мужей – подобное пробуждение! Должно признать, что погода имеет большое влияние на домашнее, особенно на супружеское счастие.
Но иногда после ненастного, несносного утра солнышко, как своенравная красавица, являлось под вечер во всем блеске лучей своих, и тогда всеобщее движение оживляло острова. Коляски, кареты, кабриолеты летели по мостовым, толпы гуляющих пестрели по садам, балконы обращались в гостиные, целые семейства спешили с самоварами, кучею детей и нянюшек на Крестовский или в гостеприимный сад графини Л…, располагались на скате холма или под густыми липами на самом берегу с холодным ужином, мороженым, чаем. Там встречались и добрая семья немецкого ремесленника, и веселое общество молодых чиновников, и русский купец с женою и детьми всех возрастов, и двое молодых художников, толкующих о предстоящей выставке, и щегольская мантилья светской красавицы, и красивое канзу горничной девушки. Я любила эту разнообразную картину и часто пользовалась ею, проводя почти все вечера у одной из наилучших знакомых моих, занимавшей дачу на берегу Карповки. Наталья Дмитриевна Шемилова, женщина лет под шестьдесят, небольшого роста, с ясными голубыми глазами, бледная и белая, как старушки на картинах Грёза, всегда в белом тюлевом чепчике, из-под которого виднеются сребристые волосы, в батистовом воротничке, блиставшем белизною и опрятностью – кокетством старости, – всегда веселая и приветливая, казалась мне одною из тех немногих женщин, которые, сойдя со сцены большого света, где блистали в молодости, уносят с собою в уединение приятность обращения светских дам, кучу воспоминаний и ум, предохраненный добродушием от той едкости суждений, которая часто у этих ветеранов гостиных бывает следствием скуки, сожалений об утраченной молодости или обманутого самолюбия. Переселясь на дачу по совету доктора, она мало пользовалась так называемым деревенским воздухом как по причине дурного времени, так и по слабости своего здоровья и жила в небольшом кругу друзей, собиравшихся к ней всякий вечер. Когда тишина полудня и теплота воздуха вызывали из комнат ленивейших из любителей диванов, она выходила, опираясь на руку Любиньки, семнадцатилетней племянницы своей, в небольшой садик, окруженный перед окнами цветущими кустарниками и кудрявыми липами, садилась на скамью и любовалась светлою речкою, которой волны сверкали сквозь сетку листьев, пестрыми толпами гуляющих и шумными играми детей, резвящихся подле решетки садика. Когда же холодный ветер или сырость удерживали больную в покоях, Любинька разводила сама огонь в камине; доктор, ворча против любителей нововведений, несродных нашему климату, как говорил он, отодвигал подальше от камина большие, обитые темно-зеленым сафьяном кресла, в которые усаживал свою больную. Подле нее за пяльцами садилась Любинька, девушка с полными розовыми щечками, на которых непрестанно играли две красивые ямочки; с растянутыми, несколько калмыцкими глазками, придававшими особенное выражение добродушия ее личику; словом, с одною из тех детских физиономий, в которых смешанные и неопределенные черты заставляют вас улыбаться своею неправильностию и привлекают выражением младенческого добродушия. Она была последним залогом дружбы, вверенным Наталье Дмитриевне умершею рано сестрою, страстно любимою.
Обыкновенное общество Шемиловой составляли: доктор, старичок веселый, почти квадратный, вспыльчивый до бешенства с больными, выходившими из повиновения, и добрый до слабости с здоровыми и друзьями. Веселый, открытый взор его показывал в нем человека, у которого страсти и обязанности редко бывали во вражде и который в часы отдыха любил побеседовать, потолковать с друзьями. Давно уже он был врачом и поверенным душевных и телесных болезней Натальи Дмитриевны, которая любила его, как ближнего родного. Привязанность старых людей не бывает столь горяча, как в молодости, когда воображение составляет главное основание почти всех связей; и потому молодые люди почитают обыкновенно чувствования свои гораздо сильнейшими, чем они суть на самом деле, и удивляются, когда небольшая размолвка, недоразумение, разлука изглаживают самые следы их; между тем как старость, которой чувствования основаны большею частию на привычке, любит, не постигая сама всей силы своей привязанности. Она, так сказать, срастается с жизнию ее, как повилика, которая сплетается корнями с другим растением и так обвивает их своими гибкими плетями, что, желая разделить их, должно оба вырвать с корнем. И не раз видали, что пожилые люди, соединенные дружбою, которой силы сами не подозревали, не переживали друг друга: с одним умирала половина жизни другого. Такого рода была привязанность Натальи Дмитриевны к доктору. Видеть его каждый вечер против себя, по другую сторону стола, в больших креслах, сложа одну ногу на другую и подпирая палкою с серебряным набалдашником подбородок, было для нее необходимостию. В восемь часов она уже начинала прислушиваться к стуку колес на улице. Слух ее, еще довольно хороший, привык отличать от других карету доктора, которая постоянно в течение пятнадцати лет останавливалась около этого времени у ее подъезда. Самовар уже кипит на столе: доктора всегда ожидают к чаю.
– Любинька, посмотри, который час? – говорит Наталья Дмитриевна и через пять минут становится уже беспокойною. – Верно, есть какой-нибудь очень трудный больной, как ты думаешь, Любинька? Или уж не болен ли сам Иван Карлович? – Она не вслушивается более в разговоры других, взоры ее обращены к дверям. – Не послать ли спросить, Любинька? – Любинька улыбается и не трогается с места.
Наконец кто-то подъехал. В передней слышится знакомый голос. Иван Карлович входит, и Наталья Дмитриевна, оживая, складывает вязанье в корзинку и взором спрашивает у доктора отчета в его замедлении. Она не уснет покойно, если, отходя в свою спальню, не услышит привычного: «Спите же с богом!»
Другой, не менее любимый ею посетитель был Проновский, мужчина лет сорока пяти с приятною наружностию и достатком, позволявшим ему вести независимую жизнь в столице; холостой, не знаю, вследствие ли особенных правил или по какому-нибудь случаю, он никогда не говорил о том. Это был один из тех людей, которые редко мыслят вслух, еще реже говорят о себе самих, уклоняются шуткою от решения важного вопроса или довольствуются изложением чужих мнений со всем, что можно сказать pro et contra[1], сохраняя полную доверенность свою для немногих друзей. Впрочем, он жил, как практический философ, которому везде и все хорошо.
Часто также бывал за вечерним чаем Натальи Дмитриевны сосед ее по деревням, Горский, приехавший в столицу по делам. Он много путешествовал по России и в чужих краях, любил родину с жаром юности, неохотно верил дурному и в случае очевидности прикрывал его, как мать – погрешности сына, надеждою исправления. Он имел друзей, потому что верил возможности иметь их, и не был взыскателен.
Третий из обыкновенных собеседников наших был племянник Проновского, артиллерийский офицер с едва прорезавшимися усиками, черными глазками и смиренною улыбкою. Старушка наша называла его своим Дон-Жуаником, не знаю почему. Горский говаривал, что привычка оценивать людей дает пожилым людям взгляд, который безошибочно почти определяет характеры по немногим данным так, что это кажется в них каким-то инстинктом, который редко обманывает их. Вельский, так звали офицера, всегда садился возле пялец Любиньки и даже, кажется, учился шить; впрочем, я мало занималась ими. Не стану упоминать о прочих гостях вечернего нашего кружка; он был невелик, но искренность и привязанность к хозяйке господствовали в нем.
Иногда друзья Натальи Дмитриевны знакомили ее с новою литературою и читали ей попеременно повести Бальзака, Жаненя, Масона и других новейших писателей. Особенно любила она русские повести, и новые сочинения Марлинского, Белкина, Безымянного и других писателей наших возвещались с торжеством в ее гостиной. Однажды в пасмурный вечер по окончании чтения, между тем как Любинька разливала чай и Вельский прислуживал ей, Наталья Дмитриевна, против обыкновения, не сказала ни слова ни в похвалу, ни в порицание читанной повести и задумчиво смотрела на перебирающийся в камине огонек, между тем как другие толковали о направлении нынешней литературы.
– Вы ничего не говорите, Наталья Дмитриевна, – сказал доктор, – вашего мнения недостает нам.
– Я думала, мой любезный Иван Карлович, что, судя по множеству новых имен, непрестанно встречающихся во французской литературе, можно бы было предположить, что французы почитают для себя обязанностию при малейших средствах заплатить хотя однажды дань любопытству публики, отдавая на суждения ее плоды трудов своих, забавы досугов или воспоминания, собранные в путешествиях и в разных случаях жизни. Почему нет этого у нас?
– Можно бы многое сказать на это, – отвечал доктор, смотря в камин и играя толстою палкою с серебряным набалдашником. – Многие ссылаются на холодность публики к русским сочинениям.
– Однако все хорошие приняты с удовольствием.
– Но кто может быть уверен, что опыты его понравятся?
– Послушайте. Если всякий захочет, чтоб первое сочинение его было образцовым, то писателей будет немного. Ломоносов начал, подражая Тредьяковскому, Богданович – мадригалами и поэмою «Сугубое блаженство», теперь забытою; творец «Российской истории» – «Бедною Лизою». Нельзя надеяться первым опытом поставить имя свое наряду с именами знаменитых талантов. Пусть пишут; труд прилагает дорогу к цели. Нет, у нас мало любят заниматься словесностью. Иным недостает средств, другим доброй воли. Откуда читали вы повесть, г-н Горский?
– Из «Les cent et un»[2].
– Ну, посмотрите, сколько и здесь новых писателей! Но все же начали образцовым, но, как знать, чем будут многие из них? Небольшой успех возбуждает талант; бездейственность убивает его. Кто из нас не уверен в этом? Нет, грустно думать, что у нас как бы пренебрегают словесностию; пишут так немногие и так неохотно, между тем как русский язык богат и русский быт не лишен поэзии. Я уверена, что каждый из нас, если только захочет порыться в памяти, то найдет в ней многое слышанное, виденное; происшествия, в которых был сам действующим лицом или зрителем, – словом, что-нибудь, могущее приятно занять праздную лень полубольного или досуг деревенского жителя. Не правда ли, мой любезный доктор? Вы, которые имеете более других дел с поэзиею человеческих страстей, скажите, не справедливо ли мнение мое?
– Может быть, сударыня, может быть; но я и поэзия, мы давно подписали формальный развод. Я живу в мире действительном, следовательно, в мире страданий.
– Но страдания физические, – заметил Проновский, – бывают часто только признаком других, которых корень сокрыт глубоко в душе. Чтобы с пользою врачевать первые, должно нередко узнавать последние.
– Правда, но это отвлекает нас от нашего предмета. Я хотел сделать вам предложение, Наталья Дмитриевна. Обложите данью друзей ваших: пусть каждый, хотя раз в неделю, принесет вам повесть, которой основание должен взять из своих воспоминаний, но с условием, что они должны ограничиваться отечеством.
– Прекрасно, Иван Карлович, – сказал Проновский, – вот средство доказать, что многие имеют недостаток не в одной готовности. Я с удовольствием соглашаюсь, только с тем, чтоб Наталья Дмитриевна подала нам пример.
– И не далее как теперь, – прибавил Горский.
– Друзья мои, – сказала Наталья Дмитриевна, – вы столь снисходительны, что я готова сделать все, чтоб доказать вам мою признательность за ваше намерение.
– Вы, может быть, поплатитесь небольшою скукою за наше снисхождение, – сказал с улыбкою Проновский, – всякий из нас принесет только посильную дань…
– К которой вы, однако же, будете иметь время приготовиться, – прервала Наталья Дмитриевна, грозя пальцем, – меня же вы ловите врасплох.
– Это непременное условие нашей покорности, – сказал Горский. – Вот моя чашка, m-lle Aimée[3], я, кажется, последний. Поскорее уберем самовар, столик; вы – за пяльцы, а мы поближе к Наталье Дмитриевне.
Стулья застучали, все придвинулись к столику Натальи Дмитриевны. Любинька села за пяльцы, поглядев значительно на артиллериста, который не замедлил завладеть пустым стулом, находившимся против пялец ее, прося позволения посмотреть, каким чародейством рождаются цветы под рукой ее.
– Быть по-вашему, – сказала добрая старушка наша, положа на стол свое вязанье. – Послушаюсь вас, чтоб не оставить вам отговорки. Но наперед предупреждаю вас, что сценою моею будут не залы большого света. Молодость моя прошла большею частию в деревне, а вы знаете, что старые люди любят останавливаться на этой эпохе.
Предупреждаю читателя, что, пользуясь особенною благосклонностию Натальи Дмитриевны, я получила «позволение собрать и издать в свет повести, которые слышала в гостиной ее». Я не переменила в них ни одного слова и выдаю так, как они были написаны для больной старушки. Продолжение будет зависеть от внимания, которым удостоит публика первый труд мой.
Инок
Boiste[4]
- Le jaloux est un enfant, qui
- s’effraie des monstres, crées dans
- les tenebers, par son imagination.
Жуковский
- Убийца с той поры томится
- И ночь и день;
- Повсюду вслед за ним влачится
- Алины тень.
- И говорит ему с упреком:
- «Невинна я».
Я сказала уже вам, что провела почти всю молодость в одной из отдаленных от столицы губерний. Деревня, в которой жили мы, отстояла верстах в двадцати от уездного города, но местоположение его было так высоко, что мне нередко случалось из окон дома нашего любоваться светлыми маковками колоколен, когда, освещенные лучами заходящего солнца, они рисовались белыми призраками на синих тучах, облегавших горизонт. Это был небольшой, хорошенький городок на высокой горе, омываемой речкою, которая многочисленными изгибами отделяла от него прекрасное село одного из богатейших наших помещиков. Красивая церковь, в которую я часто заходила, чтоб любоваться образом распятия итальянской работы, подаренным церкви отцом нынешнего владетеля, одним из вельмож двора Екатерины Второй, находилась подле самого моста, перекинутого через весь луг с его змеистою, светлою речкою и соединявшего город с селом, которое служило ему как бы предместием. В летние жаркие дни жители находили приятное гулянье в саду, разведенном помещиком, некогда жившим тут и повсюду оставившим следы барской жизни роскошного хозяина. Белые зубчатые стены монастырей с их башнями и каменными кельями, множество также каменных обывательских домов с их темными садами, куполы церквей и светлые шпицы колоколен придавали городу, особенно издали, действительно прекрасный вид; многочисленные же заводы, рассеянные по берегу реки, казались пестрою каймою, окружавшею подошву горы, которая служила ему как бы пьедесталом.
Главное население города составляло купечество, деятельное, оборотливое, трудолюбивое, между которым были люди, истинно понимавшие важность и достоинство своего сословия и, несмотря на просвещение, которого цену начинали уже узнавать, не пренебрегавшие патриархальными правами отцов своих. Я, право, не слыхала там гибельных, по мнению моему, примеров, которые так часто подают молодые люди, которые, несмотря на пример отцов, впадают в роскошь и перенимают нравы и пороки высшего сословия, не будучи в состоянии ни по положению своему, ни по воспитанию вступить в круг благотворной деятельности, свойственной ему, ни присвоить добродетели, составляющие его принадлежность; ибо всякое звание, вы согласитесь со мною в том, имеет добродетели и пороки, ему единственно свойственные; к несчастию, последние всегда перенимаются легче. Что ж выходит из того? Несчастные бьются изо всех сил, чтоб попасть в общество, где бывают последними, тогда как могли бы быть первыми в своем кругу; предоставляют приказчикам свои торговые обороты, столь полезные отечеству, бросают фабрики, мануфактуры или не радеют о них; женятся на дворянках, которые посматривают косо на своих бородатых дядюшек, платят наличными деньгами за честь иметь знатное родство и наконец разоряются! И все это – из пустого титла без существенных выгод или легко заменяемых. Там этого не было слышно; банкротства были редки; купечество любило свое состояние, но главною чертою, отличавшею его, была набожность, которой церкви были обязаны своим богатством, а город многими благотворными заведениями. Убогая, одинокая старость находила пристанище в доме призрения, выстроенном одним из благородных членов этого сословия; виновная, несчастная мать в осеннюю бурную ночь не блуждала с отчаяньем по берегу реки с дитятею на руках; со слезою благодарности и благословением в устах приносила она обреченное несчастию с самого рождения дитя в воспитательный дом, основанный тем же почтенным гражданином. Если я прибавлю несколько слов о школе живописи, которой произведения принимаются с похвалою на нашей столичной выставке художеств, вы узнаете мой маленький городок и, может быть, засвидетельствуете, что все сказанное мною не есть выдумка, но истина, которую подтвердят многие.
Изобильные базары, торговля, особенно монастыри, привлекали часто окрестных жителей в город; особенно уважаема была небольшая пустынь в трех верстах от города, на вершине горы, со всех сторон покрытой липовым и дубовым лесом и возвышавшейся посреди низменных лугов, понимаемых весною разливом реки и доставлявших городу богатые сенокосы. Я была еще молода тогда; археологические сведения мало занимали меня, и потому не могу вам сказать, когда и кем построена была эта пустынь. Я любила теряться в темной роще, окружавшей стены ее, любоваться тенистыми липами, рвать ландыши, которым подобных, право, нигде не видала. Вы смеетесь? Ах, вы правы, друзья мои! Я смотрела тогда на все глазами юности.
С каким удовольствием сиживала я, бывало, на каменном, поросшем мхом и по местам травою крыльце, с левой стороны большого собора, проникая взором в эту мирную, безмятежную, по-видимому, жизнь инока, не знаю, чуждую ли страстей мирских и воспоминаний, по крайней мере огражденную от шума света и притязаний его. Ряд келий с маленькими палисадниками, цветочными горшками и жирным белым котом в окнах; влево от святых ворот кельи настоятеля с большим цветником чистый двор, покрытый свежим лугом, по которому вьются тропинки, проложенные братиею, могильные памятники около церкви и темные вершины лип, возвышающиеся из-за кровель келий и зубчатой стены, – все это вливало в душу какое-то спокойствие, смешанное с грустию, и как бы отделяло ее от мира, оставленного у подошвы горы. Много приятных часов провела я в этой пустыни, в беседе настоятеля, умного, образованного человека, знавшего свет и сердце человеческое. О, я никогда не забуду его… но, друзья мои, эти подробности, приятные мне, могут наскучить вам. К несчастию, мы всегда забываем, что чародей-воспоминание представляет прошедшее наше прелестным для нас одних, и оттого-то друзья наши бывают так часто жертвами нашей словоохотливости. Впрочем, вините сами себя: зачем было давать волю говорить старушке: вы знаете, как они болтливы, особенно когда дело идет о милой старине! Но я постараюсь исправиться.
Однажды я приехала в пустынь перед самою вечернею. Зная, что увижу настоятеля в церкви, я пошла прямо туда, но в ней еще никого не было. Не знаю, какое непостижимое чувство наполняет всякий раз душу мою, когда мне случается быть в пустом храме. Находясь одна посреди обширного здания, в котором не раздается ни один звук, никакой шум жизни, оставленной за порогом, я совершенно теряюсь в чувстве благоговения, объемлющего душу мою. Этот таинственно затворенный алтарь, безмолвие и тишина церкви, эта величественная мрачность сводов – все говорит мне о присутствии бога, все напоминает, что я в храме его, где совершается чудное таинство завета и где молитва соединяет смертного с непостижимым творцом его. Но никогда так сильно не чувствовала я подобного впечатления, как в этот раз. Умирающий свет дня проникал в окна храма, и лучи заходящего солнца, вливаясь огненным потоком во внутренность его, исчезали постепенно в глубине. Я остановилась у левого придела, выстроенного печальной матерью в память дочери, составлявшей утешение ее старости и похищенной неумолимой смертию в полном цвете лет, и здесь, в сем месте, посвященном смерти, где все говорило о жизни за гробом, мысль моя безбоязненно проникала в таинства могилы, приподнимая страшные покровы смерти. Покровы страшные, друзья мои, в старости еще более страшные для нас. Молодость доверчива и полна надежд – мрак грядущего не устрашает ее; к тому же она не сделала еще такой привычки к своей темнице, как мы. Иное дело старость: жизнь мила нам тем более, что она уже ускользает и ускользает видимо. Ах! последнее прости миру и друзьям тяжело…
– Что же, Наталья Дмитриевна, – сказал доктор, – вы стояли у левого придела.
– Да! легкий шорох в дверях привлек мое внимание; я оборотила голову – это был монах, которого я никогда еще не видала в обители. Он шел медленно, по направлению солнечного луча, проникавшего в дверь; высокий клобук, покрытый черным крепом, и длинная, до самого полу, монашеская ряса с широкими рукавами придавали ему рост сверхъестественный. Мертвая бледность до половины закрытого лба и выдавшихся скул еще более увеличивалась темно-каштановыми волосами, которые густыми волнами рассыпались по плечам его; глаза его были опущены в землю, и длинные ресницы совершенно закрывали их. Несмотря на чрезвычайную худобу, черты его были прекрасны, но впалые щеки, глубокие морщины, кажется, преждевременно покрывшие чело его, молодое, но заклейменное страданием, мертвая неподвижность верхней части лица, тогда как судорожное движение искривляло по временам рот, почти закрытый длинными усами, – все это придавало физиономии инока что-то страшное. Вид его сделал страшное впечатление на душу мою: казалось, это был жилец темницы, безропотно и безнадежно ожидающий конца страданиям, чтоб перейти к другим, может быть, большим. Как будто роковая тайна тяготела над ним: это было воплощенное страдание. Он тихо поворотил к правой стороне и остановился за клиросом. Между тем церковь наполнилась; священное пение началось, и душа моя, вместе с голосами согласного хора, вознеслась с чувством живейшего умиления к престолу благодати. Я забыла инока, но, когда последние звуки божественной песни исчезли под сводами храма и тихий голос чтеца один раздался в священной тишине его, мне послышалось легкое стенание. Я оборотила голову – чудный инок стоял на коленях; голова его была закинута назад, и страшные судороги искривляли все черты его, представлявшие вместо прежней неподвижности целый ад человеческих страданий. Он то плакал, то молился, то бил себя руками в грудь, то дико смотрел в землю, и тогда только судорожное движение губ обличало в нем жизнь; то вдруг повергался на пол, и глухие стенания исторгались из груди его. Я не слыхала окончания службы: вся душа моя была обращена на картину страдания, бывшую перед глазами моими. Я не смела дышать и еще стояла, устремив взор на несчастного, когда голос настоятеля возбудил мое внимание. Он предлагал мне воспользоваться прекрасным вечером и посмотреть его фруктовый сад. Мы пошли, но на сей раз напрасно было красноречие его: я не внимала ему. Таинственный инок занимал всю душу мою. Настоятель улыбнулся.
– Что с вами сделалось? – сказал он. – Ни прививки мои, ни отводки, ни молодые вишенки – ничто вас не занимает! ни даже эти чудные ирисы; посмотрите, как хороши!
Я наклонилась, чтоб понюхать цветы.
– Да они без запаха, – сказал он, смеясь, – и вы это знаете, потому что вы же подарили мне их! Я вижу, что занимает вас, и, к несчастию, не могу удовлетворить вполне вашего любопытства; но пойдемте в кельи, я расскажу вам, что знаю.
Я последовала за ним и, между тем как он вышел, чтоб отдать какие-то приказания, я подошла к окну. Солнце уже село, и сияние зари одно освещало белые стены храмов и надгробные памятники, их окружавшие. По тропинке, ведущей к монашеским кельям, медленно двигалась черная тень: я узнала моего таинственного инока.
Когда служка, подававший нам чай, молодой мальчик с белокурыми кудрями по плечам и подпоясанный ремнем, вышел с низким поклоном, я напомнила настоятелю о странном иноке.
– Я ничего не могу сказать вам о нем положительного, – начал он, помолчав несколько. – Я застал его уже здесь по вступлении моем в обитель. Он сын очень богатого купца (он сказал мне имя его), был женат и, говорят, по склонности, на бедной, но прекрасной девушке. Лет десять тому назад, как она умерла скоропостижно, никто не знает отчего; вы знаете, что предрассудки заставляют этих людей почитать вскрытие тела каким-то бесчестием. Впрочем, подозревать было некому: она была сирота, да и семейство мужа ее было известно как примерно согласное, благочестивое, и многие ставили в пример любовь двух молодых супругов. Он, говорят, не плакал на похоронах, но мрачно шел за гробом, сложа руки на груди; когда же должен был подойти к покойной, чтоб отдать последнее целование, то упал возле гроба с страшными конвульсиями, и с тех пор ему навсегда осталось это судорожное движение рта, которое вы, может быть, заметили. Напрасно мать, отец, родные старались развлечь его: ничто не могло вывести его из мрачной бесчувственности. По целым дням сидел он молча, часто уходил на могилу жены, которая похоронена здесь, вот видите по правую сторону алтаря эту чугунную доску, обсаженную кустарниками, – продолжал настоятель, показывая мне на один из многочисленных памятников, рассеянных около церкви. – Он приходил сюда каждый день пешком, плакал и молился на могиле, не говорил ни с кем ни слова, и часто братия, идучи к заутрене, находили его без чувств на камне. Наконец он совсем поселился здесь; был несколько лет тружеником и за примерное житие удостоен монашеского образа. Никто не видывал его за монастырскою оградою; никто не слыхал, чтоб он говорил с кем бы то ни было из посторонних. Он носит тяжелые вериги; за трапезою ничего не употребляет, кроме хлеба и воды; всякую службу молится до исступления, как вы видели его сегодня, так что ему не позволяют ходить за позднюю обедню, особенно в праздники, чтоб не обратить на него общего внимания. Все ночи проводит он на могиле жены, и только мои приказания препятствуют ему исполнять этот, кажется, добровольно данный обет в продолжение зимних морозных ночей или осенних непогод. Что причиною подобного самоотвержения, благочестие ли, скорбь ли об утраченной или обет, исторгнутый угрызениями совести, я не могу вам этого сказать: это тайна между им и небом. Я удивляюсь его бедственной, страдальческой жизни, обреченной скорби и благоговею перед твердостию его, кажется, не свойственною человеческой природе, не подкрепляемой свыше, как то свидетельствуют благочестивые отшельники Фиваиды и российских обителей, которым нужна была помощь высшая, чтоб переносить подобные страдания.
Говоря таким образом, мы вышли из кельи; подойдя к калитке святых ворот, настоятель остановил меня.
– Посмотрите, – сказал он, – вечернее правило кончилось; братия разошлась по кельям, и вот он идет на всенощное бдение свое.
Я оглянулась: медленно и потупя голову, печальный инок подходил к ограде памятника; месяц одевал таинственным светом монастырские стены, при неверном сиянии его стан инока казался еще выше; черная тень длинною полосою предшествовала ему по темной зелени луга. Приняв благословение настоятеля, я простилась с ним и с душою, исполненною воспоминанием о таинственном страдальце, оставила обитель, но образ его никогда не мог изгладиться из памяти моей.
– Узнали ли вы что-нибудь после о нем? – спросил Проновский.
– И очень странным образом, – отвечала Наталья Дмитриевна. – Если вы еще не соскучились, я расскажу вам завтра.
– Теперь же, теперь, – повторили слушатели, и старушка начала:
– Несколько лет спустя после этого происшествия я поехала с мужем на Макарьевскую ярмарку. Мы отправились, по обыкновению деревенских помещиков, на своих, в огромной четвероместной карете с дорожными сундуками, со множеством коробочков, картонов и проч., ну так, что нам двоим с моею горничною напротив только что было можно сидеть. Буря и сильная гроза заставили нас остановиться, не доезжая селения, где было обыкновенное место нашего ночлега. Во время ярмарки все дороги, ведущие к Макарьеву, чрезвычайно оживлены. Непрестанно видишь обозы, которые тянутся длинною веревкою, почтовые телеги, кибитки на лихих тройках с колокольчиком, обгоняющие тяжелые кареты и коляски помещиков, шажком едущие на шестериках откормленных заводских лошадей или быстро несущиеся на почтовых и заставляющие сворачивать в сторону тяжелые возы крестьян или ямщика, покойно возвращающегося порожняком со станции, со шляпою набекрень и насвистывая заунывную песню. По тротуарам между березок мелькают толпы пешеходов, работников, бурлаков, возвращающихся по домам босиком, в синих рубашках, с сапогами и кафтаном за плечами и с ложкою за лентою развалистой шляпы. Ночью вы видите там и сям по дороге разложенные между телегами огни, с котелками, привешенными над ними к трем утвержденным в землю и связанным сверху веревкою палкам. Около огней несколько чумаков в дегтярных рубахах, со смуглыми, освещенными красноватым блеском лицами, или беспечно лежат на траве в ожидании ужина, или починивают сбрую и упряжь. Я любила эти картины. Это пламя, по временам бросающее яркий свет на телеги и чумаков, которые в своих черных рубашках кажутся какими-то тенями, вдруг появляющимися из тьмы; эти усталые волы, которые, освободясь от тяжелого ярма, смиренно щиплют траву или лежат между телегами, при малейшем обороте головы принимая на крутые, лоснящиеся рога свои отблеск раздуваемых ветром огней, – все это мне казалось картиною, достойною кисти Рембрандта, Сальватора Розы, и выводило воображение из круга обыкновенной жизни. Смейтесь, а я видела в чумаках и гномов, и подземных жителей баснословного тартара, но все это забывалось, когда мы приезжали на ночлег. Я выходила из себя, видя, как люди наши бегали по деревне от окна к окну, ища квартиры: все постоялые дворы бывают наполнены обозниками, что случилось и в эту ночь, когда гроза принудила нас искать убежища. Наконец нам нашли небольшую новенькую избу. На дворе было совершенно темно; одни змеистые молнии по временам рассекали небо; гром не переставал ни на минуту; дождь лился ливнем, мы рады были, что мы и люди могли наконец укрыться от дождя и бури. Я вошла в избу: на столе горела свеча в витом железном подсвечнике; несколько человек ямщиков, только что поужинавших, занимали почти всю избу; одни молились в переднем углу, после каждого поклона встряхивая кудрями, другие кланялись с ласковым «спасибо!» хозяйке, которая собирала со стола остатки ужина; иные укладывались на полатях; некоторые выходили вон с фонарями, чтоб позаботиться о лошадях. Я подошла к столу и, сев на переднюю скамью подле окна, смотрела, как частые молнии одевали синеватым светом улицу, экипаж наш, стоявший против ворот, и бурно стремящиеся по скату горы дождевые потоки. Муж мой сел на другую скамью и, набивая трубку, смеялся, смотря на меня. Я поняла его и робко посмотрела на стены: боже мой! Друзья мои, вы знаете, что ученый Скалигер не мог видеть ключевого крессона; Тихо-Браге – лисицы; Мария Медицис – розы; Великий Преобразователь наш – тараканов; итак, мне не стыдно признаться вам, что я боялась их, кажется, больше всего на свете.
Итак, вот отчего смеялся муж мой! Ему было известно, что я не могла без ужаса видеть таракана, а стены были ими покрыты. Несмотря ни на какие убеждения, насмешки, просьбы со стороны его, я решительно сказала, что не останусь ночевать в избе и, так как не хотела делать лишних хлопот и заставить искать другую квартиру, то объявила, что проведу ночь в карете; должно было уступить. Едва успев выпить чашку чаю, я оставила избу и отправилась в карету, думая, что враги мои и туда преследуют меня. Карету не могли ввезти под низкие крестьянские ворота и оставили на улице. Между тем гроза утихла, молния изредка сверкала вдалеке, ветер разносил по небу остатки черных туч, между которыми проглядывала последняя четверть луны; воздух был свеж и прохладен; вся деревня покоилась. Я долго смотрела в окно кареты на звезды, блиставшие в темной синеве, на крытый двор, где еще по временам проходил заботливый обозник с фонарем, бросавшим яркий отблеск на сосновые стропила, поддерживающие соломенный навес, под которым стояли лошади. Беспокойство дороги, а может быть, и вид врагов моих прогнали совершенно мой сон. Я с нетерпением ждала утра, скучая бессонницею и всеобщею тишиною. Вдруг из соседственной избы раздался заунывный голос женщины; он был так печален и прерывался так часто, что я легко угадала, что певица плакала. Мне не видно было ее, но я внимательно вслушивалась в простые, но трогательные слова этой импровизации сердца, очень обыкновенной у нас в простом народе, между женщинами. Мне кажется, я и теперь еще могу припомнить их. Вот они:
- Не свети, месяц, ты в поднебесьи;
- Не играй в поле, непогодушка!
- Как далеко там, в стороне родной,
- Спит в земле сырой мое дитятко,
- Ненаглядное, безответное!
- Ты скажи, скажи, мое дитятко,
- Ты поведай мне, ненаглядное,
- На кого меня здесь оставило,
- На чужбинушке, меж чужих людей?
- И не встанешь ты, не пробудишься!
- Не послушаешь слова ласкова
- Родной матери, сиротинушки!
Голос замолчал, я слышала рыдания. Чрез несколько минут он снова запел:
- Как две звездочки светят в облаках,
- Как две зорюшки горят на небе,
- У меня было два сокровища!
- Ты проснись, проснись, дитя милое!
- Ты слетай к брату в дальню сторону,
- Ты скажи ему, что, безродная,
- Плачу день и ночь, плачу каждый час,
- В гости жду к себе друга милого.
- Не проснешься ты, дитя милое!
- Не воротится мой младой сокол!
- Умереть мне, знать, на чужой земле.
Она еще пела, но я не могла вслушаться в слова песни, прерываемой рыданиями. Я не могла уснуть, прислушиваясь к вздохам и стенаниям невидимой певицы: она возбудила во мне живейшее участие. Истинная горесть всегда находит отзыв в душе нашей, может быть, потому, что она для всякого гостья бывалая. Чужая радость не находит так скоро пути к сердцу нашему; не хочу искать причины тому, ибо не люблю обвинять природу человеческую; но верьте мне, друзья мои: человек, способный забыть горе свое, видя веселье других, имеет доброе сердце, не подточенное червем зависти и чуждое эгоизма, беспечно приносящего других в жертву иногда минутной прихоти своей.
С первым лучом зари я отворила дверцу кареты и ждала кого-нибудь, от кого могла бы узнать, кто была моя печальная певица. Вскоре молодая девушка с коромыслом на плечах вышла из ворот избы, из которой слышался голос. Я подозвала ее к себе; просьбы мои и небольшой подарок заставили ее, поставя ведра на землю, сесть со мною на скамье, стоявшей у ворот, и рассказать подробности, пояснившие историю моего таинственного инока. Жаль, что не могу передать вам их собственными словами рассказчицы: может быть, вид осьмнадцатилетней румяной девушки с темно-голубыми глазами, длинною русою косою и в стройном сарафане приволжских жительниц, рассказывающей при едва брезжущем сиянии утра, придавал особенную прелесть повести ее; счастье было так понятно в устах ее, когда луч зари отражался на миленьком, молодом личике ее! Но мне придется говорить не об одной радости. Итак, слушайте, друзья мои; я передам рассказ ее, как могу, дополнив его некоторыми подробностями, собранными мною уже после.
Лет за восемь перед сим один небогатый мещанин из нашего уездного города снял постоялый двор, возле которого стояла карета наша. Он привез с собою жену, детей и старушку сестру, всегда печальную и часто больную, которая жила в доме его с тех пор, как, лишась детей, принуждена была продать небольшой домик, оставленный ей мужем. Она осталась после смерти его с двумя маленькими детьми, сыном и дочерью. Первый, как водится, был отдан в сидельцы к богатому купцу, заслужил доверенность его своим прилежанием, честностью и трудолюбием и скоро сделался приказчиком его. Анюта, дочь ее, вышла замуж за сына одного из богатейших купцов в городе, и старушка мать, пристроив таким образом детей, жила в своем маленьком домике небольшим капиталом, доставшимся ей после мужа, и пособиями дочери.
Семейство, в которое вошла Анюта, могло бы, кажется, почесться типом древней русской фамилии. Патриархальная власть, переходившая, по обыкновению, к старшему в роде, находилась тогда в руках свекра Анюты, хотя отец его был еще жив. Это был старичок лет под семьдесят; редкие седые волосы с сребристыми отливами, кое-где видневшиеся на обнаженном черепе, на котором знаменитый Галль без труда нашел бы резко выдавшийся орган смешливости; белая как лунь борода, широко лежавшая по груди, свежий цвет лица, сохранившего еще остатки прежнего румянца, и ясный, покойный взор напоминали старичков, которых преимущественно и с таким рачением производила кисть Деннера. Он ходил, согнувшись и опираясь на толстую палку без набалдашника, который, по мнению его, был бы непростительною роскошью; носил род синего армяка, обшитого черным полубархатом и подпоясанного шелковым персидским кушаком, вывезенным сыном его из Бухареста в первое путешествие его туда. Дедушка, так обыкновенно называли все старичка, не занимался более ни торговлею, ни делами, хотя ничто не делалось в доме без ведома его. Предстояло ли какое-нибудь важное торговое предприятие или дела находились в затруднительном положении – от дедушки требовали советов, и сказанное им почиталось святым; нужно ли было отправлять обозы с товарами или приказчиков на ярмарки, дети ли собирались в далекий путь – благословение дедушки было необходимо; он собственно ни во что не вмешивался, но имя его было везде; он был как бы добрым гением семейства, и домашние были твердо уверены, что предпринятое без согласия дедушки не пойдет впрок. Большую часть дня проводил он в церкви; любимым же занятием его было по возвращении от заутрени, выйдя в тулупе из черных крымских барашков на широкий, обнесенный кольцом двор, рассыпать по земле пшеницу и конопляное семя и потом, севши на крытое крыльцо, любоваться сизыми голубями, которые многочисленными стаями прилетали клевать корм, для них приготовленный; или в праздник, после обедни, с этого же крыльца раздавать куски мяса, хлеба или мелкую медную монету нищим, ожидавшим уже обычной милостыни, и дедушка давал ее с ласковым взглядом, приговаривая обыкновенно: «Молитесь за душу Варвары!» Это было имя покойной жены его. Оделив таким образом всех до последнего, он приходил в столовую, умывал руки и садился за стол на первом месте. Сын его был высокий, статный мужчина с черными быстрыми глазами, окладистою черною бородою и волосами того же цвета, прямыми и остриженными в кружальце. Он одевался в сюртук, носил большие подкованные сапоги, любил под вечер с приятелем сыграть в шашки за стаканом пуншу, потолковать о сбыте сала или кожи, а иногда утром, между-делья, похвалиться привезенными из Москвы канарейками или датским жаворонком, купленным сыном на петербургской бирже. Он был вообще уважаем в городе: слово его было верно, действия хорошо обдуманы; непритворно добр, готов на помощь, но как человек, знающий цену трудовой копейке, не терпел лености и был неумолим для нерадивого приказчика. Никогда не ссорился со своею Аграфеною Павловною, которая говорила ему вы, потчевала его пирогами и ватрушками, приготовленными собственными руками, и твердо помнила слова апостола Павла, обыкновенный эпиграф всякого свадебного контракта, который, впрочем, иногда читается и наоборот. Но это не могло относиться к Аграфене Павловне: она принимала все буквально, в истинной простоте сердца. Толстое, румяное лицо ее и веселая улыбка были вывескою ее характера. Она стряпала кушанье, когда ей вздумается, ела досыта, спала, кормила детей и выкормила славных! Старший сын ее, Ванюша, почитался первым красавцем в городе. Не одна смиренница открывала потихоньку занавеску своего окна, чтоб посмотреть на него, когда он проходил мимо; не одна матушка говаривала под добрый час своему сожителю: «Куда хорош сынок-та у Аграфены Павловны! И богат. Кабы бог дал эдакого женишка нашей Дунюшке!» Но он не искал богатых невест: еще в детстве видал он Анюту, соседку их, когда она прихаживала на посиделки к сестрам его; девушка ему понравилась. Аграфена Павловна, знавшая смиренство ее, не противилась, и дело было скоро слажено.
Это была прекрасная парочка! Когда в приходской церкви у заутрени Анюта стояла возле свекрови и огни восковых свечей, зажигаемых усердием перед чудотворным образом, против которого они всегда становились, играли в жемчужных серьгах или алмазном перстне, сиявшем в узелке косынки на голове молодой женщины, она казалась белее жемчуга, и глаза ее горели ярче алмазов; тонкие брови и волосы ее спорили красотою цвета с темным соболем ее штофной телогрейки. Аграфена Павловна часто говаривала супругу своему: «Посмотрите-ка, Григорий Иванович, ведь подлинно господь бог благословил нас, Ванюша-то у нас как молодой сокол, глаза горят, как две вечерние звезды, да и Анюта хороша! Словно лебедь белая между всеми». – «Умела бы хорошо пироги печь, – отвечал Григорий Иванович, – а красота не навек!» Но он говорил это так, как иногда, торгуясь с приятелем и стараясь выторговать по стольку-то уступки с рубля, прибавлял: «Не ради убытка; что? Деньги – дело нажитое; а по приязни, в первый раз; для переду пригодимся!» Красота, как наличные деньги, везде имеет свою цену.
В течение четырех лет молодые супруги были совершенно счастливы. Анюта была сама покорность, сама любовь. Он, не забывая достоинства мужа, умел оказывать ей всю нежность любовника. Никогда не видали их порознь; ни на гулянье в Троицын день, ни в церкви, ни на обедах у знакомых; Анюта нигде не являлась без мужа, и всюду следил ее орлиный взор его. Когда по делам принужден он был отлучаться из города, никакие просьбы не могли убедить Анюту выйти, даже к родным. Она сидела дома, шила в пяльцах или метила белье, но была весела, ласкова со всеми, даже ласковее, чем при муже, особенно с деверьями. При нем она, казалось, жила только для него одного, думала о нем одном и, когда другие заговаривали с нею, она как бы бывала недовольною, что ее отвлекают от предмета, постоянно занимающего ее. Жизнь замужней женщины в купеческом быту совершенно противоположна с жизнию светской женщины: всегда заключенная в четырех стенах своего дома, она не имеет друзей, ни светских развлечений, и потому чувства сердца ее совершенно обращены на семейственные связи; удовольствия, радости – все заключено в семье родной; сношения ее со светом ограничиваются благотворительностию и хозяйственными нуждами. Не подумайте, однако же, чтоб это лишало ее того обильного источника наслаждений, который для светской женщины заключен в слове «туалет»; совсем нет: она так же кокетка в наряде, как и та, хотя часто не знает даже и существования этого слова; так же любит нравиться, и лисий, черно-бурый воротник для салопа, английская шаль, богатая материя на платье суть необходимые гостинцы, которые супруг привозит из Одессы, с Нижегородской ярмарки, из Петербурга, точно так же, как кусок душистого мыла, который молодой крестьянин, возвращаясь из дальнего извоза, тайком дарит молодой жене своей, наказывая, чтоб не показывала ни свекрови, ни золовкам этот предмет непозволительной роскоши. Натура женщины никогда не изменяет ей, даже в старости: мы так же любим принарядиться, чтоб скрыть неприятные следы времени, пугающие молодость. Желание нравиться есть указатель назначения нашего на земле, которое есть… но полно об этом; Аграфена Павловна рассердилась бы, если б ей сказали, что солнце создано не для того, чтоб огурцы выспевали на грядках ее огорода.
Мне всегда казалось странным, что эта уединенная, сокрытая от света жизнь купеческой женщины не защищала ее от взоров любопытных, проникавших в святилище ее заветного крова, и что часто за чайным столиком соседа разгадываются тайны домашней жизни ее, иногда ускользающие от взора ближайших наблюдателей. Точно так случилось с Анютою; между тем как мать ее, свекровь, все родные мужа ее были уверены, что она совершенно счастлива, молва обвиняла в ревности молодого Хлебникова (сказала ли я вам, что это было фамильное имя мужа Анюты?), и в ревности необыкновенной, от которой, говорили, много страдает бедная жена его. Оттого-то никуда не выходила она без него, оттого-то была молчалива и робка даже в своем домашнем кругу. Он ревнует ее к своей тени, говорили соседки, но это были одни догадки: никто никогда не слыхал ни малейшей жалобы от Анюты; если она страдала, то это было известно одной ночной лампаде, которая горела перед образом Утоления печали, благословением покойного отца ее. К тому же она любила своего мужа, а чего не усладит любовь!
Однажды, это было осенью, дедушка уже пришел от вечерни; было шесть часов вечера, и семейство собралось в небольшой гостиной, обитой зелеными бумажками, на которых дети, коровы, птицы, деревья следовали одни за другими в неизменном порядке, намалеванные черною краскою с белыми просветами. На большом круглом столе, накрытом ярославскою синею скатертью, кипел огромный тульский самовар, и пар его, клубясь и высоко поднимаясь над столом, туманил стекла окон, в которые бил крупный дождик. Это был час наслаждения, час дружеских бесед, откровенных разговоров, час, в который все семейство собирается вместе, забывая и дела, и расчеты; когда вечно озабоченный купец становится семьянином, отцом, радушным хозяином, – словом, час вечернего чая, этой жизни купеческих бесед. И надобно было посмотреть, с какою роскошью наслаждалась им Аграфена Павловна! Отирая по временам крупные капли пота, выступавшие на румяном и лоснящемся лице ее, она допивала, кажется, пятую чашку, с приятностью поднося ко рту блюдечко, которое держала на оконечностях пальцев, симметрически расположенных, и впивая ароматический пар чая, вьющийся над ним легким облачком. Полное лицо ее, покойное положение тучного тела, совершенно углубившегося в креслы, обитые зеленым сафьяном, веселая улыбка и ясный взор показывали полное удовольствие души, ничего не желающей более. Подле Аграфены Павловны Анюта крошила белый хлеб в чашку четырехлетней золовки своей, которая следовала за всеми движениями ее своими черненькими маленькими глазками, горевшими нетерпением. На другом конце стола дедушка, прихлебывая с блюдечка чай, изъяснял другой девочке гравюрки из Священной истории, именно лестницу Иакова, но, конечно, не так, как толкуют о том мистики. Добрый старик под именем лестницы, виденной Иаковом, разумел две жерди с перекладинками, то есть точно такую лестницу, как была та, которая вела в его светлицу над сараями, где любил он отдыхать после обеда в жаркие летние дни. Видение Валаамовой ослицы привлекло особенное внимание девочки. «Да как же, дедушка, осел мог говорить?» – спросила она. «Ну так же, как ты и мать твоя, – отвечал дедушка, – от бога все возможно!» Не подумайте, чтоб дедушка хотел сказать что-нибудь предосудительное для Аграфены Павловны; он был очень далек от того и преспокойно подал ей пустую чашку.
По другую сторону Аграфены Павловны сидела старшая дочь ее и какая-то гостья, дородная и жеманная, в темно-кофейной с собольим воротником телогрейке, которой она не снимала, несмотря ни на жар, ни на седьмую чашку чаю, которую выпивала, опрокидывая ее на блюдечко по окончании каждой чашки в знак, что не хочет больше, между тем как хозяйка снова наполняла ее чаем и потчевала гостью, приговаривая: «Прошу покорно!»
У противоположной стены, возле стола, сидел Григорий Иванович, в темно-зеленом сюртуке, наглухо застегнутом, выставив вперед левую ногу, опираясь одною рукою на колено, другую положа на стол и с видом глубокомыслия устремив взор в шахматную доску. Он играл в шашки с соседом, толстым, несловоохотливым ратманом. Между ними стояли на столе два стакана с пуншем. «Искусно, сударь, искусно: да и мы не дадим промаха и в доведи вас не пустим. Вот так: раз и два! Что, хорошо?» – он засмеялся с самодовольным видом. «Подержимся еще, батюшка Григорий Иванович, поиграем», – отвечал противник его, задумываясь над шашкою. В продолжение некоторого времени в комнате только и были слышны стук шашек по мраморной доске, отрывистые слова играющих, шипенье самовара и прихлебывание чаю. Вдруг у ворот послышался стук; Анюта протерла тусклое стекло, чтоб посмотреть на двор. Тяжелые половинки ворот отворились со скрипом; цепная собака залаяла, как на своего; сердце Анюты забилось: кто-то въехал на двор. Она бросилась к дверям, но прежде, чем успела дойти до них, Иван Григорьевич стоял перед нею, прекрасный, как один из ангелов Иакова, о которых толковал дедушка. Ласково взглянув на жену, он остановил ее рукою и подошел к дедушке, потом к отцу и так далее, по старшинству, пока наконец перецеловал всех, начиная с матери до меньшой сестры, не исключая и толстой гостьи. Он оборотился к жене, которая, алея от радости, как утренняя заря, следовала взором за всеми движениями его. Он обнял ее и поцеловал очень тихо. Молодой человек не смел предаваться чувствам своим при отце и дедушке; зато взоры его вознаграждали Анюту за тягостное принуждение.
Надобно было видеть всеобщую радость. Молодой Хлебников возвращался домой после довольно долгого отсутствия, и Аграфена Павловна не знала, что делать с радости, увидя опять свое сокровище, своего любимого сынка, свое красное солнышко. Дедушка посмеивался, расправляя свою широкую бороду; дети прыгали около приезжего гостя; один Григорий Иванович не изменил своего положения при виде сына, приветствуя его одним: «А! Здорово, Иван!» – «Не угодно ли будет посмотреть счеты, батюшка?» – спросил Иван Григорьевич, снова почтительно подходя к отцу и остановясь на довольно далеком от него расстоянии. «Добро, после, – отвечал отец, – поди напейся чаю; ты, я думаю, прозяб: ненастье не свой брат». Молодой человек поклонился и подошел к столу, где заботливая мать приготовила уже для него чашку чаю, а Анюта поставила возле свекрови креслы для милого гостя и сама села против него. Тогда-то начались расспросы, рассказы, смех, опять расспросы – словом, та неумолкаемая болтовня сердца, которою оно, кажется, хочет в две минуты вознаградить себя за долгое молчание и высказать все, что терпело в продолжение тяжкой разлуки. Иван Григорьевич не сводил глаз с жены: казалось, он не мог налюбоваться ею. В это время в соседственной комнате, в которую дверь была заставлена шкафом с посудою, послышался стук отодвинутого стула. «Кто это у вас там?» – спросил довольно невнимательно молодой Хлебников, совершенно без намерения взглянув на жену – лицо Анюты вспыхнуло, как зарево; она наклонилась, как будто чего-то искала. Иван Григорьевич нахмурился. «Чего, Ванюша! Вот какую беду господь послал без тебя, – отвечала Аграфена Павловна на вопрос его. – Еще при тебе был к нам назначен полк: ты помнишь это? Вот, накануне рождества богородицы, идем мы от вечерни, а по улицам такая суматоха: везде верховые да солдаты разводят квартиры, да отмечают на воротах, да бегают, как бы невесть что случилось; наутро, слышим, и полк пришел. На ту беду, Григорий Иванович повздорил в думе с городничим; вот к нам и поставили…» – «Вздор, жена, не то говоришь! Повздорили мы с городничим за дело, а постой нам и без того следовал, – сказал Григорий Иванович, не переставая играть. – Ведь дом-то наш не из последних; не солдат же тебе поставить».
«Нешто, батюшка, нешто, – отвечала Аграфена Павловна и потом, оборотившись к сыну, продолжала: – Вот к нам и поставили рот… как бишь его, прости господи! Да! Ротмистра какого-то».
Иван Григорьевич поглаживал черный, едва прорезавшийся ус и кусал губы, что было недобрым знаком, по замечанию Анюты. «А что, молод ли он?» – спросил он.
– Немного постарее тебя, Ванюша, да какой смазливенький и вежливый, нечего сказать; опомнясь, на Введенье никак, Анюта? Грязь такая была, что господи упаси! У нас залили дожди, Ванюша. Этта хотели капусту рубить…
– Ну что же, матушка, на Введенье-то?
– То-то, я хотела тебе сказать. Мы с Анютою приехали от обедни на дрожках; кучер сошел с козел отворить ворота, малый такой проворный, да ввел лошадь на двор под уздцы, глядь, а офицер-то идет с крыльца. Только завидел нас, тотчас снял шляпу, да и поклонился. Да чего еще, сказать-то смешно! взял меня под руку, да и на крыльцо-то ввел. Да никак и тебя также, Анюта? – Иван Григорьевич отодвинул свой стул назад.
– Нет, матушка, – отвечала Анюта, совершенно пурпуровая, – он говорил что-то с вами, когда я прошла, и не заметил меня. Ну, не помню!
– Да для чего же не наняли для него квартиры? – спросил Иван Григорьевич.
– Так угодно было Григорью Ивановичу, – отвечала Аграфена Павловна вполголоса, робко посматривая на мужа.
Между тем разговор переменился: Иван Григорьевич вертел между пальцев конец скатерти, а Аграфена Павловна рассказывала уже своей гостье, как вчера выводила она проклятого сверчка, который, невесть от чего, завелся в спальной, под печью.
– Вы его… не часто видите, матушка? – спросил Иван Григорьевич.
– Вчера видела своими глазами, Ванюша.
– Но он беспокоит вас, – продолжал он несколько вспыльчиво.
– Как же, Ванюша, кричит всю ночь, ну так, что глаз не даст свести.
– Да как же с ним не справятся? Вон бы его! Как это терпеть?
– Э, Ванюша, да как с ним справишься? Скоро ли его выживешь? Я вчера и сургучом-то курила, и два чайника вару вылила на него…
– На кого, матушка, на ротмистра?
– На сверчка, Ванюша. Ну как можно офицера вон? прости господи! как отец услышит тебя! Ведь офицер-то – военный слуга государев. Эх, Ванюша, я думала, что ты про сверчка…
Все засмеялись, даже и дедушка, а Анюте было не до смеха: она видела, что постоялец сильно занимает воображение ее мужа.
Впрочем, все осталось в прежнем порядке: Хлебников не говорил ни слова о постояльце, Анюта была по-прежнему ласкова, покорна, выходила со двора еще реже, белая занавеска окна ее никогда не отдергивалась, а в церкви становилась она в самом углу за колонною. Но с некоторого времени Иван Григорьевич заметил, что Анюта сделалась необыкновенно грустною: часто по возвращении своем домой видел он следы слез на глазах ее, она плакала без него; что могло быть тому причиною? Он любил ее по-прежнему; кажется, не было ни в чем недостатка у Анюты: в семействе все глядели ей в глаза; что ж бы это такое было и отчего особенно эта грусть увеличивалась обыкновенно после свидания ее с матерью? Не наговаривает ли чего теща молодой жене его? Не представляет ли в черном виде затворническую жизнь ее? Не жалуется ли Анюта на скуку, на подзорчивый нрав мужа, не было ли тут какой тайны? Подобные вопросы сменялись один другим в голове Ивана Григорьевича и не давали ему покоя: смотрел ли он на заводе за работами, рассчитывался ли с приказчиками и рабочими, трудился ли в конторе с отцом над выкладками, одна и та же мысль преследовала его, и образ Анюты, печальной, плачущей, носился перед ним; иногда подле нее мелькал другой… Кровь приливалась к сердцу молодого ревнивца, и дыхание его замирало. Но эти подозрения не имели никакого основания; он ничего не мог сказать в подтверждение их ни верного, ни правдоподобного; но верное! возможно ли было бы для него перенести что-нибудь верное? Всего простее было бы спросить Анюту или выведать причину ее грусти, но известно, что простое и близкое всегда ускользает от внимания человека, который, почитая чрезвычайно важным все, что касается до него, преувеличивает затруднения в собственных глазах своих и не довольствуется средствами обыкновенными, почитая их недостаточно важными; к тому же, открыв Анюте слишком рано беспокойство свое, не принудит ли он ее тем самым быть осторожнее? Эта мысль не допускала его до объяснения, которое, может быть, предупредило бы многое. Но ревность закрывает туманом глаза своей жертвы и представляет ей призраки в предметах самых обыкновенных. Будучи хладнокровнее, как мог бы он не угадать истинной причины Анютиной грусти? Но нет, это было бы слишком просто и не входило в рамку, которою ограничивался объем взоров страсти, всегда односторонней и не смотрящей ни на что, не имеющего к ней прямого отношения.
У Анюты был брат, хорошенький, добрый мальчик Петруша, веселого, живого характера, с пылкою головою, но несколько ветреною; несмотря на это, он уже был приказчиком, исправлял исправно возлагаемые на него поручения и пользовался доверенностию хозяина. Как жалованье его было невелико, а достаток матери еще меньше, то он и был записан в мещане. «Понаживешься, бог даст, перейдешь и в гильдию, Петруша!» – говаривала ему мать, и эта честолюбивая мысль зажигала огнем удовольствия глаза ее. По несчастию, случай свел его с молодыми повесами, которые пробудили в мальчишке еще спавшую склонность к удовольствиям; они смеялись над его прилежанием, ввели его в веселый круг свой, ознакомили с буйной веселостью молодой жизни, и до старушки матери стали доходить вести недобрые о милом сыне. Те видели его в трактире, другие играли с ним на бильярде, иные подметили, как он выходил с приятелями из винного погреба, с румянцем ненатуральным, и наконец и хозяин начал жаловаться на видимую перемену Петруши. Старушка плакала, горевала, толковала с Анютой, увещевала шалуна, но следствием всего этого было только то, что он начал реже приходить к матери. Она прибегла к Григорию Ивановичу, прося его пожурить Петрушу, но Петруша еще больше начал удаляться от родных и вдаваться в шалости, так что в целом городе сделался известным как один из первейших шалунов. В это время случилась довольно значительная покража в лавке хозяина. Сильное подозрение пало на Петрушу, нашлись и доказательства, но хозяин, из жалости к матери и уступая просьбам его, не завел дела, но отказал ему от должности. Преданный праздности, Петруша скоро обратил своими шалостями внимание городской думы, которая полагала, что при настоящем рекрутском наборе лучше будет заменить доброго отца семейства шалуном, давно уже не платившим податей, обремененным недоимками, жалобами на неуплату долгов по лавочкам, погребам, – и его взяли.
