Калистратова любовь
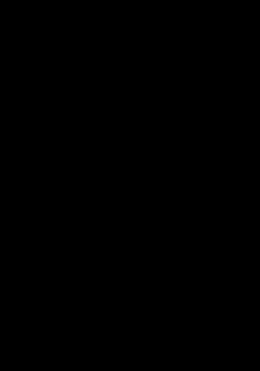
Около года назад в селе Колючики произошло событие, обещавшее изменить жизнь всех сельчан вместе и каждого в отдельности. Неудивительно, что колючиковцы прочли о нем в единственном местном СМИ, в газете «Заноза».
А чтобы сенсацию никто не пропустил, редакция разместила ее в разделе «Главное».
Из новостей следовало, что «по причине разных со столицей часовых поясов, Колючикам ночью повысили статус: в один момент село стало малым городом. Так что теперь они – горожане. Называться город будет Калистратов».
В том же подписанном главным редактором тексте говорилось, что новое название присвоено то ли в честь именитого архитектора, то ли в память об известном дирижере и композиторе. Точнее узнать некому, поскольку «на прошлой неделе единственный штатный корреспондент прошел онлайн курс общего массажа и, уволившись, открыл массажный салон «Заноза-Краса (читателям скидка 5%). А у главреда и без фактчекинга дел по горло».
Цитата дословная.
Информацией о корреспонденте новые горожане удовлетворились. Как, впрочем, и о происхождении названия – им было безразлично, кому честь оказана. Интернет сообщал, что ни архитектор, ни дирижер в селе никогда не появлялись, да и творили оба в ХХ веке – кто ж их упомнит, этих кумиров прошлых лет. Куда больше всех волновала мысль о переименовании заноз и занозинок (так колючиковцы в шутку именовали себя). Вариантов было несколько и каждый на грани фола, поэтому озвучивать их не стали из боязни расстроить главную занозу или калистра… госпожу мэршу, то есть.
В том же разделе следующего выпуска боевого листка сообщалось, что, во-первых, название газеты останется прежним – лучше «Занозы» придумать невозможно, не Калистиком же именоваться. А, во-вторых, делалось предположение, что чудесное превращение положит начало активному развитию культурной, научной, общественной и любой другой формы истинно городской жизни.
Этот вопрос предстояло обсудить на четверговом открытом заседании местного правительства, назначенном на 17.00.
Собравшись, начали с культуры. С ней было понятнее всего: отвечать за развитие городского прекрасного единогласно утвердили мужа градоначальника, лет 15 назад ездившего поступать в столичный Колледж искусств. Заложив до обеда камень в основание Городского драматического театра имени Чехова-Достоевского, госпожа мэр лично выдвинула его кандидатуру на должность худрука и главрежа с наказом ставить не только «Трех сестер» и «Идиота», но и «Труффальдино из Бергамо». И непременно с танцами как у Константина Райкина. Фильма свеженазначенный режиссер не видел, но торжественно обещал изучить вопрос и продемонстрировать свое видение хореографии классика.
Порадовавшись скорости принятия решений перешли к следующему пункту. И тут вышла заминка, поскольку никто не мог дать точного определения общественной жизни. Однако, посовещавшись, селяне решили делегировать эти загадочные, если не сказать мистические полномочия настоятелю местного храма отцу Максиму. Тот не обрадовался, но кто бы его спрашивал: стал попом – служи Божьему делу.
Быть городом – весьма обременительная штука – решило в перерыве правительство и, тяжко вздыхая, приступило к обсуждению образования и науки. Первым делом в учебный комбинат объединили школу и детский сад – эта образовательная реформа назрела давно. Оставалось открыть вуз. Небольшой, местного значения, зато выпускающий дипломированных специалистов.
– Университет мы вряд ли потянем… – задумчиво сказала приглашенная в президиум как представитель системы образования учительница младших классов Анна Матвеевна Борина. – Тогда что?
– Академию может? – Раздался с задних рядов ехидный голос дворника Мишки, в обязанности которого входило следить за чистотой перед зданиями мэрии и банка.
Как набирающийся опыта политик на сарказм Борина предпочла не реагировать, поэтому ответила по существу:
– Замечательная идея! – Голосом отличницы, мечтавшей получить похвалу директора, воскликнула она, повернувшись всем корпусом к мэрше. – А при ней научную библиотеку организуем…
Задние ряды заржали, но остальных уже охватил азарт. Повскакав с мест, вчерашние занозы и занозинки начали засыпать президиум идеями и предложениями. По большей части неподходящими.
Утомившись, постановили обсуждение последнего вопроса перенести на следующее заседание, к которому каждому принести по два-три варианта названия.
– Можно и больше, – снова засмеялся Мишка. – Калистрачане, калистратогородцы, акалины. Че уставились? Вон, жителей Мценска именуют амчанами, жителей Няндомы – мамонами. Жители Пензы – пензюки, Торжка – новоторами, Архангельска – архангелогородцы, Ерофея Павловича…
Тут он заметил насупленные брови главного драматического режиссера.
– Все-все. Понял я. Заткнулся уже.
Казалось бы, чего проще – придумать подходящее слово. Однако за ближайшие несколько месяцев горожане так и не пришли к единому названию: ни одно предложение не нашло полного одобрения – у каждого варианта находились и сторонники, и противники. Дело порой доходило чуть не до драки, по счастью, виртуальной, поскольку обсуждение в основном проходило в общегородском чате. Тем не менее угроз «повыдергать все колючки» или «понасадить заноз» в пылу диспута понаписано было немало.
И все же поиски идеального наименования не прошли зря. Оно, можно сказать, сослужило пользу общему развитию колючиковцев. Во-первых, все выучили слово демоним, обозначающее наименование группы жителей определенной местности. То есть их самих.
Во-вторых, когда горожане поуспокоились, у них вошло в привычку встречаясь на улице приветствовать друг друга очередным креативом. Начали с простецких. Здороваясь, называли друг друга калистратовец или калистратовчанин. Постепенно вошли во вкус.
– Здорово, калистрат! Как тебе? Похоже на приветствие спартанцев.
– Здравствуйте, калистратец! «Украсьте цветами! Во флаги здания!» Узнал? Это ж практически Маяковский!
Довольно быстро словарный запас и энтузиазм поиссякли, не сдавался один Мишка. Он то и дело появлялся из ниоткуда и, принимая позу «Ленин на броневике», и серьезно произносил:
– Приветствую вас, стратоты! Поняли ли вы намек на «стратигов» – военачальников Византии? Жен же ваших мы в стратигиссы запишем!
Высказавшись, Мишка быстро исчезал, понимая: если двое или трое против него объединяться, силы будут неравными. Затем появлялся возле следующей философствующей кампании, решавшей, быть им калиастратовцами космическими или каликами – странниками, паломниками.
– А если стратами как группы людей, отличающиеся друг от друга положением в обществе? Не нравится? Понимаю. Рабочий класс и средний найдем, а элиту где взять? Тогда стражами? По-моему прекрасно. Помнится, Глебыч твои предки были в числе тех, кто 200 лет назад узнал от заезжего колдуна, что на них скоро нападут монголы, и решил храбро сторожить село от воображаемых врагов.
Подав реплику, Мишка мгновенно нырнул за забор и взлетел на крыльцо. Все же натура взяла свое, поэтому, запирая дверь, он успел выкрикнуть:
– Скажите спасибо, что я о стигматах не вспомнил.
В полемике, подколках и заботах о приусадебном урожае «занозы» не заметили конца лета. Поэтому в сентябре они искренне удивились, когда перед первыми восемью студентами двери открыла Академия художеств, устроенная бывшем доме быта. А ближе к зиме при ней начала функционировать самая настоящая Научная библиотека: ей отвели место в стоящем напротив Академии здании городских бань, закрытых лет 5 назад по причине отсутствия клиентуры.
Новые горожане, конечно, мечтали, чтобы не бани, а особняк, и чтобы ее в названии присутствовало слово Российская, определяющее статус места. Но Научная библиотека Российской академии художеств могла быть только одна: в Санкт-Петербурге, учрежденная в 1757 году Иваном Ивановичем Шуваловым. И мэр Каллистратова предложила не тягаться, не конкурировать.
Заведующей, а также библиотекарем и библиографом назначили Ларису Николаевну Клепикову, работавшую доселе библиотекаршей в школе, откуда был позаимствован основной фонд Научной библиотеки.
Клепикова против назначения не возражала: ей льстил новый статус, пусть и принципиально ничего не менявший в ее судьбе, поскольку в бюджет забыли заложить деньги как на развитие библиотеки, так и на зарплату руководителя книгохранилища.
В сотый раз перепроверяя не меняющийся перечень литературы по истории Церкви Лариса Николаевна вздохнула. Свою жизнь она целиком и полностью положила на алтарь настоящей науки, а работать приходится с «Детской Библией» в картинках, третьим томом «Житий святых» Дмитрия Ростовского, да пожертвованных отцом Максимом брошюрок «Что посоветуете, батюшка?» и «Как правильно выйти замуж».
Она бы с удовольствием расширила каталог, заказав, например, «Античную эстетику» Алексея Федоровича Лосева или книгу Филиппа Блодо «Римский Престол и Восток (448–536 гг.). Геоэкклезиологическое исследование», где утверждалось, что раскол в христианстве произошел не в 9–12, а в 5–6 веке. Но даже на предзаказе книга стоила две тысячи рублей, которых ей никогда не выделят. И мецената, готового оплачивать ее интересы, тоже не нашлось.
Снова вздохнув, легко оперлась подбородком на кулачок: а ведь была она в шуваловской библиотеке, куда ее направили после 4 курса Историко-архивного института на практику как лучшую студентку. Работящая, начитанная, запоминающая огромные объемы информации девушка понравилась всем в отделе. А заведующий Научным архивом, где она работала, не раз намекал, что поговорит о ее трудоустройстве на постоянной основе. Заметил Ларису и симпатичный молодой человек за соседним столом. И только когда у них случился роман она узнала, что он удачно женат.
Клепикова улыбнулась воспоминаниям: о работе в Северной столице пришлось забыть, как и о трудоустройстве в любом другом приличном месте. Она никак не могла решить, что делать дальше. По счастью за день до защиты диплома ей позвонили из родных Колючиков и предложили работу в школьной библиотеке. Давая согласие, Лариса Николаевна не подозревала, что тот роман окажется единственным в ее биографии. И что больше никогда не покинет малую родину, зато через 35 лет сама станет заведующей научной библиотекой.
