Лемурия
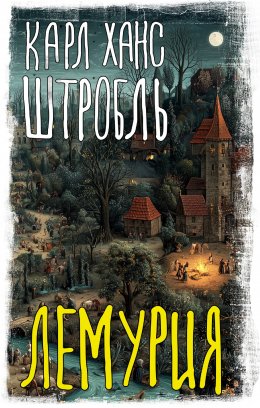
Серия «Вселенная Стивена Кинга»
Перевод с немецкого Е. Крутовой, Г. Шокина
© Перевод. Е. Крутова, 2025
© Перевод. Г. Шокин, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
Дорогой Карл Ханс Штробль!
В то время, в апреле 1915 года, когда состоялась наша первая встреча, мы еще не были знакомы лично. Мы переписывались на протяжении практически десяти лет, но в том году впервые встретились лицом к лицу. В то время я пребывал в главном штабе сухопутных войск в Жолне – туда нас перевели из Тешена. Предчувствие грядущих тягот войны витало в воздухе и заставляло военных корреспондентов вроде меня изо дня в день строчить ответы на вопросы солдат, горожан и командования.
Коренастый, хорошо сложенный турист сошел с венского экспресса, привезшего и нас в Жолну. Фото, конечно, не передавало всей грандиозности вашего облика – светлая борода, мощное сложение. Наша журналистская «бывалая» братия, разодетая в строгие светские костюмы, с понимающими улыбками реагировала на вашу полную армейскую экипировку – как на проявление наивности всякого начинающего военкора, полагающего, что первым же днем отправится прямо на линию фронта.
Что ж, вскоре мы поняли, что для вас, любителя пеших прогулок по натуре, высокие армейские сапоги и потертый бушлат – не экипировка, а светский костюм, причем на диво удобный в использовании. Неутомимый дух путешественника в свое время провел вас по самым грязным трактам Галиции, вознес к одиноким сторожевым башням высоко в снегах Альп и заставил преодолеть бездорожье и замерзшие пустоши албанских гор – те края, где нет указателей, и лишь слепой либо насквозь первобытный человек способен хоть как-то ориентироваться без дрожи. Городские кварталы, что для большинства – желанная гавань отдыха, для вас всегда были лишь отправной точкой для новых приключений на просторах Словакии. Когда немецкие военные колонны начали проходить через Жолну, американских военных корреспондентов как раз отправили на словацкую базу в Надьбички; остальные изнывали от желания оказаться там же – но вы, друг мой, сохраняя невозмутимость духа, трудились в своей комнате наверху в старом замке, превращенной вашими стараниями в самую настоящую писательскую мастерскую. И при этом, довершая второй том вашего «Бисмарка», вы умудрялись не забывать регулярно навещать ближайшие хорошие винные таверны!
Но мировая историческая буря, разрядившая всеобщее напряжение громом, молнией и бряцаньем стали, набирала обороты. Нас созвали к специальному поезду, усадили в самый последний вагон и велели сидеть тихо – но вы, я и еще один американский лихач все равно взялись за походные винтовки и прямо на ходу состава умудрялись сшибать с молодых весенних деревьев почки. «Лузитания» затонула, а форт Конджер рапортовал о том, как в безупречно голубом мировом небе собираются странные облачка. Через два года им было суждено перерасти в новую мировую бурю. Какое нам было до всего этого дело! Да, мы одержали победу! Вы, со своей стороны, не участвовали в тех первых кампаниях осени и зимы, когда мы прятались по отдаленным уголкам, как напуганные цыплята, и каждый раз вздрагивали от возвещавшего о судьбах войны барабанного боя. Именно тогда мы отправились из Дуклы к Высоким Татрам, затем снова со штаб-квартирой через Карпаты обратно в Сандец, и после разочарования в Сербии нас отбросило обратно в Словакию, где и начался беспокойный зимний сон. До тех пор вы смотрели на мир со сторожевой башни своей лейпцигской редакции, и вот теперь захотели вернуться на родину, в Австрию, и отправились туда весной – с победным маршем.
Позже, по стечению обстоятельств, фронт разлучил нас. Но потом, по возвращении с полей сражений, мы снова встретились в штабе. То был хороший вечер – свободный от всех ужасов войны, от ее смертоносных чар. Вы, Карл Ханс Штробль, сидели тогда за роялем, слегка расставив сильные свои ноги, совсем как великий мастер Готфрид Келлер на гравюре Штауффера-Берна. Вы играли отменно, и вино не путало вам ноты, а наоборот, обостряло чутье к гармонии. Что и говорить, в мастерстве принять на грудь вам не было равных – ибо студенческие годы в Праге вооружили вас и со временем сделали невосприимчивым даже к дешевому пиву. Об этом мы узнали из трех ваших первых романов – книг о пылающем сердце и о том, каково это – быть молодым и требовательным. Хирург считает, что ваше сердце не совсем в порядке – что может хирург знать о сердце поэта? Его подпитывают все проявления жизни, и оно никогда не стареет!
Я часто спрашиваю себя, откуда у вас столько времени, чтобы писать? Кажется, что ваш день расписан по минутам – вне зависимости от того, какую должность вы занимаете: водителя, редактора или военного корреспондента. И тем не менее уже больше тридцати книг вышло из-под вашего пера, и по всему миру в общей сложности разошлось более ста тысяч экземпляров. Не все, что вы пишете, можно измерить одинаково – но все исходит из источника, кажущегося неисчерпаемым. Без стеснения «профессионального литератора» – можно ли придумать участь хуже! – вы выплескиваете на бумагу страстные и странные фантазии. Порой это нечто веселое и непринужденное, порой – подлинно историческое и пронизанное тонким знанием вех цивилизации, иногда – как в случае с «Лемурией» – это что-то темное и опасное, сущий пандемониум. Первый период вашего творчества начался еще полвека назад. Ваши студенческие годы до сих пор, как я упомянул, откликаются в трех романах: «Трактир Вацлава», «Ущелье Щипка» и «Королевская таверна в Перемышле». В этих текстах нет ничего особенного. Сотни романов начинаются одинаково. Но что удивительно в этих трех романах, так это атмосфера минувших времен – проработка деталей, придающая им чуткую достоверность. В то время вы учились в Праге, и между чехами и немцами развязалась кровавая борьба. Вы, коренной и лояльный немец, естественно, встали на сторону Германии, и все же – до чего объективно вами воспринят тот конфликт! Ваш темперамент особо бросается в глаза, но в ваших ранних книгах нет ненависти, обычно присущей горячо и радикально видящей все и вся молодежи. Вы всегда чтили доблестную дуэльную традицию, когда мужчины по тем или иным причинам меряются силой; чем мощнее противник, тем выше честь одержать верх – но и проиграть не страшно. С детства вы были в близких отношениях со своими чехословацкими соседями, были знакомы с их историей, их речью, их песнями, их музыкой и их ярким чувством преданности, не впадая при этом в слепую ненависть и не цепляясь за партийные догмы.
Благодаря этому, а также благодаря вашей свежей, неприкрашенной воле эти романы – свидетели Праги, ныне не существующей. Уже одно это ценно – и печатник Штакманн правильно сделал, переиздав их. Они – то, из чего предстоит произрасти таланту истинного Штробля. Финал «Трактира Вацлава» – своего рода квинтэссенция вашего творчества: жизнь во всей ее полноте, радость – прекрасная, страстная и кроваво жестокая; и «Лемурия» воспевает все, что делает жизнь яркой и опасной – сильные эмоции, грубые инстинкты и чувственные удовольствия, жажду знаний и волю к власти. Иная воля даже после смерти ее носителя не ведает покоя – и алчно устремляется в трансцендентный мир идей, возвращаясь оттуда с призраками, вампирами, дьяволами, ведьмами, феями и лемурами.
Чувственная ненасытность превращает русскую дворянку в вампиршу в «Гробнице на Пер-Лашез», а в «Проливая кровь» показано, как дьявол любит мучить людей – особенно тех, кто претендует на святость. Подавленная сексуальность превращает сестру Агафью в «скверную монахиню», и эта «скверна» в ней так сильна, что живет спустя века. Уязвленная душа убиенного на подмостках Лаэрта ищет отмщения – и возвращается к роли; жестокая ранняя смерть и любовь призывают студентку Беттину и Заклинателя Теней вернуться из могилы, с той стороны. Границы, определяющие Время, Пространство и Смерть, рушатся в рассказах этого сборника. Время и безвременье, настоящее и запредельное – все это перетекает друг в друга. Во время своих фронтовых путешествий вы, по собственному утверждению, повидали Ад воочию и побывали с дьяволом на короткой ноге – так что эффект от этих историй жуткий вдвойне, ведь они напоминают свидетельства очевидца. В них самоуверенный бездушный интеллектуализм современного общества сочетается с пугающим состоянием сна разума – и рождает фантом, в коем физика и метафизика сходятся в пугающе равных пропорциях. Похоть, сластолюбие, страсть к выпивке… Проверенные мастера фантазии, Эдгар По и Эрнст Теодор Амадей Гофман, сходятся во мнении, что именно эти необузданные порывы в конечном итоге заводят грешников в лабиринты подлинного кошмара – и такие шедевры, как «Скверная монахиня», «Манускрипт Хуана Серрано» и «Шестой за столом» сравнимы по оказываемому на читателей эффекту с самыми мастерскими и изощренными выдумками этих двух литературных чародеев. Хотя к чему все эти слова – пусть читатель во всем удостоверится сам! Я же весьма далек от того, чтобы четко сформулировать лейтмотив ваших «ужасных» рассказов. Но в этом литературном направлении вы небывало компетентны, и «Лемурия», равно как и ваш сборник «Хрустальный шар» – явные тому свидетельства. Я рад видеть старого Карла Ханса Штробля в литературном строю – этому фантазеру и сам я, и сто тысяч читателей по всему миру благодарны. Но не менее радостно видеть мне и нового Штробля – моего хорошего товарища в военное (и вскоре, надеюсь, и в мирное) время.
Леонхардт АдельРодау, 10 мая 1917 года
Три картины Иеронима Босха
Русалка
Долговязый Петерс несется назад в деревню, неистово размахивая своими длинными руками – будто в него злой дух вселился. На секунду из окна своей кухни выглядывает супруга пастора. Увидев бегущего вприпрыжку ошалевшего Петерса, она от страха роняет половник. Супруга пастора ждет ребенка. Ее тут же пронзает обжигающий ужас. Смертельно бледная, она опускается на деревянный ящик у очага. Страдая от внезапной режущей боли, одну руку она прижимает к животу, другой же судорожно шарит по стене. Дрожащими пальцами она задевает висящую на гвозде солонку, та падает, и белая соль смешивается с золой из очага. Широко открытыми, полными ужаса глазами она смотрит в пустоту.
Долговязый Петерс тем временем бежит по деревне и громогласно зовет всех наружу. Его ноги будто скачут впереди него, а руки крутятся почище крыльев ветряной мельницы. Его истошный крик вырывается прямо из легких.
Изо всех дверей выскакивают женщины и бегут за ним вслед. Он не сбавляет темпа, пока не обегает все деревенские улочки. Бледный и задыхающийся от усталости, он стоит посреди толпы на деревенской площади.
С любопытством и нетерпением смотрят на него женщины:
– Что случилось? Что такое? Да что же, наконец? Что?..
– Нашли русалку! Рыбаки нашли. На берегу… и она там лежит, и не может уплыть… ее выбросило на берег… у нее рыбий хвост и зеленая кровь… она лежит там… всем нужно пойти и посмотреть на это.
Тогда женщины разбегаются, надевают кто чепцы, кто платки, и уже через пару мгновений целая процессия быстрым шагом выходит из деревни. В самом хвосте, хромая, настолько быстро, насколько позволяют ей ее старые ноги, волочится маленькая, высохшая столетняя бабка Петерса. За руку ведет она своего юного правнука – малыш спотыкается то и дело. Ветер пытается сорвать с женщин платки. Юбки их раздуваются, будто паруса.
С высоты дюны они уже видят столпившуюся группу рыбаков. Те сбились в кучу и что-то разглядывают, не отрываясь. Наконец женщины пробиваются сквозь толпу мужчин и своими глазами видят морское чудо.
Наполовину девушка, наполовину рыба… Маленькое бледное личико с большими голубыми глазами, мечущимися от одного к другому, полные смертельного ужаса. Тяжелые белокурые локоны закрывают плечи. По маленьким выпуклым грудям стекают капли воды.
Вместо ног у девушки тонкий красно-зеленый чешуйчатый хвост. Низ ее живота и весь хвост до самого плавника испещрен мелкими блестящими чешуйками, подогнанными одна к другой плотно, как элементы кольчуги. Внизу, у плавника, можно увидеть страшную рану. Плавник практически оторван. Лишь благодаря какому-то тонкому лоскутку он остается частью целого. Из раны сочится густая изумрудная кровь, окрашивая в зеленый цвет песок вокруг морской девы. Она, должно быть, поранилась об острую скалу, а потом ее, беззащитную, выбросило волной на берег.
Рыбаки, женщины и дети так и стоят вокруг, и смотрят на морское чудо пустыми глазами. Но наконец чары рассеиваются. Что это? Знамение? Как им быть с этим?
Кто-то предлагает положить ее в сети и унести в деревню.
– Нет, только не в деревню! – восклицают женщины. – Нам нужно спросить у пастора! Пусть кто-нибудь приведет пастора!
И долговязый Петерс мчится за пастором. Остальные спорят, перекрикивая один другого. Все задаются вопросом, и никто не знает, что делать. А голубые глаза морской девы по-прежнему полны ужаса. Она неустанно смотрит то на одного, то на другого. Наконец взгляд ее останавливается на Йенсе… Широкоплечий юноша проталкивается в первый ряд. Он ни у кого ничего не спрашивает и никому ничего не отвечает. Он лишь неотрывно смотрит на русалку, лежащую у его ног.
Ее взгляд тоже больше не мечется, теперь он прикован к фигуре юноши. Их взгляды встречаются… и тогда она стыдливо прикрывает тяжелыми локонами свои нежные юные груди. Оба не слышат ничего, хотя гул голосов вокруг не прекращается. Богатей Клаас высказывает предложение забить дьявольское создание до смерти и выкинуть обратно в море. Женщины одобряют, и рыбаки уже направляются к своим лодкам за веслами.
Но тут Йенс нарушает молчание.
– Ее никак нельзя убивать, – говорит он своим глубоким голосом. – Я заберу ее к себе и вылечу, а потом отпущу обратно в море.
– Йенс! – восклицает из толпы его мать.
Но Йенсу все равно, что скажут другие. Если пастор учит паству быть милосердными даже к животным, и подавно стоит помогать тем, кто наполовину человек!
Женщины поднимают крик, мать Йенса начинает рыдать.
«Уж пастор-то поймет», – думает Йенс.
– Пастор пришел! – выкрикивает кто-то, и пастор и в самом деле оказывается в кругу толпы. Он очень взволнован – так, что ноги подкашиваются. Руки дрожат, на лбу выступает холодный пот. Его жена дома корчится от мук.
– Что за шум вы подняли? – спрашивает он.
– Это все Йенс! – кричат остальные.
Йенс рассказывает пастору о своем предложении. Пастор усердно трет лоб, собираясь с мыслями, а затем начинает говорить резко и отрывисто. Затея Йенса ужасна. Пастор не допустит такого в своем приходе. Милосердие и любовь к ближнему заслуживают лишь божьи создания. Это же создание, вне всяких сомнений, – порождение Нечистого. Можно накликать беду, принеся ее в деревню.
– Добить ее! Добить! – вопит Клаас, и еще парочка горлопанов вместе с ним.
Пастор, однако, против убийства. Лучше просто оставить эту русалку. Если эта дева с рыбьим хвостом – дьявольское наваждение, то вскоре она просто исчезнет. Если это такая диковинная рыба – то ее унесет прилив.
– А теперь пусть все возвращаются к своим обязанностям! – Сказав так, пастор уходит из круга и широкими шагами спешит к своему дому. Постепенно разбредаются и остальные.
Только Йенс остается на том же месте. Опустив голову, он смотрит на морскую деву. Теперь взгляд ее голубых глаз стал спокойным и умиротворенным. В нем благодарность и доверие. Она знает, что он заступился за нее.
Чья-то сильная рука трясет Йенса за плечо.
– Идем. – Рядом стоит отец. Но Йенс отрицательно мотает головой. Он хочет остаться. Отец сжимает его плечо сильнее. Он уже в ярости. Он грозит сыну… Железными пальцами хватается Йенс за кулак, сжимающий его плечо. Суставы хрустят. Мужчины буравят друг друга глазами. Но… Йенс видит наверху дюны свою мать. Ее юбка и платок растрепались. Она заламывает руки и причитает.
Тогда Йенс отпускает руку отца и покорно идет назад в деревню. Он чувствует на своей спине прикованный к нему вопрошающий и умоляющий взгляд бедной девушки… но он уходит… дальше… дальше…
Волки чествуют слабое свечение луны. Море волнуется. Его грозная песнь доносится в деревню. Там уже давно погасли все огни. Только в окно пастора сквозь алые шторы льется свет. В маленьком саду тоже посверкивает слабый красный огонек. Кто-то ползет вдоль забора. Это Йенс.
На мгновение он останавливается и бросает взгляд на окно. Он знает, что женщина в этом доме борется со смертью. Сквозь стиснутые зубы он произносит проклятье.
Он уходит из деревни и спускается вниз, к берегу. Там, на песке, виднеется темное пятно… Русалка слышит шаги. С усилием она приподнимает голову. Йенс опускается перед ней на колени и начинает нежно что-то шептать полным сострадания голосом. Он знает, что она не понимает его – но звук его голоса ее успокоит, утешит. Ее маленькие, пылающие жаром ладошки утонули в огромных, черных от загара кулаках юноши.
Она начинает петь. Ее голос легок и печален. На каком языке звучат слова? Будто густой туман, закрывающий шпили гор, – так тяжел мотив этой песни, так полон извечной скорби.
Йенс слушает… Он даже не замечает, что по щекам его текут слезы.
Тут он будто приходит в себя. Он ведь принес с собой хлеб и рыбу. Он предлагает ей подкрепиться.
Она мотает головой – и продолжает петь.
Йенс стоит перед ней на коленях и держит ее руки в своих, пока звезды на небе не начинают бледнеть.
Тогда он встает и, взглянув на нее еще раз, произносит:
– Я вернусь.
И она понимает его слова. Ее глаза полны умиротворения. Теперь ее взгляд спокоен как дюна, что возвышается над ними. В деревне весь день суета. Легкими, робкими шагами бредут люди к дому пастора, где окна завешены красными шторами и стоит гробовая тишина. Некоторые будто бы слышат сдавленный, спрятанный в подушку стон. В полдень пастор неподвижно возвышается в саду за домом и безмолвно смотрит на полосу моря. В руках у него длинная трубка. Вдруг, словно безумец, он размашисто ударяет чашей трубки по стеклянному шару, висящему на кусте рододендрона. Мелкие осколки летят в разные стороны. Пастор возвращается домой. Что-то зловещее витает в воздухе.
В доме Йенса с самого утра переполох. От ночного смотрителя отец узнал, что Йенс уходил на побережье. Завязалась такая сильная ссора, что Йенс осмелился поднять руку на отца. Юноша толкнул старика, и тот упал, приложившись головой о домашнюю печь. Но, несмотря на глубокую кровоточащую рану, отец таки справился с сыном, уволок его наверх и запер в комнате. А в деревне уже вовсю судачат о несчастной русалке на берегу. Несколько мальчишек уже сбегали к морю и рассказывают, что она так и лежит на песке, неподвижно, с закрытыми глазами. Только по едва заметному дыханию они поняли, что она все еще жива. Они тыкали в нее палками и хотели выбросить обратно в море. Но эту охоту у них отбил один только взгляд на ее мертвенно-бледное лицо.
Но взрослые не столь милосердны. Они обвиняют морскую деву во всех несчастьях, обрушившихся на деревню. Богач Клаас снова призывает всех умертвить отродье дьявола. А вечером по деревне разлетается весть, что супруга пастора разродилась мертвым ребенком с большой водянистой головой. На его уродливых ножках красным и зеленым переливалось нечто похожее на плавники. Женщина тоже была обречена.
Людей охватывает ярость. Они готовы немедленно спуститься на берег и убить ту, что повинна во всех местных бедах. Но опускается ночь, и от моря несет таким холодом, что смельчаки решают… ну его… завтра, на рассвете, они с ней управятся.
Как только вся деревня погружается во тьму и ни в одном окне не видно огонька, кроме скорбного мерцания свечи за красными шторами пастора, Йенс выбирается из своей комнаты. Бесшумно, как кот – разве что широкие плечи не сразу протиснулись в оконную раму, – Йенс высовывается из окна и спрыгивает на траву у дома. От резкого толчка он припадает на четвереньки, но тут же выпрямляется. Проходя мимо дома пастора, он вдруг сжимает кулаки и снова цедит сквозь зубы проклятье.
Русалка знает, что он придет. Она нежно притягивает его к себе. Йенс целует белые губы и впалые глаза.
Она снова поет. Снова ее песнь нависает тяжелым туманом, а море шумит в такт. Но туман начинает рассеиваться. Ее песнь делается чистой, отливающей золотом. Солнечный свет опускается на волны прибоя, и они становятся все тише, все спокойнее… море спит. Русалка берет Йенса за руку и притягивает ее к себе. Сквозь покров густых белокурых локонов эта огромная рука, предназначенная для тяжелой работы, нежно опускается на трепещущую девичью грудь.
Йенс чувствует слабое биение сердца. И чем оно слабее, тем тише становится песня. Но вот один сильный удар, она крепко сжимает его руку и откидывается назад.
Йенс сидит и не отрываясь смотрит на нее в свете зарождающегося утра.
Его глаза сухи. Ни одна слезинка не выдаст его страдание. Его что-то беспокоит. Что же? Наконец он понимает. Он ведь все слышал, о чем говорили дома. Они хотели прийти и убить ее.
Они не должны найти ее…
С огромным усилием он поднимается. В своих руках он несет безжизненное тело. Его глаза вспыхивают огнем, когда он видит, как израненный рыбий хвост подпрыгивает при каждом его шаге. Он идет к морю; уверенной поступью восходит на прибрежную скалу. Оттуда он сбрасывает тело в воду. Громкий всплеск – и волна уносит его…
Йенс возвращается на берег. Он слышит со стороны дюны громкие голоса сельских мужчин. Он сразу понимает: кто-то из них пьян. Ему хорошо знаком этот омерзительный хохот. Они не должны увидеть его! Йенс припадает к земле и ждет, пока процессия пройдет мимо.
В свете утренней зари он видит почти всех мужчин и мальчиков деревни с дубинками и веслами. Иные нетрезво пошатываются. Процессию возглавляет отец Йенса. Его раненая голова обмотана белым платком. В кулаке он сжимает топор. Он тоже напился. Его глаза налиты кровью. Лицо покраснело и распухло.
Наконец они удаляются. Йенс бежит прочь. Уже на полпути до деревни он слышит позади себя яростные вопли.
Йенс бежит дальше. Он должен оказаться в своей комнате до того, как все мужчины вернутся в деревню. Они не должны узнать, что произошло этой ночью.
Пробегая мимо дома пастора, Йенс видит, что все окна открыты.
Он знает теперь, что хозяйка дома умерла. Он крадется вдоль стены дома – и сквозь стиснутые зубы произносит проклятье.
На перекрестке
Три серые великанши сидят на перекрестке. Одна из них уперлась ногой в домик лесника и чешет впадинку между пальцами ступни своими костлявыми когтистыми руками. «Ху-ху», – ворчит еловый лес и отряхивается. А внутри дома лесник и его супруга дрожат под тяжестью Альпа, насылающего им кошмары. В колыбели тихо хнычет дитя.
Вторая великанша уменьшилась и вырезает большим острым ножом по деревянному изображению Христа на перепутье. Сперва она срезает длинные стружки со столба, а затем с перекладины деревянного распятия. Все это время она шепчет нараспев: «Мозоль, отек… иудейский царек…» – и, слой за слоем, срезает мягкую древесину с носа Спасителя, покуда там вообще ничего не остается. Теперь на залитом дождем лике мелькает белое пятно. Взяв нож, великанша приставляет его острием к пупу деревянного тела. Она крутит его, на манер мутовки, все быстрее и быстрее, пока не просверливает в теле большую дыру. Она выдувает из отверстия опилки и пыль. В темноте ее глаза сверкают как у волка.
Третья великанша сидит прямо. Ее голова возвышается над чернеющими верхушками елей. В ее руках что-то шевелится. Очень толстый крестьянин. Хрусь! Она откусила ему правую ногу. Она с удовольствием жует и прищелкивает языком.
– Ой… ай! – плачет крестьянин и молит ее: – От… отпусти!
С дружелюбной усмешкой великанша смотрит на толстяка в руке.
– У меня жена… дети… дома ждут…
– Вот как, – изрекает великанша.
– Жена… дети… как же они без меня…
– Вот как! У тебя есть жена! – Великанша ухмыляется и сажает его прямо перед окном в его дом. Внутри горит свет. Он пытается встать, но роста ему с одной стороны тела теперь недостает; он весь – как поломанная кукла.
– Вот, держи, – великанша шарит у себя во рту, – твоя нога.
Когда конечность вернулась к нему, крестьянин встает на цыпочки. За окном на столе горит лампа… стол накрыт… два кувшина с пивом, два наполовину наполненных стакана, две тарелки с костями, посередине миска с нарезанной гусятиной и еще одна с копченым мясом. На стуле у двери висит плащ, под плащом брошена широкополая шляпа с двумя кисточками. На стуле у стола – камзол и кожаные штаны. Синяя занавеска перед широким супружеским ложем задернута, перед кроватью – пара высоких ботинок и пара тапочек… Крестьянин поворачивается к окну, он мертвенно бледен.
– Мои д-дети, – заикаясь, произносит он.
Великанша переносит его к сараю. Бедолага-крестьянин дрожит. Одним рывком великанша поднимает деревянную крышу – так, чтобы человек у нее в руке мог заглянуть внутрь. Ужасная вонь бьет наружу. В углу на корточках неподвижно сидит мальчик – его лицо землистого цвета, а глаза ничего не выражают. Он – в одном углу, а в другом жирная свинья возвышается над маленькой девочкой. Свое рыло она погружает в бледную плоть – и играючи отрывает большие куски. В маленьком теле все еще теплится жизнь, и поросята, визжа и толкаясь, насыщаются текущей кровью.
Двое в постели слышат крик, пронзительный крик. Возвышаясь над черными шпилями елей, великанша с довольной улыбкой вздымает тучную добычу над головой – и отправляет в зловонную пасть. Хрусть! Ломаются кости, и жир с кровью стекают по ее подбородку.
Вторая великанша на перекрестке развела костер из навоза и сухих еловых веток, прямо под ногами распятого Христа. Обнаженные ноги тлеют в ярком пламени из коровьих лепешек и сухих еловых ветвей. Все тело Спасителя подергивается от боли. В отверстие в теле распятого она запихала листы, вырванные из молитвенника, и когда языки пламени поднялись еще выше и старая пожелтевшая бумага начала тлеть и потрескивать, она три раза радостно прыгнула через костер. С самым серьезным видом она снимает с шеи бусы и шарик за шариком бросает их туда же, в огонь, напевая: «Мозоль, отек-к-к… иудейский царек-к-к». Большие, тяжелые черные капли крови медленно стекают из отрезанного носа по бледному лицу и изувеченному телу, падают в алое кострище – и там со злым шипением исчезают.
Большим пальцем ноги великанша закрыла дымоход в доме лесника. Черепица градом падает наземь. С криком вырывается жена лесника из оков дурного сна. Тишина кругом, и даже часы остановились. «Ху-ху», – вдруг вздыхает еловый лес и шелестит ветвями.
– Батюшка, – трясет она своего мужа в попытке разбудить. – Батюшка, что…
Она трясет сильнее и сильнее в порыве отчаяния, на мгновение останавливается – и хватает его за руку. Холоднее льда! В порыве отчаяния она трясет его.
– Да что же это такое… Иисус-Мария-Иосиф! Свет, я сейчас зажгу свет!
Резкий порыв ветра разгоняет облака. Лунный свет слабо освещает лес и перекресток. Вокруг еловых шпилей плавают клочья тумана, медленно возносясь и растворяясь в лунном свете. В далекой деревне жалобно воет собака. В доме лесника уже горит свет…
– Квак-к-к… квек-к-к… – напевают лягушки на болоте.
Инквизитор
«Топ, топ, топ», – раздаются шаги на деревянной лестнице. Кто-то поднимается. Это господин доктор. Как мерзко звучит сегодня это обычно такое знакомое и умиротворяющее топотание. И вдруг – лязг! Тяжелая связка ключей, подпрыгивая, катится по ступенькам. Снова шаги. Только теперь – вниз. На долгое время все стихает… и поступь легчает, как бы стесняясь этого естественного шума, производимого старой лестницей под тяжестью шагов – «топ… топ». Ей вторит едва слышный шорох, будто чья-то рука скребет по шершавой стене. Шаг за шагом, осторожно… осторожно… и вдруг – оглушительный грохот… будто столкнулись камень и сталь. Но это всего лишь железная настенная подставка для сосновой лучины, освещающей лестницу, невольно стала препятствием для каменной головы нашего ученого, господина доктора, члена нашего судебного заседания, повсеместно чтимого и восхваляемого судьи над ведьмами. «Топ… топ…» – наконец-то – дверь в спальню! У доктора вырывается вздох облегчения.
Ключ со скрипом поворачивается в замке, и ржавый засов отодвигается.
Тьма. Кромешная тьма в жилище холостяка. Герр доктор на ощупь находит огниво… какая-то возня… вот мерцает слабый огонек… Фитиль горит, и… в слабом красно-желтом свете сальной свечи на полу проступает круг из трех следов. Лицо доктора раскраснелось, берет съехал на затылок, а меховой воротник мантии оказался на левом плече, хотя ему положено быть на правом. Расставив ноги, доктор нагибается, чтобы поставить серный фитиль на пол. Он уже прожег в белоснежных, присыпанных песком половицах черную уродливую дыру. Доктор бормочет что-то нечленораздельно. С тяжелым вздохом он кое-как выпрямляется.
На его столе в центре комнаты сидит Сатана. Он вертит хвост в своей левой руке и меряет доктора добродушным взглядом своих огромных, круглых, пылающих огнем глаз.
– Вот до чего доводит проклятое вино… до чертиков, – кряхтит доктор. Его Темнейшество понимает, что обнаружен, и спрыгивает вниз. «Топ» – так звучит его человеческая нога. «Цок» – так звучит его копыто. Рывком просунув хвост между ног, Сатана держит его прямо перед собой, словно хвост – это мушкет, а сам он – гвардеец замка, чествующий едущую мимо в упряжке высокопоставленную особу.
Господин доктор польщен. Он хватается за свой берет и приветливо кивает. Закончив с торжественной частью, Его Темнейшество снова располагается на столе, но тут же соскакивает… топ-цок… заметив неодобрительный взгляд хозяина дома. Он подходит к расписанному цветами сундуку под одностворчатым шкафом и достает оттуда шерстяное одеяло. Должно быть, он знаком с обычаями дома. Шерстяное одеяло стелется на стол, и теперь гость устраивается со всеми удобствами.
Из темного угла, где стоит широкая белая кровать, раздается приглушенный смех. По чистой подушке доктора струится поток спутанных белых локонов, из-под тяжелого одеяла выглядывает розовощекое лицо. Когда локоны соприкасаются, в стороны брызжут искры, и в тишине раздается едва уловимый шорох… Сквозь эти спутанные локоны смотрят глаза – глаза сладострастные и манящие. Очи ангела. Очи вампира… Доктору все это странно… ему кажется, что эти глаза прожигают, как два огненных шара, дорогу в самые недра его души. Ощущение приносит одновременно и наслаждение, и боль – словно приятное тепло в любой момент разразится неистовым пламенем, гораздым пожрать все вокруг.
Он хватается за голову. Виски отбивают барабанную дробь.
Он трусливо крадется к подножию кровати и пытается кончиками пальцев приподнять уголок одеяла. Им движет неодолимое желание увидеть ноги этого существа.
Он совершенно уверен, что эти ножки маленькие, белые и теплые. Он хочет сжать их своей вечно влажной и холодной жабьей рукой. Но Его Темнейшество вдруг подскакивает со стола и от души шлепает доктора по рукам.
– Ой! – жалобно квакает доктор, потирая ушибленное место.
– Не смей, – говорит дьявол. – Это моя работа. – Стремительным жестом он поднимает одеяло, демонстрируя прекрасное женское тело в своей первозданной наготе. Доктора в тот же миг будто с головой окунули в кипящую воду. Сперва он не видит ничего. Он садится на край кровати и легко, едва касаясь, проводит рукой по изящному изгибу бедра.
– Щекотно! – Плутовка пытается увернуться от ласкающей руки, но ее глаза смотрят на доктора вызывающе. Доктор набрасывается на нее, покрывает ее губы диким, голодным поцелуем… ее белые руки обвиваются вокруг него… но в последнюю секунду он словно осознает, что вместо нежных женских рук его стискивают длинные, жилистые, покрытые шерстью обезьяньи лапы…
Кто-то с силой трясет его за плечо. Это приводит его в чувство… сперва доктор даже не понимает, кто это. Но тряска продолжается. Его Темнейшество крепко вцепился и не ослабляет хватку, пока доктор не приходит в себя. Свеча догорела, в комнате стоит смрад от жира и серного фитиля. Восходит луна – и озаряет комнату. На скомканных простынях лежит женщина. Лицо ее посинело – она задушена. Разбухший язык вывалился изо рта. Тело свело судорогой.
Доктор в совершенном недоумении.
– Хочу тебе кое-что показать, – говорит Его Темнейшество и тычет указательным черным пальцем между женских грудей. Доктор чувствует дурноту.
– Тьфу, дьявол! – произносит он.
– Что, простите? – откликается Его Темнейшество.
Доктор замолкает. Дьявол снова указывает пальцем. Пуп с треском выскакивает из живота задушенной, будто пробка из пугача. За ним тянется белый тонкий шнурок из тесно прижатых друг к другу колец, будто ленточный червь. Пупок падает на пол и волочет за собой белесого червя, и тот извивается на полу, словно живой. Он все ползет и ползет, становясь больше, быстрее… укладывается спиралями, восьмерками, петлями… чрево женщины неистощимо… и вот уже на полу нет свободного места. Доктор вскакивает на стул. Его трясет.
А тонкий белый шнурок становится все толще. Теперь он уже толщиной с дождевого червя. Впадины между кольцами становятся все у´же, и вот они уже готовы взгромоздиться друг на друга. Но чрево все продолжает исторгать белесое нечто. Червь уже толщиной с палец. Кольца набухают. Теперь они больше похожи на связку шаров. Наконец они как-то отделяются друг от друга и расползаются по комнате. Одни подскакивают вверх. Другие копошатся среди своих тугих круглых сородичей.
И вот уже белые шары начинают преображаться. Две ноги – как птичьи лапки, длинный, толстый, тянущийся шлейфом хвост, голова – лохматая, угрюмая, в бархатном берете. Ну прямо-таки голова доктора, только уж очень маленькая. Головы эти выросли до размеров кулака и становятся все больше.
– Посмотри на своих детей, – предлагает Сатана.
В голове доктора разрываются огненные снаряды. Он соскакивает со стула и яростно топчет ногами копошащуюся студенистую массу, то страшно ругаясь при этом, то почему-то смеясь. Раздается пронзительный писк, словно кто-то гоняет цыплят.
– Да как ты смеешь? – в гневе рычит Сатана, хватает доктора за ногу и переворачивает его вниз головой. У доктора перехватывает дыхание. Дьявол отпускает его. Но, едва успев встать на ноги, доктор снова принимается топтать свое потомство – смеясь, как полоумный:
– Хо-хо! Хо-хо-хо!
Сатана неподвижен и серьезен. Из щетины на кончике хвоста он достает красный шелковый шнурок и протягивает его доктору.
Глаза доктора стекленеют. Какое-то время он стоит не двигаясь. Потом он завязывает шнур в петлю, набрасывает на свою шею – и стягивает, все туже и туже, до тех пор, покуда не падает замертво. Женщина в постели поднимается и бросает на него пылающий взгляд.
Издалека доносится звук рога ночного сторожа. Прямо под окном чеканит ритмичный шаг патруль. Фонтан на рыночной площади шумит в свете луны. Песчанистая статуя речного божества, изливающего воду из вазы, поднимает голову и заглядывает в окно доктора.
Судебная комиссия, что приходит к доктору на следующее утро, дабы вручить ему на подпись протокол о правомерности вчерашнего сожжения ведьмы, никак не может попасть внутрь. Кое-какие слухи уже ходят среди людей – ночью во всем доме слышались жуткие вопли. Дверь наконец-то взломана – мертвый доктор лежит на полу с красным шнурком на шее. Его руки страшно обожжены, а на смятой постели – лужа вязкого зловонного гноя.
– Ну и ну! – восклицает старший советник.
– Ну и ну, – хором вторят остальные господа.
Голова
В комнате царила непроглядная темень, и все шторы были задернуты, ибо того от нас требовали правила проведения ритуала призыва. С улицы внутрь не проникало ни лучика света, и несокрушимая тишина давила на уши. Незнакомец, мой друг и я, трио участников действа, крепко держали друг друга за руки. Непомерный ужас обуял нас – причем шел он не от внешнего источника, а укоренился где-то глубоко в нас самих.
И тут из темноты к нам протянулась худая, бледная светящаяся рука и начала писать за столом, приютившим всех троих, подхватив со столешницы заранее заготовленный нами карандаш. Мы не могли видеть сам текст, но некое нутряное чувство, обострившееся до предела, подхватывало суть так же ясно, как если бы выписанные огнем литеры вставали у нас прямо перед глазами. Вся история этой руки и человека, некогда направлявшего ее, – вот что открылось нам, глядящим на порхающую над пергаментом белую кисть в глубоких полночных потемках.
«Когда я ступил на красную ткань, покрывавшую истертые ступени, с моим сердцем произошло что-то странное. Оно стало раскачиваться взад-вперед в моей груди, как тяжкий маятник. Но край гири маятника был тонким, как волос, и острым, как бритва; и когда гиря, свершив полный ход, царапала по моим ребрам изнутри, я ощущал режущую боль и жутко трудно становилось дышать; хотелось глубоко вдохнуть – и не выходило. Я стиснул зубы, силясь не издать ни звука, и так сильно сжал связанные за спиной кулаки, что из-под ногтей, впившихся в мякоть ладоней, потекла кровь. Но вот я – на вершине. Все в порядке – все просто ждали меня. Я спокойно позволил обрить себе загривок, а затем попросил разрешения обратиться к людям в последний раз. Мою просьбу удовлетворили; я обернулся и оглядел бесконечную толпу – тесно, голова к голове, стоявшую вокруг гильотины. Глупые звериные лица, исполненные либо грубого любопытства, либо похоти – людская масса, четырнадцать тысяч тел, презираемых мною уже за то, что они смеют называть себя людьми! Расклад выглядел до того нелепо в моих глазах, что я не смог удержаться от громкого смеха. Но тут я вижу, как на важной мине палача проступают строгие морщины. Он смотрит на меня хмуро. Чертовская наглость с моей стороны – воспринимать дело со столь малым трагизмом! И тем не менее я хочу еще немного подстрекнуть добропорядочных граждан – и быстро тараторю речь.
– Сограждане! – кричу я. – Дорогие мои, я умираю за вас и за свободу. Вы неправильно поняли меня, вы осудили меня, но я люблю вас. В доказательство моей любви послушайте мое завещание. Все, чем я владею, принадлежит вам – вот оно…
Поворачиваясь к ним спиной, я показываю им зад. Конечно, такой жест очень сложно превратно истолковать. Раздается возмущенный рев. Я быстро лег и со вздохом облегчения просунул голову в отверстие. Посвист лезвия режет по ушам – на шею будто резко плеснули ледяной воды… и вот моя голова упала в корзину. Я словно нырнул под лед, и холодная вода затекла мне в уши. Первобытный, сбивающий с толку гомон внешнего мира, прежде давивший на меня, превратился в простой треск в висках. По всему поперечному сечению моей шеи ощущение такое, будто из меня в больших объемах льется, сразу же испаряясь, эфир. Я знаю, что моя голова лежит в плетеной корзине, а тело – на раме, и все же кажется, будто полного отделения еще не произошло. Я почувствовал, как мое тело слегка дернулось и завалилось на левый бок. Мои скованные за спиной кулаки слегка подергивались; пальцы с силой сжимались, затем разжимались и снова сжимались вместе. А еще я чувствую, как поток крови хлещет из перерубленной шеи – и как все больше слабеют движения по мере того, как эта кровь вытекает. Слабеет, становится все более смутным и ощущение тела, пока все то, что оставалось под моей отрубленной шеей, полностью не исчезло.
Меня обезглавили.
В полном мраке от шейного разреза и ниже я вдруг смутно чувствую нечто красное. Красные пятна, как искры огня в темную грозовую ночь! Они растекаются по сторонам, распространяются, будто капли жидкого масла, по ровной поверхности воды. Когда края красных пятен соприкоснулись, я почувствовал, как мои веки ожгло электрическим током, а волосы на макушке встали дыбом. Затем красные пятна начали вращаться сами по себе, быстрее, еще быстрее; бесчисленное множество пылающих огненных кругов, ослепительно сияющих жидких кусочков солнца… эти диски неслись и кружились, из-за них вырывались длинные языки пламени, и мне пришлось закрыть глаза. Я до сих пор чувствовал огненно-красные диски внутри себя – они прилипали ко мне, как песчинки, застревали между зубами и в каждом суставе. Наконец огненные диски погасли; их бешеное вращение замедлилось, они потухают один за другим, и потом снова воцаряется мрак – во всем, что осталось книзу от шейного сруба. И на сей раз мрак остается навсегда.
На меня снизошла сладостная истома, безмерная расслабленная нега; веки одряхлели. Я их больше не поднимаю – но все равно вижу все, что меня окружает. Кажется, словно веки мои – из стекла, и потому прозрачны. Я видел все как будто сквозь молочно-белую пелену, пронизанную нежными алыми прожилками, и притом – видел яснее и дальше, чем при жизни. Язык парализовало. Тяжелый и вялый, как шмат глины, он лежит в полости рта.
Но мое восприятие обострилось в тысячу раз; я не только видел предметы, но и обонял их, каждый по-своему. Все вокруг отличалось своим особым, личным запахом.
В плетеной корзине, аккурат под зазубриной лезвия гильотины, лежали, помимо моей собственной, еще три головы – две мужские, одна женская. На розовых щеках женщины виднелись остатки косметики, в напудренных, уложенных волосах застряла золотая стрела, а в маленьких ушках красовались изящные бриллиантовые сережки. Головы двух мужчин лежали лицами вниз в луже засохшей крови. На виске одной из них виднелась старая, плохо зажившая рана, волосы другой отличались сединой и редкостью. Женская голова сощурила глаза – я знаю, эта чертовка рассматривает меня сквозь прикрытые веки… Так мы и лежим часами. Я наблюдал, как солнечные лучи скользят вверх по раме гильотины. Затем наступил вечер, и я начал замерзать. Мой нос абсолютно одеревенел, а холодок от испарений на шее доставлял дискомфорт.
Внезапно кто-то с грубым криком, прозвучавшим совсем близко, крепко ухватил мою голову за волосы и рывком достал из корзины. К моей шее прижался странный наточенный предмет – кажется, наконечник копья. Толпа пьяных поденщиков и солдат что-то делала с нашими головами. Мощный долговязый мужчина с красным раздутым лицом держал в руках копье с моей головой на острие и размахивал им высоко над возбужденной орущей толпой.
Группа мужчин и женщин дралась из-за раздела добычи и дергала женскую голову за волосы и уши. Мародеры катались по земле, сцепившись друг с другом, сражаясь руками и ногами, зубами и ногтями, как уличные коты. Но вскоре, почти что в один момент, драка закончилась. Толпа разочарованных неудачников, клубившаяся вокруг, гневно кричала на тех, кому удалось утащить часть добычи. Женская голова осталась лежать на земле – вся обезображенная, оскверненная, в синяках от кулачных ударов. Ее уши порваны – снимая серьги, мародеры не очень-то церемонились. Тщательно уложенные волосы растрепаны, припудренные косички темно-русых волос валяются в уличной пыли. Одна ноздря вскрыта какой-то острой железкой; на лбу темнеет отпечаток подошвы ботинка. Веки полуоткрыты, и остекленевшие глаза смотрят прямо перед собой.
Наконец толпа двинулась вперед. Четыре головы насажены на длинные пики. Гнев людей направлен в основном на голову человека с седыми волосами. Этот старик, должно быть, пользовался особой народной нелюбовью, но я его при жизни не знал. В его голову теперь плюются, швыряют камни и комья грязи. Когда темная мокрая жижа попала ему в ухо… мне показалось, или его лицо скорбно наморщилось? Может, это такой посмертный спазм мышц? Еле заметная перемена выражения – но все же, все же…
Наступила ночь. Толпе угодно, чтобы наши головы нанизали на пики стальной ограды по периметру дворца. Что за дворец, мне неведомо. Париж, в конце концов, город весьма и весьма крупный. Вооруженные горожане расположились во внутреннем дворе и разожгли большой костер. Они пели непристойные песни и рассказывали анекдоты. До меня донесся запах жареной баранины – и тонкий аромат дорогого розового дерева, поднимавшийся от костра; дикая орда выволокла все внутреннее убранство замка во внутренний двор и теперь сжигала его по частям. Вот на очереди – изящная, с элегантными завитушками, софа… но варвары почему-то медлят, почему-то не вдвигают ее в бушующее пламя.
Ядреная молодка в открытой спереди рубашке, демонстрирующей ее полные крепкие груди, о чем-то просит мужчин, оживленно жестикулируя. Может, она выпрашивает у них побрякушки? Возжелала ощутить себя герцогиней, дамой света?
Мужчины колеблются. Молодка показывает на забор, где на пиках торчат наши головы, а потом – снова на софу. Ее соратники медлят – тогда она расталкивает их по сторонам, отнимает у одного из вооруженных молодчиков саблю, опускается на колени и начинает крепкой крестьянской рукой, при помощи уголка лезвия, тянуть из деревянного остова софы маленькие гвозди с эмалированными шляпками, удерживающие тяжелую шелковую обивку. Теперь мужчины помогают ей… Вот она опять показывает на наши головы.
Один из мужчин медлительной походкой приближается к решетке – ищет место, где удобнее будет забраться. Вот он карабкается наверх по стальным прутьям, резко сдергивает потрепанную, изуродованную женскую голову. Он в ужасе, но действует по принуждению. Кажется, что молодая женщина, сидящая вон там, у костра, в красной юбке и рубашке с открытым воротом, управляет всеми окружающими ее мужчинами силой дикого, хищного взгляда. Негнущейся рукой молодчик подносит голову за волосы к огню. Женщина хватает мертвечину с диким, полным радости криком. Она крутит ее, раскачивает за длинные вихры над потрескивающим жарким пламенем. Потом она приседает на корточки и кладет голову на колени. Словно лаская, оглаживает несколько раз по щекам… на глазах у рассевшихся кругом мужчин… и вдруг в одну руку берет один из гвоздиков с эмалированной шляпкой, в другую – молоток и сильным ударом вгоняет гвоздь в череп до отказа. Еще один короткий удар молотка – и очередной гвоздь исчезает в густой женской шевелюре.
Трудясь над головой, молодка начала напевать песню – очень страшную, радостную и странную народную песнь о древней магии.
Окровавленные дикари, сидевшие вокруг, смотрели на нее, бледные и испуганные, их полные ужаса глаза таращились из темных впадин. А она все стучала и стучала, вбивая один гвоздь за другим под аккомпанемент странного фольклорного распева.
Внезапно у одного из мужчин вырвался пронзительный крик, и он вскочил. Его глаза были широко раскрыты и выпучены. Изо рта у него текла слюна. Он откинул руки назад и изогнулся всем телом, словно от ужасной судороги, и из его рта вырвался пронзительный рев животного.
Молодая женщина невозмутимо стучала молотком и пела свою песню.
Затем второй мужчина вскочил с земли и завыл, размахивая руками. Он выхватил горящую головню прямо из костра и стал прижимать ее к своей груди – снова и снова, пока его одежда не начала тлеть и от него не повалил густой вонючий дым. Но все остальные сидели неподвижно, белые как простыни, не мешая ему калечить себя. Затем вскочил третий, и в то же время остальные, пошатываясь, тоже поднялись на ноги. Поднялся грай, визг, вопли, рев и завывания; путаница движущихся конечностей ярко мелькала в воздухе. Если кто-то падал в этой круговерти – то более не вставал, и остальные без зазрения топтали его. Посреди этой оргии безумия молодая женщина сидела спокойнее моря в штиль; знай себе стучала молотком и пела. Закончив, она насадила голову, утыканную маленькими гвоздиками с эмалированными шляпками, на кончик штыка – и подняла штык высоко над воющей, прыгающей толпой. Тут кто-то ногами раскидывает костер. Поленья гаснут, и светящиеся искры разлетаются по темным углам двора, где мрак пожирает их. Стало темно – и только и слышно, что страстный крик и дикий шум, как будто от страшной потасовки – я знал, что все эти безумцы, дикие звери сейчас сражаются за эту единственную женщину, пуская в ход зубы и когти…
Все потемнело у меня перед глазами.
Я пришел в себя ровно настолько, чтобы увидеть, как все вокруг стало серым в лучах рассвета, темного и неясного, больше напоминающего унылый зимний полдень. Капельки дождя разбивались о мою макушку. Холодный ветер трепал мне волосы. Моя плоть стала глинистой и немощной. Может, так и ощущается начало разложения тканей?
Вскоре со мной происходит некая метаморфоза. Мое сознание проваливается в некую бездну, во чрево, где царит умиротворяющая тишина и тепло, словно в колыбели забвения. И даже туда, в это сумрачное царство котлована, как-то пробивается слабый свет, очерчивая контуры реальности. Я оказываюсь не один в присыпанной землей черной яме, ибо вокруг меня – бесчисленные головы и тела, разделенные и одинокие. Я наблюдаю, как они, словно потерянные души, отчаянно тянутся друг к другу, воссоединяясь, несмотря на все преграды. И в этом-то слиянии рождается незримый диалог, безмолвный язык мысли, на котором они общаются в тишине своего заточения.
Я обуян жаждой обрести тело, утолить леденящий холод, сковавший обрубок моей шеи, щекочущий мучительным зудом. Но поиски тщетны – все пары уже воссоединились, словно в танце предопределения. И вот, в самом дальнем углу, словно забытое сокровище, я замечаю его – женское тело, одинокое и обезглавленное, выжидающее своего часа.
Что-то во мне противится этому союзу, но плоть берет верх, и я, повинуясь зову крови, устремляюсь к бездыханному торсу. Ответный порыв – и вот края соприкасаются, словно две половинки одного целого. Легкий разряд, тепло, разливающееся по венам, и вдруг – я снова ощущаю себя полноценным, я снова чему-то принадлежу! И лишь странное чувство омрачает мою радость – диссонанс: две чуждые стихии смешались во мне. Несовместимые сущности, объединенные волей случая! Женское тело, на которое водружена моя голова, – изящное, белоснежное, словно выточенное из мрамора, холеное и утонченное. Кожа – белая и прохладная, как у аристократки, привыкшей к надушенным ваннам и кремам для ухода за собой. Но по правой груди, словно клеймо, тянется причудливая татуировка – россыпь крошечных голубых точек, сердец, якорей, арабесок и повторяющихся инициалов «И.Б.». Кем же была эта женщина?
Я почувствовал, что скоро узнаю! Что-то начало формироваться из смутной темноты тела подо мной. С каждой минутой образ становился все яснее и отчетливее. Это произошло из-за болезненного проникновения чуждого естества в мою голову, и внезапно мне начало даже казаться, что у меня две головы… и вторая – женская – окровавлена, самым гнусным образом обезображена. Я увидел ее перед собой, утыканную вытащенными из деревянной софы маленьким гвоздями с эмалированными шляпками. Именно она, та злосчастная голова женщины, принадлежала этому телу – и из-за нашего контакта я теперь ощущал во всей полноте сотни острых гвоздей в висках, макушке, извилинах; от дикой боли хотелось реветь – но восприятие милостиво утопало в алом океане изначального Страдания, чьи волны так и ходили взад-вперед, будто по велению сильного ветра… Я воспринял эту женщину, чье тело бросили в одну яму с моей головой, всем своим нутром – и каким же странно мужским оказалось ее естество! Из-за красной завесы к моим ослепленным смертью глазам вынырнул ее образ, и я увидел ее в роскошных интерьерах дорого обставленной комнаты. Она лежала, зарывшись в мягкие пледы, совершенно нагая – а над ней, склонившись, стоял мужлан с грубым лицом, явный выходец из низших слоев общества. Кожа на его руках представляла собой летопись тяжелых трудов. Припав на одно колено, он выводил кончиком иглы татуировщика странные узоры на нежной плоти дамы-аристократки, чьи боль и возбуждение передавались по психическому каналу мне. Я понял, что простолюдин-татуировщик приходился ей любовником. Особо сильный «укус» острой иглы заставил все ее тело содрогнуться… Она обвила своими белыми руками шею мужика и притянула его к себе; поцеловала его и положила его твердые мозолистые ладони себе на грудь, на плечи, а затем снова припала к его губам – в порыве неистовства. Она обняла его и прижала к себе так крепко, что он застонал, затаив дыхание.
Затем она вцепилась зубами в его смуглое горло. Она ничего не могла поделать с этим примитивным желанием – с собственной затаенной натурой, толкнувшей ее на связь с этим человеком, – и этот укус вышел поистине звериным, нечеловеческим. Она должна была так поступить с ним – и она поступила! Стон простолюдина перешел в судорожный вздох – как мужчина заизвивался в ее объятьях, как конвульсивно задергался! – но женщина держала его крепко, не выпуская. В какой-то момент его грубое тело налилось мертвенной тяжестью – теплый поток изливался из раны в горле вниз, на белую голую кожу. Его голова повисла на шее безвольно, и только тогда аристократка выпустила его из страстного захвата. Теперь ничто не останавливало кровь, льющуюся из прокушенной шеи. Кровь запятнала все – и мягкий белый мех пледов, и пол, и ее саму… все. Я начинаю кричать… хрипло и грубо исторгаются вопли из моей глотки. Врывается горничная – она, вероятно, была недалеко, может быть, за дверью в соседней комнате… подслушивала?.. на мгновение она словно застывает без сознания, затем молча бросается на тело умершего мужика… без слов и без слез… зарывается лицом в его залитую кровью грудь – вижу лишь, как сжимаются ее кулаки. Теперь я знаю все…
А потом я вижу еще одну картину…
Я увидел аристократку во второй раз – у гильотины. Она подняла глаза к небу, давая себе в последний раз полюбоваться солнцем. Молодая женщина протиснулась в первейший ряд зрителей – уже знакомая мне; возлюбленная простолюдина, павшего жертвой звериной похоти ее хозяйки. Теперь на ней не платье прислуги, а красная юбка и рубашка с открытым воротом; лицо охватил нервный тик, неубранные волосы раскиданы по плечам, а очи дико сверкают, как у хищной птицы, блестящие от с трудом сдерживаемых слез и страстные в предвкушении возмездия. Она поднесла сжатые кулаки к лицу, и ее губы зашевелились. Она хотела что-то сказать, упрекнуть меня, отругать, но смогла только заплакать – горько, надломленно и невнятно…
Шею аристократки уложили под лезвие.
Тогда я все понял.
Я осознал, чья голова была принесена в жертву прошлой ночью в отблесках костра, посмертно послужив жертвой отвратительной мести. Я понял, кем была молодая женщина, той же ночью, в темном дворцовом дворе, выпустившая на волю разъяренных зверей – так, чтобы они бесновались, калечили и топтали. В моей голове – боль от сотен острых гвоздей, но я сам рискнул привязаться к этому телу, полному ужасных воспоминаний и кошмарной боли, к этому грешному, прекрасному телу, насыщенному всеми эманациями ада.
Жуткая двойственность моей сущности терзает меня, но скоро конец. Я ощущаю, как слабеют всякие связи, расслаиваются ткани, части целого отпадают друг от друга. Весь я – и моя голова, и чужая плоть, – превращаюсь в однородную пористую структуру, в жидкое варево из гнили. Процесс распада стирает все границы в братской безымянной могиле. Вскоре нахлынет мрак – и поглотит раздвоенное сознание; всякая плоть сгинет, а душа рванется на волю».
На этом призванная нами рука перестала писать и исчезла.
Йонас Борг, мизантроп
– Джентльмены, – начал я. – Жизнь! Жизнь! Поэт утверждает, что жизнь – не высшее благо, но он ошибается. Жизнь – не только высшее, но и единственное благо. То, что мы испытываем от счастья, радости, дионисийского исступления… все то, что мы ощущаем от тихого комфорта… все это – проекции жизни на наши души. А наши души? Что это такое, как не вибрации единой бесконечной жизни, точки пересечения двух основных проекций бытия – времени и пространства? О, господа – восславим же саму жизнь!
Я еще долго продолжал в том же духе под одобрительный ропот и ободряющие крики товарищей по клубу, разгоряченных отменным пуншем, и продолжал бы, если бы кое-чей ненавистный голос не встрял грубым окриком. Я добавил еще несколько фраз в попытке заглушить его – пока не заметил, что слова моего оппонента привлекают больше внимания, чем мои собственные. Итак, моя проповедь оборвалась прямо на середине.
– Видите ли, дорогие друзья, – молвил оппонент, – вы все здесь охвачены химически индуцированной манией величия. Одухотворенная материя, каковая, если верить вашим речам, порождает творение, – на деле не что иное, как зеленая пена на болоте, заваленном разлагающейся мертвечиной. Жизнь – это процесс горения, окисления или, если хотите, обмена биоматериалами, если верить, что идолы – это материальные существа. Жизнь – это темный процесс в ганглиозной системе огромного чудовища, чье имя я предпочел бы от вас скрыть; в кишечнике этого дьявола скопился ядовитый газ, а его свет, джентльмены, – это просто свечение плесени.
В зависимости от степени опьянения эти слова производили различный эффект; те, кто был в целом трезв, становились более серьезными и мрачными, заглядывали в свои бокалы и бросали сердитые взгляды на этакого врага жизни. Сильно подвыпившие начали шумно возражать ему, но их решимость вскоре ослабла. Те, что были совершенно пьяны, бросились ему на шею, рыдая о том, что жизнь – такое великое зло, такая, прости господи, несправедливость! Йонас Борг возвышался среди них неподвижно, как столп, и смотрел на меня глазами, похожими на тлеющие угли, будто ожидал моего ответа.
– Ребята, – воззвал я. – Ребята, ну какая от всех этих рассуждений польза? Так оно или этак – а жизнь все равно владеет нами и удерживает в себе! Каждый день она одаривает нас новыми чудесами, с утра до вечера неустанно побеждает всех своих противников!
Я думал, что сказал что-то совершенно тривиальное, увертку и чепуху, но Йонас Борг вдруг закричал так, словно его обожгло раскаленным железом, отшвырнул от себя стакан и упал со стула. Пьяницы рыдали вокруг него, поддерживая друг друга и промачивая плечи пиджаков друг друга горючими слезами. Остальные, обеспокоенные настолько бестактным проявлением пылкого нрава, отошли от него и собрались вокруг меня.
– Оставьте его в покое, – предложил инженер Мунк. – Побесится – и пройдет.
Переехав в этот город со своего прежнего места работы, я завязал здесь связи с этим так называемым «Клубом сорвиголов» и нашел единомышленников. Мы благоговейно ходили по храму жизни, празднуя маленькие скрытые тайны сего святилища – ввязываясь в разнузданные гулянки, где спиртное текло изобильной рекой. Руководитель с моего предыдущего места работы дистанцировался от меня из-за моих безумных выходок. Хотя это и помогло мне оказаться в более подходящей моим вкусам компании, все-таки я по меркам клуба оказался тот еще новичок. И, несмотря на то что я сразу записал себя в «свои», меня не покидало с самого начала подозрение, будто как минимум один товарищ по «Сорвиголовам» никогда мою персону не примет – более того, он меня ненавидит и хочет уничтожить!
Странные, пустые глаза моего товарища по клубу, Йонаса Борга, пристально смотрели на меня, словно с дальнего конца протяженного тоннеля – и было в их взгляде что-то весьма угрожающее. Порой он проявлял ко мне слишком уж подозрительное дружелюбие, и тогда я невольно сторонился его еще больше, хотя по натуре стараюсь принимать жизнь во всех ее проявлениях и ни к кому предубеждений не питать. Собственно, товарищи по клубу тоже Йонаса слегка опасались, пусть и не в той же мере, что и я.
Когда я спросил их, как этот странный, замкнутый и зловещий человек, о чьей личной жизни никто ничего не знал, оказался в их компании, все они смущенно умолкали. Видимо, никто до меня не задавался этим простым вопросом. Зная этих людей, я предположил вот какой сценарий: Йонас Борг затесался сюда в одну из особо разнузданных попоек, сыграл на безоговорочном радушии пьяниц, может быть, проставился пару раз – сам при этом, я уверен, оставаясь трезвым как стеклышко, – и на следующий день, когда нужно было решать вопрос о его приеме, никто не захотел на похмельную голову голосовать против. Так и стал Борг вхожим в клуб. Никто не понимал его, многие – боялись, но что сделано – то сделано. Похоже, я первый плотно взялся за вскрытие этой язвы на прекрасном теле нашего объединения – язвы по имени Йонас Борг, своим понурым видом и желчными «выбросами» портящей самые веселые наши торжества. Мы стали думать, как удалить сего индивида из нашего круга. Вокруг меня начало зреть своего рода «сопротивление» – люди, словно бы ищущие защиты от некой покамест не обозначенной твердо угрозы.
В тот вечер, когда Йонас Борг столь грубо прервал мою проповедь своей ненавистью к жизни, наши отношения складывались – вот так диво! – гармоничнее некуда. Выбежав из круга своих рыдающих единомышленников, Борг двинулся ко мне и энергично протянул руку, предлагая пожатие. Его кожа оказалась холодной и вялой, как у старой лягушки; зато хватка у него была крепче тисков.
– Различие принципов, – заявил Йонас, – не должно разделять нас. Вы – друг жизни, вы усматриваете в ней красоту. Я – ее враг, и потому не нахожу ее ни великой, ни несущей добро. Но пусть наши взгляды и разнятся, наши личные отношения не должны пострадать.
– Послушайте-ка, Йонас, – включился в наш разговор инженер Мунк, – дело ведь не в смысле ваших слов, а в тоне, какой вы себе позволяете. – Моя компания явно придала ему смелости. – Вы звучали не как оппонент в этом споре, а как человек, обезумевший от гнева.
Продолжать этот разговор дальше было невозможно, потому что непреодолимый шум кутежа нахлынул вновь, давя на меня всей своей мощью. Борг сел рядом со мной и окутал меня аурой стылого расположения – этакой добротой, что липла, точно паутина, к лицу и горлу. Попойка вскоре приняла поистине опасный для иных ее участников оборот – хотя в этом-то и заключалось кредо клуба. В вычурный алхимический тигель, установленный в центре залы, парочка аристократов, по обыкновению, свалила свои побрякушки; как только золото расплавилось, все желающие зачерпнули миниатюрной ложечкой порцию для себя, разболтали ее в бокале со смесью шампанского, яичного желтка и сливок – и приняли сей эликсир на грудь. Любители более очевидного самоотравления доставали из стеклянного ящика скорпионов, сажали их себе на голые руки и сладостно стенали от укусов. Имелись тут и любители прижечь себе причинные места свечным воском – сильнейшее опьянение существенно заглушало их боль. Я прекрасно – не понаслышке! – знал, как воспринимают сейчас обстановку клуба эти добровольные страдальцы: стены медленно вращались перед их взором по кругу, сливались одна с другой, и в какой-то момент все острые углы разом сглаживались, образуя над головой бешено кружащийся относительно незримой наклонной оси купол.
Члены клуба стали еще дружелюбнее относиться к Йонасу Боргу по мере того, как проходила ночь – ведь он соизволил напиться. Хотя даже то, что этот тип опустошил уйму бутылок с вином, не сделало его развязнее – он сидел среди нас неподвижно, как бетонная опора. Инженер Мунк расположился по другую сторону от него, весь лучащийся от пьяного радушия. Вдруг я с неприятной ясностью осознал, что мы все сидим вокруг Борга и считаем его центром наших интересов. Я встал и вышел на улицу, чтобы сполоснуть лицо в фонтане. Широкая струя воды из большой львиной пасти хлынула мне на голову и стекла в черную мраморную чашу. Я почувствовал себя более-менее трезво. Выпрямив спину и вольготно потянувшись, я обернулся – и невольно вскрикнул: Йонас Борг стоял прямо за моей спиной.
Он посмотрел на меня пустыми глазами, словно издалека, и желчно бросил:
– Плоховато вы вписываетесь в клуб. Где же обещанное безрассудство? Разве станет уважающий себя пьяница отрываться от бутылки и полоскать голову в водичке в самый разгар банкета?
Я взял себя в руки, чувствуя себя будто на ринге с сильным противником.
– Если хочется сберечь себя для дальнейших кутежей, нужно и меру знать, друг мой Йонас. Да и потом, разве вы не такой же пьяница, как и все в «Клубе сорвиголов»? Что-то я не припомню, чтобы вас всецело захватил и унес чад веселья и кутежа!
Его голова втянулась в плечи, как будто его ударили, и он пропустил меня обратно в зал. Пьяные крики гуляк там почти стихли. Они сидели, безжизненные и бесчувственные, в самых разных позах, и с пеной у губ несли околесицу. Инженер Мунк протяжным голосом декламировал:
- Платон, Софокл и Сократ,
- Джентльмены,
- И Пифагор, и Гиппократ,
- Климент, Гомер и Геродот —
- Неужто старостью согбенны?
- Закатом можно ль звать восход,
- Джентльмены?
Когда забрезжил рассвет и остальные слегли под столы, он все еще не унимался.
– Мой Платон! – рыдая, причитал он, уткнувшись в спутанную бороду Йонаса Борга.
– Пойдемте, – сказал Борг и протянул мне руку. – Объединим силы – и как-нибудь все трое доползем домой…
– Покорнейше благодарю, – откликнулся я, – но мне и своих сил достаточно! Если вам так уж приспичило кому-то помочь – позаботьтесь о товарище Мунке!
Для меня не было ничего более ужасного в этом странном человеке, чем его глаза, обладавшие способностью подчинять своей опасной воле гораздо сильнее, чем его слова. Он молча взял сильно пьяного мужчину под руку и, пока мы забирали пальто у не менее пьяных слуг и одевались, последовал за нами вниз по лестнице. Со стен пролета скалились нам вослед презрительные маски.
Утро выдалось сырым и туманным, и на рассвете бакалейные лавки начали готовить снедь. За ночь выпало неслыханно много снега. Он завалил все крыши и заставил дворников изнурительно трудиться, расчищая дорогу. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как сзади на нас налетел сильный порыв ветра, и в тот же миг вокруг нас закружился мертвенно-белый вихрь. Йонас Борг застыл неподвижно в самом эпицентре метели, и его очи недобро полыхали в тусклом свете зарождающегося нового дня.
– А где Мунк? Мунк! – окрикнул я.
Борг равнодушно указал на все еще слегка трепыхавшуюся кучу снега, сброшенного ветром с одной из соседних наклонных крыш. Это был весьма опасный наст – плотный и обледеневший, очень тяжелый; и снесло его так много, что выросшая куча перекрыла едва ли не весь переулок. Я бросился вперед и принялся раскидывать тяжелые мокрые комья, обжигавшие холодом пальцы. Дворники, тщательно все обдумав, присоединились ко мне в надежде зарекомендовать себя спасателями и народными героями; разносчики хлеба, что шли в эту минуту мимо, поставили корзины с выпечкой наземь, рискуя остудить ее прежде срока, и стали помогать с раскопками. Наконец из-под глыб наста явилась нижняя половина тела. Ранние прохожие на улице, полузамерзшие пьяницы, собрались рядом – поглазеть на забавную сцену; но их, глупо ухмыляющихся, отогнали прочь будочники, уже спешившие выяснить причину происшествия на своем подведомственном участке и фиксировавшие номер дома, с чьей крутой крыши соскользнула лавина. Через полчаса мы освободили нашего друга. Он лежал перед нами мертвый – тонкая, чахлая струйка крови сочилась из болезненно раздутой ноздри. Неясно было, что сгубило Мунка – удары тяжелых обледеневших глыб или сердечный приступ; мы с Боргом не стали дознаваться, ибо наивысший закон «Клуба сорвиголов» гласил: о смерти и мертвых – ни слова. Когда кто-то из наших товарищей отходил в мир иной, мы поминали его так, как если бы он просто куда-то уехал, и ни одно слово соболезнования не дозволялось в адрес почившего. В течение года на пустующее место ставили полный бокал – и только; никаких других обрядов чествования наш кодекс не подразумевал. Признаться, мне было ох как непросто смириться со страхом перед старухой с косой. Разгульный образ жизни потихоньку сказывался – боли самого разного толка терзали мое тело, приходя совершенно неожиданно и ставя меня на грань паники. Мне не раз и не два хотелось обсудить эти проблемы с товарищами по клубу, но боялся, что меня поднимут на смех – я ведь был даже не из самых отчаянных гуляк; да и многих ли волнений стоит какая-нибудь смутно колющая раз в неделю селезенка в наше лихое время? Страх смерти в моем сознании прочно скрестился со страхом перед Йонасом Боргом – ведь в то утро, когда не стало инженера Мунка, мне показалось, будто этот страшный тип, неколебимый пред лицом метели, вдруг поднял чудовищно удлинившуюся руку к крыше того проклятого дома – и смел с нее наст аккурат на бедолагу! Еще и ухмыльнулся при этом – злобно и жестоко, как скалящийся зверь. Видение крепко засело в моем сознании, и я стал все чаще терзаться вопросами: а что, если бы вместо Мунка слепо выбрел вперед я? Меня бы тоже ждала смерть? Не потому ли Борг предложил мне помощь перед выходом из клуба – чтобы тоже вот так вот, исподтишка, умертвить? Я не сомневался, что мои друзья тоже страдали от подобных мыслей, но мы ничего не говорили друг другу, а страхи топили в вине. Как это часто бывает, вино подтолкнуло нас к еще более диким выходкам – таким неслыханным, что даже фривольные стандарты нашей славящей самоотверженное безрассудство организации стали трещать по швам. От неутолимой жажды экстравагантности мне как-то раз пришла на ум идея сделать «Клуб сорвиголов» цирковой труппой. Так как все члены по уставу обязались заниматься физическими упражнениями, чтобы укреплять тело для как можно более долгих возлияний, многие из нас были отличными гимнастами, а иные – даже пловцами, гребцами, конными наездниками и фехтовальщиками. Вскоре мы преуспели в исполнении самых банальных цирковых номеров – таких, как прыжки через обручи, жонглирование и канатоходство. По мере того, как мы переходили от простых дисциплин к более сложным, наше удовольствие от собственного ловкачества только возрастало, и мы едва могли есть, не вися вверх ногами на трапеции, не вращая тарелки на вилке или не сидючи на корточках на натянутом канате. Наш ребяческий азарт с лихвой компенсировал годы обучения профессиональных циркачей – иные бродячие труппы, выступающие перед провинциалами, смотрелись бледно на фоне наших талантов. Все помещения в клубе очень скоро были переделаны под гримерки и залы для тренировок. Тонкие восточные благовония канули в прошлое – ныне «Сорвиголовы» пахли тальком и потом перетруженных тел. В этом напряжении всех сил мы почувствовали себя комфортно и забыли о том, о чем должны были молчать. Один только Йонас Борг, похоже, был недоволен «сменой профиля» клуба. Прежде распускавшийся темным цветком в словесных мизантропичных перепалках и увядавший, когда подходил час потехи, он находил наши нынешние проделки «слишком смущающими». Вся его фигура съеживалась, делаясь еще костлявее, лучась еще бо́льшим презрением к нам. Когда мы пригласили его принять участие в наших трюках, он внезапно выступил не хуже лучших из нас – хотя мы никогда не видели, чтобы Йонас посвящал себя физической культуре. Но в его движениях просвечивала некая паучья угловатость. Суставы Борга двигались в какой-то насквозь нечеловеческой манере, и смотреть на этакого циркача было попросту неприятно. Да, весь этот цирк был безумной идеей, признаю. Но мой товарищ Дитрих – отменный и, не побоюсь этого слова, прирожденный канатоходец, звезда всех наших номеров, – смог переплюнуть меня по части безрассудства, однажды вечером объявив:
– Друзья! Все в курсе, что завтра известнейший цирк Барнума дает представление в нашем городе? – Во время трапезы Дитрих сидел на канате, скрестив ноги, запрокинув голову и отхлебывая из бутылки шампанского, а мы потешались над ним.
– Естественно, естественно! Ну и что с того?
– А то, что я предлагаю вам пойти на это представление и посостязаться с тамошними трюкачами на равных! Как с коллегами!
Дикое, что и греха таить, предложение – конечно же, все согласились! Я выступил одним из самых восторженных апологетов этой идеи – но то, что ее всячески поддержал и Йонас Борг (вот уж от кого не ждали!), заставило меня поумерить пыл и начать подозревать что-то нехорошее. Итак, Борг подошел ко мне, окруженный фирменной аурой отталкивающего ледяного дружелюбия, и заявил:
– Задумка на диво хороша – до того хороша, что могла принадлежать бы и вам, друг.
– Благодарствую, – неохотно пробурчал я в ответ.
– Мы сможем продемонстрировать навыки перед аудиторией, способной оценить их по достоинству, – это ли не великолепно? Только тот, кто посвящен в тонкости искусства циркача, может искренне восхититься циркачом-коллегой.
– Да, это так… – Я поспешно отошел от него, не в силах вынести его пристальный, до костей пробирающий взгляд. Его я чувствовал даже спиной!
На следующий день шатер цирка Барнума занял главную городскую площадь и за пару часов развернулся там во всем пышном великолепии. Первое выступление назначили на тот же вечер. Мы с ленцой прогулялись по выставке заспиртованных уродов, занявшей отдельный, поставленный неподалеку фургончик; сошлись на том, что ничего поистине поразительного не увидели – в отечественных злачных кварталах и не такие экземпляры сыщутся, – и отправились штурмовать кабинет директора цирка. В гардеробе слуги приготовили для нас наши «артистические» одежки. Добившись краткой аудиенции у директора, мы с блеском продемонстрировали ему все свои умения, посвятили в наши планы – и склонили в итоге на свою сторону, пообещав вечер, полный веселья и сюрпризов. Удалось подговорить его и на то, чтобы задумка держалась в секрете от его собственной труппы. Странная встреча ожидала нас, когда мы вышли на арену вскоре после нашего преображения. Сначала на нас смотрели как на вражескую армию, но вскоре приняли как ровню себе – не в последнюю, думаю, очередь из-за того, что расставленные наспех столы ломились от закупленных нами в складчину напитков и деликатесов. Поначалу настороженный директор использовал лишь тусклый свет своей бензиновой зажигалки, презентуя нас – так что в огромном помещении нашу труппу окружала зловещая высокая стена тьмы, – но после дегустации первых блюд, предоставленных одной из лучших городских рестораций, атмосфера значительно улучшилась, и директор вышел в центр действа, чтобы толкнуть речь на ломаном немецком языке. Он похвалил неожиданное гостеприимство и нас, любителей. Кто-то из наших ответствовал ему на еще более ломаном английском – и тут же зажглись дуговые лампы, осветив все вокруг.
Мы обнаружили, что смешались в соответствии с требованиями гротескного юмора – девушка-змея свилась на коленях у юрисконсульта, дама-великанша держала лейтенантика на руках, как младенца, прижимая его к пышной груди; а женщина-обезьяна уже позволила текстильщику заползти к ней в меха. Парочка туроператоров и университетский профессор изучали карту Борнео на татуированном теле малайца. Уроды также нашли себе компанию. Человек-скелет беседовал с врачом общей практики; самый крупный мужчина в мире – по принципу схождения противоположностей, видимо, – избрал в собеседники низкорослого адвоката из нашего клуба, практически карлика. Зато цирковой карлик, похожий на гнома из сказок братьев Гримм, придвинул свой высокий стул к гигантскому аптекарю – верзиле, по слухам, способному в порыве гнева раздавить стакан в кулачище так, что от толстого стекла только пыль и оставалась. Другие товарищи по клубу выказали более застенчивый нрав, и артисты-барнумовцы – акробаты, японские жонглеры и клоуны – вовлекли их в свою красочную компанию. Мой друг Дитрих вытянулся, как отдыхающий жираф, рядом с прекрасной фройляйн Эллидой, коллегой-канатоходкой. Ее наряд, расшитый блестками, мало что скрывал – даже девушка-змея на ее фоне выглядела неброско, – но, полагаю, Дитриха, человека высокой культуры, в первую очередь в ней привлекли потрясающие научные познания в области хождения по канату. Я видел, как он прямо-таки млел от удовольствия. А я беседовал с дрессировщицей тигров Фатимой – заявленное в программе арабское происхождение ничуть не мешало ей изъясняться со мной на густо-венгерском сельском диалекте. Мне не пришлось уговаривать ее долго на демонстрацию наиболее грубых приемов своей профессии на моем собственном бедном теле. Наше счастье было до того громким, что из окружающих нас клеток зверинца неслись недовольные звериные вопли, и казалось, что мы сидим в кругу воющих демонов. Демонстрации нашей новой дружбы стали еще более пылкими, а расположение дам – все более очевидным. Я чувствовал, что вот-вот что-то произойдет – странное чутье велело мне держаться настороже и не очень-то слушать страстный венгерский шепот Фатимы, тянущей меня за волосы своим крепким кулаком дрессировщицы. Внезапно я услышал голос Йонаса Борга – негласного центрального элемента пирушки, неподвижного, точно ось:
– Дамы и господа, пирушка – это хорошо. Но если мы называем себя «циркачами» не только из-за того, что на нас – пестрые тряпки, думаю, пора перейти к демонстрации наших умений. Покажем же друг другу, на что способны наши тела!
Остальные, недолго думая, спрыгнули на песок арены и начали демонстрировать свое мастерство. Артисты Барнума наблюдали за нами с изумлением, явно не ожидая от простых гуляк из бомонда этакой ловкости. Но Йонас Борг, похоже, не был до конца удовлетворен этим триумфом – и предложил нам с Дитрихом прогуляться по канату.
– Лишь высота решает, обладаем ли мы силой, мужеством и настойчивостью, – изрек он, указывая пальцем под своды шатра, где был протянут канат для выступления милейшей фройляйн Эллиды.
Считаю своим долгом признаться здесь, что в тот момент я испытал такой ужас, такой смертельный страх, что мне показалось, будто я ступил на край пропасти – и бог уже решил, что мне непременно суждено сорваться вниз. Но Дитрих, глядя в прекрасные обожающие глазки фройляйн Эллиды, согласился – до того очарованный ее сверкающим змееподобным телом, что об отказе с моей стороны речи не шло; кто я, в конце концов, такой, чтобы не помочь товарищу по «Клубу сорвиголов» немножко устроить личную жизнь? Возражения директора цирка мы отвергли – слуги уже разматывали веревочную лестницу, что должна была вознести нас к канату. Мой разум, подстегиваемый испугом, перебирал всевозможные пути к спасению – один за другим, один за другим… и ничего, ничегошеньки толкового не шло на ум. Я только и мог, что кричать:
– А как же страховочная сеть? Где страховка?
– Страховка лишь порочит звание сорвиголовы! – рявкнул Борг тоном палача.
– Да, со страховкой ни капельки не страшно, – скромно добавила фройляйн Эллида.
– Лезем! – крикнул Дитрих и ухватился за низко свисающую веревочную лестницу.
Я видел, как напряглись мышцы его рук под тканью трико, и хотел было вцепиться в него и любыми силами удержать внизу… но тут увидел, что глаза Йонаса Борга горят, как железо, раскаляемое в горниле. И этот адский огонь во взоре сломил меня. Я нерешительно сделал шажок-другой – и споткнулся о наполовину закопанную в песок арены бутылку. Хрустнув под ногой, она заставила меня вскрикнуть и согнуться пополам. Осколки утыкали мне всю пятку, кровь струйками потекла на песчинки. Что ж, демонстрация моих умений подошла к концу. Тихий скулеж, с которым я извлекал стекло, вызвал у прекрасной Фатимы такую жалость, что даже ее грубый кулак, тягающий меня за вихры, превратился в деликатную и нежную ладошку. Дитрих, совершенно на меня наплевав, вскарабкался по веревочной лестнице наверх. Он ловко подтянулся у нас над головами. Из моих глаз полились такие горячие и тяжелые слезы, что и суровая Фатима тоже тихонько всхлипнула.
Под сводами купола Дитрих ступил на канат и, держа перед собой балансир, шаг за шагом стал продвигаться к противоположной площадке. Он осторожно переставлял одну ногу за другой, пока не обрел устойчивую стойку, и издал радостный крик «эге-гей!», эхом разнесшийся по арене. Снизу ему ответили лай, рычание и рев цирковых животных. Звуки, сливаясь воедино, воспаряли над твердью – и, казалось, забивали мне уши, как вата. Я едва осмеливался дышать, чувствуя зловредное присутствие Йонаса Борга неподалеку; и когда Дитрих наверху замер на середине каната, переводя дух, Борг шепнул мне в самое ухо:
– Вы слишком осторожны, друг мой, для полноправного члена «Клуба сорвиголов». Вы думаете, я купился на этот ваш фарс с бутылкой?
Выходит, он понял… он понял, что я это все намеренно подстроил, лишь бы не лезть на канат! Я бросил своего товарища Дитриха в беде – как трус! – ибо убоялся смерти… ибо убоялся его, Йонаса Борга. Мрачно хохотнув над моим ухом, враг мой стал отдаляться – и мне даже не требовалось поворачиваться к нему лицом, чтобы это понять. Вытянувшись рядом с милой Фатимой, я старался хотя бы взглядом поддержать друга, балансирующего над нами, и невольно дергался с каждым новым его шагом. Вдруг я увидел тень – длинную вытянутую тень с угловатыми движениями, с прытью паука карабкавшуюся по подвесной веревочной лестнице. Эта тень – нечеловеческая, до дрожи отвратная, – могла принадлежать лишь одному человеку! Но никто, кроме меня, не видел ее. Никто не кричал, не показывал пальцами. Я онемел на мгновение – а потом стал кричать, махать руками, скакать дервишем. Тень, меж делом, достигла верхней площадки, встала вертикально – и в ярком электрическом свете скользнула вперед, как мстительный призрак, сотканный из невесомой дымки. Дитрих почти достиг второй площадки, когда эта эманация настигла его. Я до сих пор вижу, как конец каната начал бешено раскачиваться – как Дитрих застыл на месте, пытаясь восстановить равновесие, – и в этот момент тень упала на спину моего друга. Бледное лицо Дитриха внезапно повернулось к нам, мне на мгновение показалось, что я вижу ухмылку Йонаса Борга где-то над его плечом. Дитрих вскрикнул, но совсем не так, как раньше – не от ликования, а от смертельного страха. Он уронил шест канатоходца и прижал обе руки к горлу, словно хотел освободиться от чей-то удушающей хватки. Он не продержался долго – пошатнулся, оступился, и сила притяжения, торжествуя, рванула его тело вниз. Он низвергся прямо к голым ногам фройляйн Эллиды, и весь ее скудный блестящий костюмчик – и бледную кожу, само собой, – окропило ярко-красной кровью. Она запоздало отпрянула и опрокинулась на пятую точку.
Я не стал протискиваться к изувеченному телу. Во время этого инцидента у меня не было других мыслей, кроме как найти Йонаса Борга. Когда я обернулся, он стоял рядом со мной – и взгляд его глаз, похожих на озера раскаленной лавы в вулканических жерлах, не дал мне в тот же миг вцепиться мерзавцу в шею. Я все еще не имел над ним власти; мне все еще нужно было найти ухищрение, способное защитить от его чар.
Обет молчания, покрывший смерть Дитриха, резал меня по живому – мне казалось, что я стал свидетелем поистине сверхъестественного преступления; скрыв свидетельства, я буквально изничтожал себя! Здравый смысл подталкивал меня нарушить устав клуба; часто под вечер, когда с изнуряющего кутежа спадал всякий лоск, я почти готов был высказать то, о чем все только думали. Неприязнь членов клуба к Йонасу Боргу еще больше усилилась и стала совершенно очевидной – все будто знали о подозрениях, донимавших меня, но рот исправно держали на замке. А вот сам Йонас Борг вел себя беспечнее прежнего, будто и не замечая накалившейся обстановки. Этот закоренелый мизантроп, как обычно, приходил и уходил, и всю его тихую зловредную жизнь по-прежнему окутывала непроницаемая завеса тайны. Несмотря на все мои изыскания, я так и не нашел «подкоп» к этому человеку – выяснилось только то, что он живет где-то за городом. Впору было заподозрить, что Йонас Борг нематериален – что он элементаль, мстительный стихийный дух. В первые несколько недель не появилось ни одной новой забавы, способной заменить наши цирковые упражнения. Профессор Ханнак, в перерывах между нашими эскападами занимавшийся историческими реконструкциями, предложил «дистанцироваться с концами от настоящего и отдаться атмосфере сытых и диких времен». В наших попытках поскорее подыскать новую гиперфиксацию и позабыть двух наших друзей, в чью честь ставили пару бокалов перед пустующими креслами, мы хватались за каждую возможность удариться в такие загулы, когда всякая человечность стирается, а память цивилизованного человека тускнеет. Разнузданность, с каковой мы устраивали оргии в стиле персидских царей, эпохи упадка Рима и французского рококо в малых масштабах, почти соответствовала вакханским нравам означенных времен. Весь город, чей ропот мы в нашей строго закрытой компании научились презирать, перемывал нам кости. Нас называли «дурным семенем», и чем выше поднималась волна осуждения – тем громче мы смеялись. Наши выходки становились все более дикими и безумными. Что-то толкало нас вперед, к новым дурным свершениям; что-то, от чего мы пытались убежать в страхе – и мне показалось, что есть какая-то связь между этим порывом и Йонасом Боргом, по-прежнему прилежно играющему роль несокрушимой и недвижимой оси. Мы больше не восславляли жизнь во всем ее порочном многообразии – скорее, нашим кумиром стало нечто совершенно противоположное жизни, как я признавал в постылые дни после наших бурных ночей. Истинное безумие пришло на смену простому лихачеству, и все мы гадали, почему это еще полиция не взялась за основательную встряску нашего клуба – хотя уместнее было бы назвать его теперь «притон». Однажды Йонас Борг попросил у нас внимания, и его глаза уставились прямо на меня, когда он во всеуслышание пригласил нас к себе домой на банкет.
– Я вижу, вы очень удивлены, джентльмены, – изрек он, – что я приглашаю вас к себе, ибо до сих пор я никого из вас особо не жаловал. На самом деле всему виной лишь эта моя проклятая природная сдержанность… ох, частенько она доставляла мне больше хлопот, чем благ! Но теперь, поскольку ваши интересы совпадают с моими собственными, я приглашаю вас посетить мою скромную резиденцию. Как и многоуважаемый профессор Ханнак, я тоже своего рода историк… разве что – любитель. В течение многих лет я провожу несколько недель – в прекрасную осеннюю пору! – в развалинах замка Нойфельс.
– Но ведь Нойфельс уже давно лежит в руинах! – резонно заметил кто-то.
– Именно потому он мне так дорог. Вы же все знаете, какую страсть я питаю к упадку. Смею заверить вас – присоединившись на время ко мне, вы сможете обрести свое прежнее и весьма сильное влечение к жизни. – Пустые глаза Борга властно вспыхнули. – Пусть это станет моей заботой – сделать ваш визит ко мне таким увлекательным, что у вас отпадет всякое желание покидать мою юдоль. Вы ни в чем не будете нуждаться – или, правильнее сказать, не будете желать ничего, что ныне считаете жизненно необходимым.
Несмотря на попытки Йонаса Борга превратить свой скрипучий и визгливый голос в декламаторский, я почувствовал скрытую угрозу, затаенную злобу в его словах. И так было и с остальными – ибо их согласие едва скрывало безграничную ненависть к этому человеку. Мы все рычали, как дикие звери – на дрессировщика, и я тщетно пытался вырваться из оков этого губительного порыва, силясь спастись. Йонас Борг слишком уж легко побеждал нас всех! Я боролся за собственное «я» – чья лучшая часть, смелая и уверенная, была изгнана при помощи неведомых чар. Именно в таком состоянии, почти незаметно, проходят самые важные метаморфозы – и едва ли мы отдаем себе в них отчет. Некая неуловимая причина – цвет неба, забытое и вновь пришедшее на ум слово, звуки далекой мелодии, пение птицы, рокот волн, набегающих на берег, – действует сродни толчку, и вот уже все законы логики и психики идут псу под хвост; мосты горят, а крепости дробятся, и осколки картины мира склеиваются во что-то новое, доселе невиданное. Из всех инцидентов, подлежащих дальнейшему обозрению в моем рассказе, наиболее странный имел место в ночь перед банкетом. Я стоял на мосту через реку, глазел на грязный поток, полный мусора и фабричных отходов – и чувствовал, как неспешно скольжу против течения жизни. Гудки заводов со всех сторон возвещали об окончании рабочего дня. Мимо меня прошли две молодые работницы – и похихикали. Кто-то пихнул меня в плечо. По ту сторону моста высился рослый полицейский и вел мирную беседу с торгашом, сбывавшим с лотка турецкий мед и инжир. В этот момент я спокойно и тихо промолвил про себя:
– Фамилия «Борг», будучи зеркально отраженной, читается как «Гроб».
Я испугался и задрожал так сильно, что пришлось ухватится за перила моста; но лишь взяв себя в руки, я почувствовал огромную радость – ибо знал, что вычислил то волшебное слово, дающее мне власть над заклятым врагом. Для банкета, по предложению профессора Ханнака, мы решили погрузиться во времена Веласкеса и следующим вечером на маленькой железнодорожной станции переоблачились в испанских грандов, монахов, художников и солдат, а затем пешком поднялись к руинам. Так как мы сохраняли напускную серьезность, отгонявшую от нас все мысли о маскараде, наша процессия удивила и испугала нескольких крестьян, повстречавшихся нам на крутой тропе, ведущей к Нойфельсу. Я замыкал шествие, остро осознавая, что впереди меня ждет ужас; пусть! Я стойко встречусь с ним лицом к лицу – что я, не из «Клуба сорвиголов»?
Во дворе замка, между разрушенными лестницами, нас ждал Йонас Борг, переодетый в шута. После краткого приветствия он возглавил нашу процессию – и двинулся в путь. Нас обступили со всех сторон растрескавшиеся стены; в тесном пассаже, принявшем нас, горели на стенах ацетиленовые лампы, равноудаленные друг от друга. На фоне отсыревшей кладки они выглядели диковинными тюльпанами, пробившимися сквозь бетон к свету. Йонас Борг, ступая впереди всех, едва ли не пританцовывал. Время от времени он поворачивался к нам лицом – видимо, чтобы убедиться, что мы все еще следуем за ним. Мы шли целую вечность, минуя порог между днем и ночью; в какой-то момент мне почудилось, что Борг намеренно водит нас кругами. Наш верзила-аптекарь пытался разрядить гнетущую атмосферу, отпуская плоские шутки, – но всех остальных будто поразила загадочная немота. Только оказавшись в большом банкетном зале, мы нашли в себе мужество подать голос.
В зале наш хозяин метко воссоздал дух фанатичной и полной излишеств исторической эпохи – наш пир явно организовывали с роскошью, поставленной на службу беспримерной жестокости, и с благочестием, без зазрения связывающим себя с пороком. В сводчатом зале под развалинами старого замка расстилалась роскошь подлинного индийского дворца. Все здесь Борг обставил с мрачным великолепием, делающим честь нечестивой утонченности Испании времен инквизиции. С предметами искусства, чьи бесстыжие мастера черпали вдохновение из всего самого низменного, что есть в миру, соседствовали работы, изображавшие Страсти Христовы. Я невольно вздрогнул при виде надписи Iesvs Nazarenvs Rex Ivdæorvm, криво выведенной чем-то красным поверх блюда с плесневелым хлебом и скомканной тканевой салфеткой в белесых разводах, – непристойной пародией на Плат Вероники. В центре стола стоял крест с мраморным Христом в натуральную величину, чьи глаза, подсвеченные изнутри, озаряли все собрание. В дополнение к этому источнику каждому столующемуся полагались мелкие подсвечники с укрепленными в них свечами странных форм. Свечи напоминали по виду высушенную плоть, и от них шел стойкий аромат специй и ладана.
Я занял свое место, весь трепеща от отвращения и страха, опасливо косясь на гобелен с дотошно детализированными сценами из жизни двора, эмблемами времен года и картой всех владений под пятой Испании. Слуги потянулись из смежной комнаты, неся в руках закрытые подносы. Они, дрожа, прибывали и убывали. Йонас Борг прыгал туда-сюда между ними, бил их кнутом и поносил за неуклюжесть и нерасторопность. Я сидел между профессором, чья длинная борода торчала из подбородка как рог, и адвокатом, дрожащим от холода в тонкой монашеской рясе, и не мог оторвать изумленных глаз от того, что лежало на блюдах под просвечивающими колпаками. Это была типичная трапезная дичь – каплуны, кролики, молочные поросята, – вот только их плоть до сих пор трепетала в агонии. Освежеванные заживо, бедные животные были подвергнуты грубейшей и недолгой обработке на жаровне, и каким-то образом жизнь все еще теплилась в их бедных изуродованных тушках. Поняв, что есть тут нечего, я строго-настрого запретил себе и пить из золоченых кубков, отлитых в виде лингама. Йонас Борг сильно отличался от того, каким представал раньше. От его пожизненных инертности и летаргии не осталось и следа. Шутовские ужимки делали этого обыкновенно угрюмого человека еще более отталкивающим. Его глаза пылали, и я вдруг понял, что мне напоминает этот бегающий взгляд Борга – горение серы в алхимическом тигле. Он ходил от одного гостя к другому, призывая «угощаться и наливаться», и с теми же церемониями останавливался перед пустыми местами – где, по традиции, два бокала стояли в память о наших мертвых друзьях. Так продолжалось до полуночи, и моих спутников охватило безумие, проистекавшее из того же инстинкта, что и желание висельников напиться, прежде чем их потащат волоком на эшафот. Вид мучительного, надрывного празднества пред сияющими очами Христа для меня уподобился обличью освежеванной туши, прикрытой прозрачной крышкой для блюд. Ладан смердел, будто гниющее мясо. Готовый противостоять опасности, я единственный на банкете сохранил трезвость и теперь с трудом сдерживал тошноту. В самую отвратную фазу праздник вошел около полуночи, когда в зал стали загонять известных на весь город продажных женщин. Визжа, полуголые девицы хлынули в зал – засверкали блестки, заиграли яркими красками пестрые плюмажи. Большинство моих товарищей сразу же накинулись на них – кто-то увлек партнерш в танец, кто-то, решив, что прелюдии не требуются, толкнул избранницу прямо на пол и придавил всем телом к большому ковру под пьяные вопли и свист. Но вот Йонас Борг прогнал всех распутниц кнутом. Тогда огромный аптекарь встал со своего места и начал лепетать хвалебную речь о хозяине, приправленную множеством немецких ругательств вперемешку с испаноязычной бранью – ее он нахватался во время летнего отдыха близ Пиренеев. Борг поднялся, чтобы ответить ему, устремил на меня свои прищуренные глаза и заговорил, словно перекатывая во рту камешки:
– О, друзья мои, как я радуюсь, что мой прием пришелся вам по вкусу! Я долго не решался привести вас в свои владения, потому что боялся, что ваш дух и переполняющая вас радость найдут мое логово гнетущим и неприветливым. Но теперь, к моему счастливому изумлению, я обнаружил, что прямо под сенью того, что не поминается нашим уставом, жизнь расцветает гораздо ярче и пышнее. Здесь, в окружении символических образов силы распада – или, если можно так выразиться, многообразных преображений чего-то в ничто, – ваше веселье проявляется совсем иначе, чем в безразлично-будничных интерьерах клуба. И это, господа хорошие, только начало! – Он приказал налить вина и поднял свой бокал с густой темно-красной жидкостью, но только после того, как убедился, что сосуды, стоящие перед пустыми местами наших мертвых товарищей, также наполнены. – Надеюсь, это вино придется вам по вкусу – лучшее из испанской коллекции моих погребов! За продолжение банкета! Хотя, как вы знаете, я не разделяю вашей восторженной любви к жизни – я все же знаю, каковы обязанности хорошего хозяина. И я прошу вас приветствовать жизнь – совсем как гладиаторы приветствовали Цезаря в смертный час!
Пока все остальные поднимали этот странный тост, я незаметно вылил свое вино на пол. С намерением казаться беспечным я посмотрел в сторону мест погибших друзей, перед которыми стояли полные бокалы, и увидел… увидел, выпучив глаза, как темно-красное содержимое медленно исчезает, не тронутое ни рукой, ни губами человека. Именно тогда я почувствовал, что пришло время решающей схватки. С омерзительной ухмылкой Йонас Борг оглядел всю группу гуляк, давно позабывших о своих маскарадных костюмах; вглядывался в лица каждого из них и говорил, постукивая хлыстом по ладони.
– А теперь, товарищи, мы немного пройдемся. Между сценами на этих двух гобеленах есть проход, ведущий ко входу в ухоженный парк в духе Эль Эскориал. Сегодня мы все – заложники старых традиций; так что попрошу каждого из вас пройти туда со мной. – Борг повелительно протянул руку к большим настенным гобеленам, на чьих цветных полотнах при помощи искусной вышивки были изображены группы деревьев и луг в парке. Когда я проследил за его движением, то увидел, что деревья и кустарники выделяются все более отчетливо, а затем вырастают в пластичные массы, устремляясь друг к другу, чтобы слиться в подобие густой кроны. Непрерывно петляющая тропинка уходила далеко от их рощи на луг и вела к широкой открытой местности. До сих пор все оставалось размером с макет, но затем деревья выросли из своих игрушечных пропорций и приобрели реальные очертания. Они клонились на ночном ветру и покрывали пустые пространства меж стволов влажными тенями. Затемненный образ стал глубоким и таким опасно-прекрасным, что я, готовый ко всему, задрожал.
Пред нами раскинулся величественный, таинственный парк – там, где никакого парка быть не могло.
– Берите свечи – пусть освещают нам дорогу! Они сделаны из мумифицированных пальцев рук и ног, костей голеней и ключиц – такие будут до-о-о-олго гореть… В предвкушении победы Йонас Борг, не обращая на меня внимания, схватил со стола подсвечник, и все-все молча последовали его примеру. Клуб выстроился в процессию, и все разом сделали шаг вперед. Йонас Борг проскочил в самую главу этого хода и уже норовил нырнуть в тень первой группы парковых деревьев, как вдруг я наконец-то нашел выход объявшему меня ужасу – в громком крике:
– Йонас Борг! Йонас Борг! Верни во гроб то, чему гроб – родной!
Затем, словно при внезапном подземном толчке, силуэты всех предметов передо мной исчезли. Деревья, кусты и весь ночной парк растворились в туманной дали, на чьем фоне разыгрывалась гротескная драма. На фоне этого фона, как декорация, высился Йонас Борг, охваченный страшными судорогами, сотрясавшими его тело и клонившими его то вперед, то назад. Он попытался выпрямиться и потянулся ко мне своими длинными руками. Но вот руки вяло опустились; все его лицо застыло в ужасе, как посмертная маска, и внезапно он с полным отчаяния криком растворился в зияющей тьме.
Я, вероятно, не могу сказать, как долго тьма окутывала нас. Это не могло продлиться больше нескольких минут, но когда признаки жизни вновь потревожили пространство той бездны, куда нас ввергли, то показалось, что она разорвала и саму ткань времени. Первым сигналом о возвращении в сознание мне послужило собственное затрудненное дыхание; и вскоре я смог услышать других людей рядом со мной. Перешептываясь сквозь сходящиеся покровы мрака, мы убедились, что все еще живы. Когда огни и голоса с внешних окраин тьмы призвали нас вернуться в привычный мир, мы едва осмеливались молить о спасении и стремились продемонстрировать хладнокровие, предписанное уставом нашего гордого клуба.
Толпа спасателей устремилась к нам по узкому проходу. Крестьяне, с удивлением встретившие нашу странную процессию, подняли тревогу, когда мы не вернулись из руин через три дня, и поисковая партия нашла-таки нас после долгих и опасных блужданий по полузакрытым проходам, вот-вот грозившим обрушиться. В подземелье мерцали факелы, отбрасывая на стены наши тени, похожие на доисторических чудовищ. Там, где раньше стоял стол, высилась куча мусора; голые стены блестели от серого влажного мха. Но в том месте, где висели настенные гобелены с парковым пейзажем, воплотившимся в реальность – в том месте, где проклятый Йонас Борг исчез со страшным криком, – между квадрантами фундаментной стены зияла черная дыра, ведущая в глубокую подземную пропасть. Туда и канул Йонас, отважившись возглавить процессию. Я не ушел из замка, пока с помощью связанных вместе лестниц, с веревкой и факелом наперевес, не отважился на спуск. Все мои спутники последовали за мной. Я сказал себе, что мы должны хотя бы частично избавиться от бремени необъяснимого, если хотим когда-нибудь снова взглянуть жизни в глаза. Мы спустились в пасть колодца и когда достигли дна – обнаружили расщелину, ведущую еще глубже в недра земли. Края этого провала были перепачканы темной застарелой кровью, будто губы вампира. Лицом к расселине на полу лежал человеческий скелет. Его руки были связаны за спиной, а ноги – прикованы цепями к старому деревянному кресту. Между белыми зубами мертвой головы была зажата тряпка – ныне истлевшая, но и ее остатков хватало, чтобы понять, с какой силой ею перетянули давно уже безмолвный рот. Хотя не было никаких признаков того, что этот скелет имел какое-то отношение к нашему пропавшему хозяину, мы все знали, что перед нами лежат останки Йонаса Борга. Тут мои друзья в результате внезапного взрыва эмоций освободились от долго копившейся и подавляемой ненависти к нашему мизантропу. Они скрежетали зубами, ревели дикими зверьми, норовили наброситься на скелет и разломать, растоптать его. Но во мне проснулось сострадание, мрачно заявившее о себе, когда я снова увидел его корчащимся в конвульсиях на фоне ночного паркового пейзажа; оно охватило меня, такое огромное и светлое, – и, когда я прогонял товарищей по клубу, оно подсказало мне слова:
– Джентльмены, сохраняйте великодушие живых даже перед лицом смерти. Как же наш Борг, должно быть, любил жизнь и наслаждался ею – столь сильно, что был вынужден искать ее, хотя ненавидел и хотел уничтожить!..
И только тогда мои спутники в немом благоговении отвернулись от скелета, опустили головы и последовали за мной – прочь из подземелья и из старого замка, навстречу жизни и новому лучезарному осеннему дню.
Манускрипт Хуана Серрано
Во время своего последнего путешествия по Южной Америке профессор Остен-Зекер, известный исследователь джунглей верхней Амазонки и приграничных Перуанских Анд, сделал поразительное открытие. Ему удалось найти старинный манускрипт в отдаленном и труднодоступном монастыре Санта-Эсперанса, расположенном на вершинах Монблана. В нем содержалась информация об одном из многих героев, в древние времена помогавших в открытии и завоевании Земли. Она была написана Хуаном Серрано, одним из участников первого кругосветного путешествия Магеллана, о чьей участи до сих пор ничего не было известно. Знали только, что он появился на пляже острова Себу после кровавой вакханалии, унесшей жизни других участников высадки, и что он умолял своих товарищей, оставшихся на корабле, «ради Бога и Святой Девы» заплатить за него выкуп и освободить от дикарей. Но даже несмотря на то, что раненый, истекающий кровью, одетый в одну лишь рубашку и связанный Серрано являл собой весьма скорбное зрелище, а пары мушкетов, двух слитков металла и нескольких бухт веревки вполне хватило бы, чтобы вызволить его из плена, командор дон Хуан Карвахо отказался вступить в переговоры с туземцами и дал команду поднять паруса.
Пигафетта, досточтимый историк экспедиции Магеллана, считал, что Карвахо бросил Серрано, чтобы не возвращать капитану перешедшее к нему верховное командование, но, возможно, также и потому, что опасался предательства со стороны островитян. Возможно, уместно упомянуть и то, что отплытие состоялось 1 мая 1521 года от Рождества Христова; несколькими днями ранее сам Магеллан расстался с жизнью на острове Мактан близ Себу, пав под натиском копий и дубин островных жителей. Профессору Остен-Зекеру так и не удалось выяснить, как манускрипт Хуана Серрано оказался в монастыре Санта-Эсперанса. Можно было бы предположить, что какой-нибудь испанский моряк в более позднее время обнаружил документ у местных жителей и получил разрешение привезти его в Южную Америку, где тот и пополнил монастырское имущество.
Что ж, пришло время ознакомиться непосредственно с рукописью – в довольно точно подготовленном, практически дословном переводе.
Во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!
Я, Хуан Серрано, первый капитан «Сантьяго», а затем и «Консепсьона», пишу эти строки перед лицом неминуемой смерти, без надежды, что их когда-либо прочтет кто-то из моих соотечественников. Если, по милости Божьей и благодаря чуду, мою рукопись найдет испанец или португалец (на последних я вовсе не держу зла, тем более что сам я португалец по происхождению) – он, возможно, сможет понять из нее, сколь многого способен достичь дьявол в искушении нас, бедных грешников. Люди – слабые создания, и к скончанию дней их ведут странные дороги… Если это вообще будет возможно в будущем – помолитесь за мою бедную душу в церкви Марии-де-ла-Виктории-де-Триана в Севилье, где Магеллан получил королевский штандарт из рук Санчо Мартинеса де Лейвы.
После того как мои товарищи были убиты из-за предательства короля острова Себу, меня отвели на берег, но, несмотря на то что я всячески умолял людей на судне вызволить меня, они не заплатили за меня выкуп. Пришлось наблюдать, как мои бывшие спутники поднимают якорь и разворачивают нос корабля в противоположную сторону от суши. И это – вопреки тому, что Хуан Карвахо был моим крестником и с поднятой рукой клялся доброй памятью своей матери и ранами Христа, что не бросит меня на произвол судьбы на острове! Когда я увидел, что мои мольбы не могут заставить их вернуться, я впал в страшную ярость и отчаяние – и начал проклинать Испанию, своих товарищей и самого себя; и я попросил Бога, чтобы Он в самый ранний день Страшного Суда призвал Хуана Карвахо к ответу за состояние моей души. Я также надеялся, что мое проклятие вскоре принесет хворь и смерть этому ужасному и преступному человеку, моему крестнику.
Итак, я остался один на острове Себу, и мои похитители снова отвели меня в деревню, чтобы их король мог решить, что со мной делать. Вокруг меня собралась огромная толпа мужчин, женщин и детей; они бросали в меня грязью, ракушками и камнями, разбивая мне лицо и лоб в кровь. Я был полон решимости показать этим людям, что я не боюсь их и готов умереть. Я шел с прямой спиной, зажатый парой могучих стражей. Итак, меня доставили в большую хижину короля, где был устроен пир и где нас схватили. Вокруг нее в землю было вбито несколько кольев, увенчанных телами моих товарищей по высадке. Когда мы вошли в хижину, я увидел короля, лежащего на своей кровати, а рядом с ним на земле – человеческое тело. Подойдя поближе, я узнал Дуарте Барбозу – он, как и я, был только ранен при захвате в плен.
Тело моего товарища было вспорото, так что я мог видеть внутренности и все, что их наполняло. Король засовывал обе руки в кошмарную рану, выдирая пригоршни мяса и жира – и запихивая все это себе в рот. Дуарте Барбоза был все еще жив, он так жалобно стонал и хныкал; глядя на меня, он заклинал меня всеми святыми и Вечным Престолом убить его. Но руки мои были связаны, да так туго, что плечи норовили вот-вот выскочить из суставов. Не могу не упомянуть о том, что Дуарте Барбоза сам разжег ненависть к себе дикарей – как я должен их называть, хотя все они приняли святое крещение, – тем, что слишком сильно донимал молодых женщин острова, что было вполне ему присуще; и не все они шли с ним на контакт так же охотно, как он – с ними. Однако прежде гнев туземцев таился под спудом – покуда Магеллан держал их в покорности и повиновении словом и делом.
Тем временем король повернулся ко мне и произнес несколько слов на своем языке. Затем ко мне подошел Энрике, раб Магеллана из Малайзии. Он следовал за своим хозяином из Португалии и Испании, а затем повидал почти всю землю, пока снова не оказался рядом со своей родиной. После смерти Магеллана он отдалился от нас.
Энрике, понимавший язык острова Себу и выступавший нашим посредником, перевел мне слова короля, говорившего, что поведение моих товарищей доказывает недостойную природу представителей испанского народа, трусливо и вероломно отказавшегося не то что отбить, но даже и выкупить одного из своих сынов. Разумеется, меня такое утверждение уязвило, и я попросил Энрике передать королю, что он первый подал худший пример злобы и несговорчивости. Он ведь дал Магеллану клятву быть послушным королю Испании! По милостивому Божьему провидению он принял святое крещение и даже отказался от своего прежнего языческого имени «Раджа Хумабон», нарекшись «Карло» в честь нашего короля. Но, как доказала судьба, презренный язычник не изменяет своей низменной природе, да и вдобавок горазд лгать. На это король только поморщился и ответил, что его королевское величество Карл V его никогда не интересовал; ему было все равно – ну а мне достаточно взглянуть на моего спутника, Дуарте Барбозу, чтобы понять, что со мной будет дальше. Король хлопнул в свои толстые ладоши, и вошли две девушки. На них были только юбочки из листьев, обернутые вокруг бедер, и дикарские бусы на шеях. Одна из них, держа в руке каменный нож, начала медленно танцевать вокруг окровавленного тела Дуарте Барбозы. Ее движения делались все неистовее и развратнее, и в какой-то момент она даже бесстыдно уселась умирающему бедняге Дуарту на лицо. Пытка продолжалась несколько минут; Дуарте хрипел и елозил под ней – но потом король подал жрице знак, и она вонзила лезвие ножа в сердце Барбозы. Стоны и хрипы вмиг смолкли, и я вознес молитву во имя моего небесного покровителя – в знак благодарности за то, что товарищ наконец-то избавлен от ужасных мук.
Меня вывели из хижины. Проходя мимо столбов с телами, я пересчитал их и понял, что одного не хватает. Двадцать семь человек сошли на берег, но Хуан Карвахо и боцман тут же вернулись на судно, заявив, что не доверяют местным жителям. Энрике перешел на сторону врагов; Барбоза все еще лежал в хижине; я все еще был жив, и, по-видимому, кто-то еще под номером «двадцать два» укрывался неподалеку, избежав расправы. У меня не было времени заметить или определить что-либо еще, ибо в следующее же мгновение меня втолкнули в хижину и накрепко привязали к столбу – да так, что веревки до крови впивались в кожу.
Под вечер явился слуга Энрике и, усевшись напротив меня, принялся рассказывать, какой конец уготовили мне дикари. «Все население острова радуется скорой расправе над тобой, собака», – бросил он мне в лицо; притом глаза его безумно сверкали, а лицо до такой степени перекосилось, что я даже испугался – а не сам ли Сатана корчит рожи передо мной? Еще Энрике признался, что с помощью четырех остальных королей острова Себу замыслил предательство и склонил к оному Хумабона, и теперь несказанно счастлив, что наконец-то отомстил за насильственный увоз с родины и долгие годы неволи. Именно тогда я понял, что и этот раб, даже будучи крещен и наречен христианским именем, оказался еще одним убежденным язычником.
Он ушел от меня ночью, и в хижину вошли две девушки; первой была та, что убила Дуарте Барбозу. Они сели слева и справа от меня, держа в руках каменные ножи, и я понял, что они были назначены моими охранницами. Но перед хижиной я все еще слышал голоса мужчин и знал, что они всяко постараются предотвратить побег. Да и потом, я был так слаб от сильной кровопотери и от полученного удара камнем по темени, едва не оставившего меня с дырой в черепе, что и думать не мог о высвобождении. Слабость вскорости сморила меня, и в добром сне мне явился прекрасный город Севилья. Об руку с доньей Мерседес я шел в церковь Санта-Мария-де-ла-Виктория. Однажды донья погладила меня по лицу так нежно и сладко, что я вспыхнул от стыда и задался вопросом, что же эта женщина чувствует ко мне.
Но затем я проснулся от резких криков, похожих на грай гигантской птицы. Когда я пришел в себя, то заметил две вещи: крики доносятся откуда-то сверху, с крыши хижины, а мягкая и теплая рука все еще с любовью гладит мое лицо. Но в хижине царил такой мрак, что я не мог разобрать хозяйку руки – верно, одну из моих охранниц; никто, кроме женщин, не способен на столь легкие и бережные касания. Тем временем крики с крыши продолжались, такие ужасные и сверхъестественные, что собаки вокруг хижины запаниковали и начали выть, словно от страха. Прошло совсем немного времени, прежде чем ласки прекратились и обе девушки заговорили друг с другом в темноте. Затем они завели тихую песнь, чудесным образом проникшую и в мое сердце, укрепившую мой дух и едва не заставившую прослезиться. Когда крики на крыше смолкли и осталась только эта песня, меня вскоре охватил глубокий сон, продлившийся до самого рассвета.
С восходом солнца мои стражницы ушли, и их место заняла четверка королевских воинов с копьями и дубинками. Они проверили, не ослабли ли мои путы. Энрике принес мне немного хлеба и жареную курицу. Мясо он запихивал мне в рот кусочек за кусочком, чтобы я восстановил как следует силы и пребывал в хорошей форме перед окончательной расправой – ее предатель, конечно же, не преминул описать в наиболее отвратительных и ярких красках. Я поел и отказался дать ему какой-либо ответ, когда этот иуда в очередной раз поинтересовался, не знаю ли я, где скрывается священник Педро де Вальдеррама, тоже сошедший на берег, но доселе не обнаруженный. Все мои мысли были устремлены только к грядущей ночи – интересно, принесет ли она еще какие-нибудь нежные ласки и песни?
С наступлением темноты девушки с каменными ножами вернулись, сменив на посту четверку воинов. Они следовали языческому обычаю, и только – на путаные институты жречества мы уже достаточно навидались в Индии и на других землях, открытых по всему земному шару португальцами. Девушки общались лишь друг с другом, не удостаивая меня даже взглядом. После того как они уселись слева и справа от меня, та, что сидела справа, приготовила для меня некое питье, слив вместе содержимое нескольких сосудов. Девушка пробормотала над ним какое-то заклятье, после чего они обе тоже выпили.
Я был полон решимости не заснуть, чтобы выяснить, какая из девушек питает ко мне участие. Но мне пришлось прождать почти до полуночи прежде, чем я ощутил, как моего плеча осторожно коснулась чья-то рука. Она медленно скользнула вдоль шеи, и внезапно я почувствовал холод каменного ножа, упершегося мне в горло, перепугавшись несказанно от перспективы умереть впотьмах. Но нож лишь рассек веревку, затянутую у меня на шее и затруднявшую дыхание. Вскоре путы спали у меня с рук и ног. Теперь я был совершенно свободен – но медлил пошевелиться, полагая, что вызволившая меня рука подаст мне знак, как вести себя дальше.
Вскоре с крыши хижины понесся тот же ужасный грай, что и вчера, и собаки сызнова принялись выть и скулить. Забряцали копья, всполошенный гул голосов окружил нас – и я услышал топот целой оравы убегающих вдаль мужчин. Спустя долгое время я ощутил, как чья-то рука схватила меня за плечо и рывком поставила на ноги. Меня подвели к дальнему концу хижины, к прорезанной в стене дыре, и я с великой радостью вдохнул свежий воздух ночи. Было так темно, что я не мог различить в моей проводнице ничего, кроме ее силуэта и белых полос на нем – глиной жрицы острова Себу расписывали себе грудь, поясницу и ноги, и теперь эта природная краска слегка светилась под ярким светом небес.
Мы проскользнули между деревенскими хижинами в сторону горы, пока не оказались в лесу. Здесь мы немного передохнули, и девушка начала что-то тихо говорить, но я не мог ответить ей иначе, как по-испански, и поблагодарил ее за то, что она спасла меня. Затем мы пошли дальше и, выйдя из леса перед рассветом, оказались осиянны только что взошедшей луной. Мы укрылись на широкой, покрытой травой равнине. В этом же сиянии я узнал свою проводницу – девушку, сидевшую рядом со мной справа. Что случилось с другой, я узнаю только позже, а пока упомяну лишь насущные подозрения – той в питье было подмешано одурманивающее снадобье, погрузившее ее в глубокий сон.
Путешествие через высокие травяные заросли равнины оказалось для меня трудным и хлопотным, так как моя раненая голова и распухшие ноги плохо воспринимали дневную жару. Увидев, что я не в силах идти дальше, девушка устроила привал у воды, промыла мне рану и наложила повязку, нарвав широких листьев из своей юбки; затем она принесла мне травы, чьим соком натерла нагноившиеся места на руках и ногах, где веревки врезались в кожу. Это принесло мне немалое облегчение, и вскоре я мог идти дальше. На нашем пути встречались многочисленные деревья, чьи странные по форме листья делились на две соединенные части, напоминающие крылья; такие листья прикреплялись к ветвям тонкими острыми черешками, а из-под них торчал красный шип. Стоило их только немного потревожить, как сдвоенная листва легко отрывалась от ветки и начинала парить по воздуху, жаля своим красноватым шипом почище какого-нибудь гнусного насекомого. И все же я решил, что это обычные листья-колючки, а не какие-то живые мимикрирующие организмы. Ближе к вечеру мы взобрались на крутую гору и в сумерках вышли к узкому ущелью. По нему нам пришлось бродить около часа. Оттуда мы вышли на ровное плато, устланное травой как ковром. Тьма пала стремительно, как занавес, и проводница взяла меня за руку. Я запомнил, как мы пробирались сквозь призрачные очертания арок и колонн, будто очутились в сердце некрополя, где прошлое глядит в глаза вечности. Ночлег мы нашли у руин колоссального каменного дома, подкрепившись фруктами – дарами природы, сорванными моей спутницей с близлежащих кустов. Утомленный дорогой, я пробудился только в тот час, когда солнце уже вовсю властвовало на небосклоне.
Продрав глаза, я заподозрил было, что они лгут мне, но – нет! Кругом простирался заброшенный город с останками крепостных стен и башен, колоннад и фонтанов. Но что более всего поразило меня – все вышеперечисленное изготовлено было из чистого золота, сияющего, словно тысяча солнц! Мы будто оказались в эпицентре золотого вулкана. Я знал, что этот металл не ценится на открытых нами островах, и Магеллан, этот мудрый змий, запретил открыто выказывать алчность, дабы не выдать нашей заинтересованности. Но я и представить не мог, что может существовать подобное богатство! В сравнении с лачугами у побережья эти некогда величественные строения, сокрушенные гневом природы, казались творением иной цивилизации, существовавшей до потопа, до начала времен. Среди руин возвышались гигантские идолы, стражи былого – с глазами и ожерельями из драгоценных камней. Уверен, всего за один такой камешек можно было приобрести целый дом в Севилье – например, подобный тому, где жила донья Мерседес. Впоследствии, когда Залайя – так звали мою спасительницу – научила меня языку своего народа, я узнал, что ее соплеменники издавна знали о существовании города, однако не отваживались туда заходить, ибо считали, что там обитают демоны. Когда же я спросил у нее, почему же она пренебрегла бытующим поверьем, Залайя лишь рассмеялась и вместо ответа поцеловала меня в губы, на манер испанских женщин. Мы сошлись и стали жить как супруги, вместе, как только я осознал, что ради меня она презрела опасность навлечь гнев соплеменников и рисковала жизнью, вызволяя меня во имя чистой любви. И если кто-то, кто прочтет манускрипт, решит, будто я польстился на типичную безобразную островную дикарку – что ж, читатель, смею заверить тебя, что женщины острова Себу по красоте ни в чем не уступают европейкам. У них гладкая и нежная кожа – не черная, а чуть бронзоватая; их голоса на диво мелодичны, а пение ласкает слух.
Сначала моя Залайя, как и другие женщины племени, носила в ушах большие кусочки дерева и разрисовывала себя красной и белой глинами; но она сняла деревянные серьги и перестала краситься после того, как я однажды сказал ей, что мне не нравятся такого рода украшения. Она была покладистой и компетентной во всем, всегда прислушивалась ко мне – и я часто задавался вопросом, не обознался ли я, приняв ее именно за ту жрицу, что после разнузданного танца пронзила каменным ножом сердце Дуарте Барбозы. Мы жили в золотом городе, чьи окрестности изобиловали фруктами и дичью, долгое время, почти полгода – не ища другого места, не зная тревог и не навлекая гнева небес на этом жарком и счастливом участке земли. И если вначале я думал о своих путешествиях и о своей родине с тоской, то позже осознал, что они стираются из памяти. Телесное стало заботить меня куда больше, чем духовное, и я уподобился животному или даже растению. Не хочу говорить о том, что могло бы со мной случиться и до какого уровня забывчивости дьявол довел бы меня, если бы однажды не произошло нечто, о чем я поведаю ниже. Порой мне кажется, что этот фрагмент моего бытия не мог быть отмечен исключительно печатью Нечистого – скорее, то, что произошло впоследствии, подверглось его наущению. Сейчас я нахожусь в большом замешательстве, и моя душа все еще никак не может понять, что мне следует делать со всем этим знанием. Вот почему я желаю однажды, незадолго до своей смерти, вознести искреннюю молитву моему небесному покровителю, чтобы, если будет на то Его воля, душа моя легко, без урочных мук, отделилась от тела – и чтобы кривотолки и сомнения более не переполняли меня. Итак, прошло, наверное, полгода после моего освобождения, а мы все еще не видели других людей, когда однажды утром, едва выйдя из дома, Залайя вбежала обратно в наш домик из веток и листвы. Она закричала, что видела, как кто-то прятался в кустах и крался вокруг развалин. Я немедленно последовал за ней – и вот нашим глазам предстал человек, в сумерках так осторожно пробиравшийся сквозь кусты, что я успел разглядеть его только мельком. Я схватил свое копье, увенчанное заточенным камнем, чтобы убить этого тихого лазутчика, если он вдруг приблизится. Но как только человек вышел из тени, я узнал нашего священника Педро де Вальдерраму. Я-то думал, его убили вместе с остальными! Одежда его была сильно изорвана, лицо обрамляла густая борода, но он стоял передо мной живой, и пока я наблюдал за ним, он огляделся, и его взгляд упал на наши золотые руины. Затем он опустился на колени и высоко поднял руки, словно в молитве, и в этот момент я подошел и поприветствовал его. Но он громко закричал, упал наземь и закрыл лицо руками, так что мне пришлось долго втолковывать ему, что я – настоящий Хуан Серрано, его земляк. Позже я понял, почему он не признал меня – в момент бегства из одежды на мне была одна только рубаха, и позже Залайя сплела для меня некое подобие килта из сушеных длинных листьев. Мои давно не стриженные волосы и загоревшая до бронзового оттенка кожа довершили образ типичного дикаря. Но золотой город, приютившим меня и Залайю, поразил святого отца куда больше, чем моя вопиющая первобытность; он заявил, что все богатства ранее открытых земель не могут сравниться с этими сокровищами. Он набил все карманы кусками золота, то и дело вынимал и разглядывал их – будто забыв, что этот металл здесь буквально повсюду. После того как мы привели его в нашу хижину, он объяснил, что его спас Чилатун, брат короля – тот самый, коего дон Педро возвратил к жизни крещением и молитвой. Этот человек был очень болен, когда мы прибыли на остров, и не разговаривал четыре дня. Маги и жрецы богов не смогли победить болезнь, но сразу же после крещения и после того, как дон Педро прочитал над ним молитву, он почувствовал себя лучше и через короткое время полностью исцелился. Из чувства благодарности Чилатун тогда сохранил жизнь капеллану, отведя его в свой собственный дом, откуда тот затем сбежал в лес, а затем – на эту гору.
Я был вне себя от радости, что нашел родственную душу, но Залайю явно смущало то, что дон Педро не очень-то рад ее обществу и держится с ней надменно. Пришлось мне всячески утешать бедняжку! Ночью после прибытия святого отца я снова услыхал ужасный и жалобный крик птицы возле нашей хижины. Поняв, что Залайя рядом со мной не спит, я спросил ее, что это за ночная нечисть. Пришлось долго упрашивать ее поделиться со мной знанием! Оказалось, это некая «птица-дьявол». Темными ночами эта коварная бестия тихо прокрадывается в человеческое жилье; если кто-то спит с открытым ртом – тому она прямо в горло запускает свой длинный и тонкий клюв и вырывает с корнем язык, принимая его за лакомого червячка. Жертва, понятное дело, захлебывается спросонья кровью. Иногда птица-дьявол выдает себя таким вот мерзким криком; само ее присутствие считается чем-то непотребным, и именно поэтому в тот раз даже стражники, караулившие меня, убежали в страхе.
– Слишком часто слышать эту птицу – к несчастью, – подвела своему рассказу итог моя прекрасная дикарка.
Я посмеялся над столь очевидным суеверием и спросил:
– Неужто ты думаешь, что какая-то мифическая тварь способна накаркать нам беду?
Вместо ответа Залайя сжала мои ладони в своих – и поцеловала так пылко, как умеют только самые преданные испанские леди.
На следующий день дон Педро, походив по развалинам, вернулся к нам в таком явном и сильном замешательстве, что я понял – мысль о горах золота наконец-то уложилась в его сознании… и вскружила ему голову. Все, о чем он мог говорить, – о «неизмеримых» грудах драгоценного металла.
– Эти сокровища стоят больше, чем все достославное королевство Кастилия! – бросил он, когда в тот вечер мы оба поднялись на возвышенность, откуда открывался панорамный вид на заросшую травой равнину и бескрайний океан. – Подумайте только, сколь многое можно приобрести, имея такой запас золота… запас золота, валяющийся здесь преступно бесхозным! Мы с вами, друг мой, – богатейшие люди в мире. Но много ли толку от золота там, где оно нисколько не ценится?
Его воспаленная фантазия рисовала все новые картины роскошной жизни в Севилье, где все почитали бы нас и дивились нам. Когда же я возразил, что лелеять подобные мечты бессмысленно, ибо мы никогда не сможем покинуть остров, он заявил, что «сватовство к дикарке» плохо сказалось на мне – мол, я позабыл все честолюбивые помыслы и то, что наилучшая стезя – путь христианина.
– Даже представить себе не могу эту туземку крещеной, – презрительно процедил он.
– Ну и напрасно, – возразил я. – Это вполне возможно, ибо Залайя поступилась своим старым жреческим саном ради меня. Ее душа теперь открыта любой вере.
– Так почему же вы до сих пор не настояли на ее крещении? Недопустимо вам жить во грехе с язычницей. Ибо всяк язычник лишен милости Божией и обречен на муки в аду!
– Дайте ей время, святой отец, – мягко возразил я. – Я благодарен ей за спасение моей жизни и не хочу сейчас на нее давить. Считайте это жестом своеобразной признательности. Уверен, позже она сама заинтересуется вашей верой, если вы проявите две христианские добродетели – смиренность и любовь к ближнему!
– Хороша признательность! – фыркнул дон Педро. – Обречь спасшую вас от телесной гибели женщину на погибель духовную!..
Эти слова меня убедили, и я принял все меры к тому, чтобы уговорить Залайю принять христианскую веру. Она не противилась и сказала, хоть и с долей грусти, что принимает мою волю. Дон Педро окрестил ее, нарек Терезой и сочетал нас узами брака. В дальнейшем он продолжал усердно наставлять ее в вопросах веры; от меня же потребовал соорудить из пары брусьев, скрепленных веревкой из коры, крест. Пред этим символом мы молились по утрам и вечерам. Тут стоит упомянуть, что, сходя на берег, святой отец взял с собой икону Пречистой Девы, а также молитвенник – и даже в своем изгнанничестве сберег эти реликвии. В конце молитвослова, из коего дон нередко читал нам вслух, оказалось немало чистых листов для пометок. На них я и пишу теперь сей рассказ.
…Что и говорить, дон Педро был недоволен успехами Терезы в христианской вере. В глубине души она все еще оставалась такой же упрямой язычницей, как и всегда, и не воспринимала святые учения всерьез – тем более что мое присутствие так сильно отвлекало ее, что святому отцу пришлось попросить меня больше не присутствовать во время учений. Я подумывал поговорить с Терезой и попросить ее хоть немного подыграть дону Педро – тем самым избавив его от фанатизма, с коим он высказывал угрозы в адрес ее светлой души. Также я уступил его пожеланию и оставил его наедине с Терезой на час изучения Писания. Это не привело ни к чему хорошему.
Однажды, прогуливаясь по лесу неподалеку от хижины, я услышал громкий крик, доносившийся с той стороны, и узнал голос Терезы. Решив, что на нее напал дикий зверь, я поспешно побежал туда. Я застал Терезу стоящей на коленях перед священником – левой рукой он давил на ее запястье, а правую занес для удара. Когда я окрикнул его, он опустил руку, но по его лицу я понял, что он был в исключительной ярости, и его гнев был настолько силен, что он вообще не мог вымолвить ни слова. Наконец он сказал, что Тереза была настолько противна святой истине, настолько упряма и порочна, что он совсем потерял свое христианское терпение и был охвачен желанием наказать ее.
Я знал, что Тереза понимает меня куда лучше, чем дон Педро, и сказал, что накажу ее сам – я, конечно, не намеревался этого делать, – ибо это мой супружеский долг – образумить несчастную падшую. На это дон Педро ответил, что-де оставил всякую надежду сделать из Терезы истинную христианку – и больше не будет беспокоиться о спасении ее души.
Тереза молчала все это время, но ночью подошла ко мне и спросила, хочу ли я, чтобы она отдалась священнику как женщина. Я знал, что на острове Себу существует обычай, согласно коему хозяин предлагает своим друзьям и гостям женщин из дома. Наша команда пользовалась этим ритуалом настолько часто, что в конце концов навлекла на себя гнев островитян, когда те увидели, что их женам чужеземцы сделались милее земляков. Однако вопрос Терезы указывал на то, что дон Педро не так уж и хорошо наставлял ее в вере, раз она не понимала разницы между женой дикаря и супругой испанца-христианина. Я, как мог, заверил ее, что варварские обычаи племени больше не распространяются на нее. Кроме того, я добавил, что дон Педро, как человек, облеченный саном, не имеет права вступать в связь с женщинами. На это Тереза ничего не возразила. После этого инцидента святой отец взаправду перестал интересоваться ее христианским образованием и стал держаться в ее обществе подчеркнуто строго. Но свято место пусто не бывает; теперь вся его одержимость сосредоточилась на неисчерпаемых богатствах золотого города. Он увлекался разговорами об Испании и Севилье, описывая, какая роскошь ожидала бы нас там и какие сокровища я мог бы принести донье Мерседес. Под воздействием его слов меня охватила смута, и душа опять потянулась к родине. Я всерьез начал думать о возможности покинуть это место.
Я был в курсе того, что перед своей смертью Магеллан считал, что нам не следует удаляться слишком далеко от христианских владений. К тому же мусульманский торговец, встреченный на острове Себу, предостерегал нас о вероломстве здешнего короля и о том, что, углубляясь в экзотические земле, мы не обретем союзников, а только найдем погибель. Мы много обсуждали, какие шаги нам следует предпринять, чтобы с помощью Божьей воли и покровительства святых достичь португальских владений. Хотя португальцы враждуют с Испанией, но, вероятно, не спровадят нас дикарям! Но долгие размышления так нам и не помогли разработать сколько-нибудь приемлемый план.
Хотя мы могли бы попробовать сделать лодку и скрыться от внимания жителей Себу, нам пришлось бы плыть без карты и компаса, что предвещало верную смерть, а вовсе не безбедную и радостную жизнь на родине. Мы поднимались на холмы и смотрели вдаль, надеясь увидеть португальский корабль на горизонте, но на глаза попадались только утлые лодки местных жителей, отправляющихся на рыбалку. В эти моменты перед внутренним взором у меня ярко вставали красоты родины и трепетный образ доньи Мерседес – как она провожала меня в дальний путь и как умоляла вернуться. «Жизнь моя безрадостна без вас», – повторяла она… Меня так часто посещали эти размышления, что однажды вечером, во время молитвы перед образом Пресвятой Девы, я обнаружил удивительное сходство ее черт с моей бывшей возлюбленной. Я снова заговорил о спасении, и дон Педро подал мне икону для поцелуя, утверждая, что, вероятно, сама Божья Матерь обещает нам свою помощь, раз я усмотрел эту удивительную похожесть. Я рассмотрел это как благоприятный знак, и в моем сердце вспыхнула новая надежда.
На следующую ночь, когда я не мог уснуть и витал в думах, мне пришла на ум идея попытаться украсть одну из лодок местных жителей, загрузить ее золотом и сбежать. Тереза знала, где местные хранят свое добро, – она могла бы без проблем проникнуть туда ночью, отвязать какой-нибудь шлюп и переправить его в уединенную гавань… Мы с доном Педро обсудили мой план днем и рассмотрели все детали, обратившись к Терезе за помощью, но она категорически отказалась. Следует отметить, в ней произошли за последнее время значительные изменения. Веселая и беспечная прежде, теперь она вечно казалась подавленной и задумчивой. Каждый раз, когда мы начинали разговор о родине и побеге, она молча садилась на землю, и ее лицо принимало отчаянное выражение. Кажется, каким-то образом она заподозрила, что у меня зреют намерения вернуться к старой жизни – и к донье Мерседес, о коей я упоминал в наших разговорах прежде. Я, со своей стороны, вдруг остро воспринял различия между оставленной в Севилье возлюбленной и Терезой: какая нежная у доньи была кожа, насколько стройнее бедра и стан, шелковистее волосы! Донья обладала изысканной элегантностью и остроумием, всяко превосходящими дикую страсть Терезы. Как легко было дорожить доньей Мерседес и теми скромными, но оттого не менее волнующими ритуалами ее ухаживаний – манерами, о каких Тереза знать не знала! Так получилось, что я много раз испытывал горечь и раздражение, когда эти различия были так прекрасно представлены моим глазам.
Я стал все чаще обходиться с моей островной женой холодно и резко – как-то раз даже поднял голос на нее, потребовав, чтобы она слушалась меня, и предупредил, что больше не собираюсь терпеть ее самодурство. Негодуя, Тереза вспыхнула и заявила, что никогда не поможет мне вернуться на родину, и тем более – «к этой Мерседес». Дон Педро, сразу же вспыливший от ее упрямства, начал обвинять ее за то, что она посмела упомянуть святое имя испанской женщины в сравнении с собой, – и назвал ее «серым прахом у ее ног». Чтобы еще сильнее ее задеть, он указал на изображение Мадонны и сказал, что донна Мерседес так же прекрасна, как Божья Матерь на иконе, – не ей, дикарке, тягаться с такой! Тереза тогда схватила икону обеими руками, притянула к себе и очень долго смотрела на нее с таким диким выражением на лице, какого я никогда раньше не видел – даже в тот раз, когда она вонзила ритуальный нож в грудь Дуарте Барбозы. Затем она вернула икону святому отцу и выбежала из лачуги. Она куда-то скрылась на целый день и не вернулась даже к вечерней молитве, обычно претворяемой нами вместе. По возвращении Терезы в час глубокой ночи я потребовал от нее объяснений, но она вызывающе молчала в ответ и утром снова отлучилась на целый день. Святой отец был недоволен. Он заявил, что нам придется молиться еще усерднее, чтобы Господь не покинул нас. Я согласился с ним, считая, что Бог не простит, если душа, посвященная нами в таинство веры, вновь обратится ко злу. Когда я понял, что угрозами не смогу привести мою Терезу на службу перед крестом, я отстегал ее веником из прутьев – его дон Педро сплел специально для меня, нарезав веток с окрестных кустов. Но Тереза спокойно сносила порку, не дозволяя себе ни стона, ни мольбы – и, хоть мне и хотелось принудить ее к благочестию хотя бы с помощью боли, в конце концов мне пришлось остановиться. Яркая кровь струилась у нее по ягодицам. Пусть я и был раздосадован ее ужасным упрямством, не выходило не испытывать к ней сострадания.
Нам снова пришлось молиться без нее, и дон Педро объяснил мне, что из-за упрямства язычницы надежд на помощь небес стало еще меньше. Я сказал, что хотел бы попытаться привлечь ее на нашу сторону еще раз, – но Тереза не дала нам такой возможности, потому что вернулась в хижину только той ночью, так тихо, что не потревожила наш сон, и ушла с первыми лучами солнца. Так продолжалось три дня. На четвертый день дон Педро сказал мне, что, по его опасениям, Тереза отошла от христианской веры и вновь присягнула старой вере – дьявольской. Он обнаружил свежие фрукты и цветы перед одним из идолов в руинах в качестве подношения, и их не мог положить туда никто другой, кроме Терезы. Затем дон привел меня к идолу, и я убедился в правдивости его слов. Это был один из отвратительных идолов с четырьмя ногами и пятью руками, причем пресловутая пятая конечность росла у него из живота. Его голову покрывал головной убор из перьев – и, если присмотреться повнимательнее, можно было различить, что крепятся эти перья к маленьким птичьим черепам. Меня охватил ужас – как как после крещения можно поклоняться чему-то столь мерзкому?
– Друг мой, мы должны спрятаться и подкараулить, когда она вернется с очередным подношением, – предложил святой отец.
Мы пролежали в кустах несколько часов, пока не услышали шаги и не увидели Терезу, шедшую с цветами и фруктами. Мы подождали, пока она положит подношение и начнет танцевать, как это принято у всех островных народов, когда они хотят почтить своих богов; затем мы одновременно вскочили, и Педро схватил ее за руку и поставил на колени.
– Жалкая идолопоклонница! – воскликнул он. – Сосуд греха, невеста Сатаны! Как ты можешь пятнать свою душу, очищенную крещением, таким отвратительным образом? Ты заслуживаешь быть немедленно брошенной в бездну ада, где нет ни благодати, ни света, ни милосердия!
– Как же так, Тереза! – вторил я. – Зачем ты кланяешься этому отродью? Ты же сама мне говорила – твой народ верит в то, что демоны обитают здесь, в золотых руинах!
Она уставилась на меня и отчеканила на своем наречии:
– На самом деле это верование истинно. Демоны действительно живут в этих руинах, и один из них – перед нами! – Она указала на священника, безумно испугавшегося от этих слов и отпрянувшего от нее с бледным лицом. Впрочем, стоило ему взять себя в руки, как он уже кричал, что намерен провести над Терезой обряд экзорцизма, что он не в силах более терпеть присутствие столь вопиюще проявляющей себя дьявольской силы под боком.
– Пусть она увидит, – рычал он с пеной у губ, – что ее кумир – гнилостный морок, черный вонючий дымок пред освежающим дыханием Господа! Помогай мне! – велел дон, а сам налег всем телом на руку идола и отломил ее. Я принес веревку из коры и сделанные из самых крепких веток полозья – и, приложив немалые усилия, мы опрокинули гнусного истукана наземь. Тереза закрыла лицо руками, как будто не хотела на это смотреть. Зайдя далеко в руины, мы нашли еще статуи – и, к чести Господа, сбросили их все с постаментов, всего двадцать пять. Ночью мы внезапно проснулись от удивительного грохота и шума, доносившегося из недр земли, колеблющейся и дрожащей, словно в бурю. Наша скромная лачуга развалилась, как будто поддерживавшие ее стволы стали бессильными тростниками. Выбравшись из-под завалов, мы увидели ужасное зрелище: над пиком самой высокой горы взметнулся красный столп пламени, и алый свет озарил все кругом. Воздух дрожал от пронзительного вопля – казалось, что в нем сошлась мощь тысяч голосов, будто все демоны обратили ярость на нас.
Надломленные столпы золотого города рушились друг на друга, сталкиваясь и рождая громкий, пробирающий до костей скрежет. Большой валун рухнул с неба прямо у ног дона Педро, едва не раздавив святого отца. Тереза залилась злорадным смехом, звучавшим столь дико и страшно, что дон, подскочив к ней, велел ей умолкнуть и поручить душу Пресвятой Деве.
Однажды мы увидели, как красное светящееся облако показалось из-за вершины горы и устремилось вниз со скалы, а затем собралось в клубок и стало еще краснее. Взяв курс прямо на нас, оно приблизилось так быстро, что мы едва успели осознать опасность. Оно окутало нас троих – всего на мгновение, но мы успели поверить, что сам воздух вспыхнет вокруг наших тел и все мы погибнем в адском пламени. Но алый морок развеялся – и мы, изрядно удивленные, поняли, что еще живы. После этой вспышки в воздухе и на земле стало спокойнее, и наконец в первые утренние часы мы смогли улечься спать.
Утром с помощью Терезы я как можно быстрее восстановил нашу разрушенную лачугу, а дон Педро отправился исследовать руины золотого города, изрытые глубокими трещинами и разрывами, словно морщинами на лице беспросветного старца. Вскоре святой отец к нам вернулся – смертельно бледный, сам не свой. Похоже, он столкнулся с чем-то ужасным и совершенно непоправимым!
– Что случилось? – в тревоге окликнул я его.
Вместо ответа он резко схватил меня за руку и поволок к ближайшему огромному блоку, излучающему золотистый блеск, что лежал неподалеку от лачуги.
– Дотронься до него, – повелел он дрогнувшим голосом. Я послушался и почувствовал, как моя рука словно погружается в коровий навоз. Под моими пальцами золото становилось мягким, крошилось и распадалось. Когда дон Педро, охваченный безумием, с силой ударил по блоку кулаком, тот осыпался полностью, будто слепленный из праха.
– Наверное, мы приняли за золото какой-то малоизвестный минерал, – хорошенько подумав, заявил я. – Ночью, под воздействием тех красных испарений, он претерпел некую химическую реакцию… и вот результат!
Тут дон Педро бросился на землю, стал колотить себя кулаками и кричать так громко, что я испугался – не припадок ли случился с ним? Наконец он встал, отвел меня в сторону и сказал, что теперь, к сожалению, стало совершенно ясно, что женщина, жившая с нами, была злой колдуньей; ее нужно прогнать или же освободить от демона ради спасения наших собственных душ.
Я отказывался верить ему, но дон Педро доказал мне, что все взаимосвязано: сначала Тереза отказалась молиться с нами, потом принесла жертву идолу, и вот прошлой ночью разъяренные демоны сыграли с нами злую шутку, уничтожив несметные сокровища города.
Я вынужденно признал, что в его доводах прослеживается определенная логика и что стоит расспросить Терезу о случившемся. Но вместо того чтобы ответить святому отцу, моя островная жена обратилась напрямую ко мне. Она сказала, что больше не имеет сил от меня скрывать правду: на самом деле дон Педро столь категорически предвзят к ней из-за того, что она отказалась удовлетворить его половую нужду. Поэтому она спрашивала, не нужно ли ей поддаться – вдруг это изведет конфликт на корню; но я сам объяснил ей, до чего в христианских отношениях важна супружеская верность, и… Подскочив к Терезе, дон Педро ударил ее по лицу, отчего ее крепкие ноги дрогнули и подкосились. Плача, она упала на колени. Я не подозревал такой силы в святом отце. Сжав кулаки, дон воздел их к небесам.
– Брат, – возопил он, – теперь ты сам видишь, сколь велико грехопадение этой шельмы – она даже осмеливается обвинять меня в постыдных поступках, чтобы отвлечь нас от своих собственных греховных деяний! Твердо заявляю, что каждое ее слово – гадкая, низменная ложь, придуманная демонами, коими одержима эта женщина!
Я и сам был напуган порочным бесстыдством Терезы и согласился с доном Педро, что мы должны во имя Господа изгнать из нее дьявола. Мы привязали Терезу к столбу, и я бил ее палкой, но вскоре дон Педро сказал, что я слишком устал и у меня не хватает силы на удары. Затем я передал Терезу священнику, и он принялся за работу с большим рвением. После града ударов веткой толщиной с большой палец дон Педро поднес вплотную к Терезе икону Пресвятой Матери.
– Целуй ее, – велел он, – целуй немедленно, если хочешь доказать, что дьявол оставил твои тело и душу!
Но Тереза отказалась. Она явно бредила от боли, ибо перепутала икону с моей далекой доньей Мерседес и сказала, что ничто не заставит ее проявить почтение к своей сопернице.
Мы поняли, что обряд изгнания не завершен, и святой отец решил перейти к методам инквизиции. Насобирав сухой древесины, он разжег костер у ног Терезы. Я не осмелился наблюдать за дальнейшим ходом процедуры экзорцизма, хотя и понимал, что дон действует от имени Господа и что спасти заблудшую душу – наш святой долг. Вскоре, поняв, что не могу больше слышать стоны и всхлипывания, я вернулся и сказал дону Педро, что он сделал достаточно. Кожа Терезы была обожжена во многих местах, но все равно невозможно было заставить ее поцеловать образ Мадонны – злой бес противоречия, овладевший ее душой, оказался на редкость упрям. Несмотря на это, я не смог вынести вида ее израненной спины и собрал целебные травы, о чьем благотворном действии узнал от нее. Из них я и сделал повязки, укрепив их при помощи мягких растительных волокон.
Тереза ничего не сказала, только поцеловала меня в руку – и я начал верить, что она пришла в себя и, возможно, на следующий день не будет так сильно противиться обрядам изгнания. Но мои надежды оказались напрасными. Дон Педро на ночь прикрепил икону Пресвятой Девы к одному из заново врытых столбов, дабы Матерь Божья простерла над нами свой покров и оберегла от злых духов, а также ужасов, таящихся в руинах; поутру мы обнаружили, что образа нет на месте, и вскоре нашли его в кустах – расколотым в щепки и изрезанным. Рядом валялся каменный нож Терезы – не было сомнений, что она в ответе за богохульный акт. Когда мы пришли к ней, она не стала отпираться, а с гневно горящими глазами заявила:
– Конец ей, моей сопернице!
Тогда меня охватила слепая ярость, потому что мое сердце было приковано к этому образу – он был нашей реликвией и в то же время напоминал о чертах моей возлюбленной доньи Мерседес. Мне показалось, что Тереза, уничтожив икону, поставила крест на всех наших надеждах когда-либо вернуться в Испанию. Не в силах совладать с собой, я кинулся на Терезу с кулаками.
– Уходи прочь! – кричал я. – Я убью тебя, если ты когда-либо посмеешь вернуться к нам.
Дон Педро намеревался наказать ее еще раз, но я был сыт по горло его экзорцизмом и хотел только одного – никогда больше не видеть Терезу перед собой. Какое-то время она молча стояла у нашей лачуги и смотрела на меня, как будто не понимала, что я ей только что сказал. Но когда я повторил свой приказ, подкрепив его крепкой руганью, и взмахом руки отослал ее прочь, она повернулась и ушла, опустив голову. Я взлез на возвышенность над руинами, почти уже окончательно стертыми с лица земли, и смотрел, как она сходит по склону горы, как бредет по тропинке через широкую травянистую равнину, ведущей, как я мог помнить, обратно в туземное поселение… Видимо, она решила вернуться к своим.
Здесь я обязан отметить кое-что удивительное… кое-что, явно демонстрирующее, до чего силен Дьявол и как уязвимы пред ним мы, смертные люди. Как только Тереза исчезла из виду, мою душу охватило глубокое горе, не покидавшее меня на протяжении всего дня, хотя дон Педро непрерывно повторял – следует радоваться тому, что эта отвратительная язычница и слуга Сатаны наконец-то ушла.
– …Имел в винограднике своем посаженную смоковницу, – цитировал громогласно дон, – и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она землю занимает?»
С приходом ночи из моей тоски родился огромный ужас, не позволявший мне заснуть, заставляя меня ворочаться с боку на бок, так что в конце концов дон Педро продрал глаза и спросил, что со мной не так.
Я не скрыл от него, что меня тревожит отсутствие Терезы, на что он ответил:
– Меня тоже. Не стоило выгонять шельму. Она может раскрыть наше убежище своим соплеменникам.
Сам я верил, что Тереза не предаст нас, но не хотел, чтобы дон Педро подумал, будто я слишком привязан к ней и все еще испытываю к язычнице расположение. Но со временем моя тревога только усиливалась, и на следующий вечер я чувствовал себя полностью растерянным – охваченным смятением, несмотря на мои попытки уповать на Господа. Меня тревожила судьба островной жены: что, если ее соотечественники казнят ее за старое предательство? Подозрение становилось все более навязчивым, а навлеченные им жуткие фантазии становились все более кровавыми и ужасными. В ночи мне показалось, что кто-то зовет меня по имени. Я сел в постели – и в тот же момент услышал резкий крик зловещей птицы, питающейся языками спящих. Меня охватил такой сильный страх, что я чуть не потерял рассудок.
Мгновенно вскочив, я молча обошел Педро, убедился, что его язык на месте, и ринулся к деревне через склон и равнину. Ноги несли меня до того стремительно, что я не обращал внимания ни на что кругом – и лишь несколько раз пугался, видя, до чего безумные коленца выкидывает рядом со мной собственная тень при лунном свете.
Под самые рассветные часы я достиг лесистых окраин деревни и теперь осторожно пробирался между стволами деревьев. Когда я вышел из чащи, край солнца уже маячил над горизонтом. Я притаился на скальном выступе, нависшем над хижинами, и, хотя внизу все по-прежнему тонуло во мраке, разглядел, что на площади близ жилища короля пылают два больших костра, а вокруг них собралась толпа народа. Зрелище повергло меня в отчаяние, ибо я, очевидно, не смог бы незаметно прокрасться в деревню и разведать, что же сталось с Терезой. Пока я раздумывал над тем, как поступить, на площади появился король, и толпа разделилась надвое, оставив в прорехе пустующее пространство с двумя кострами. Между них на земле лежала связанная веревками женщина. Это была Тереза! Барабанный грохот и звон литавр приветствовали короля, а воины, стоящие в кругу, трясли копьями и кричали его имя. Царственный дикарь занял место напротив пленницы, а к кострам подошли две женщины в юбках из листьев и ожерельях из красных кораллов поверх смуглых грудей. Принесли три блюда: на одном красовалась запеченная рыба, на другом – что-то вроде пирога, на третьем – покрывала и повязки из волокон пальмового дерева. После того как яства поставили перед королем, обе женщины подошли, разложили покрывало на земле и встали лицом к востоку, где уже начинали пробиваться лучи солнца. Одна из них взяла тростниковую трубу, а другая – каменный нож. Они стояли неподвижно несколько мгновений, пока край солнца не округлился над морем. Тогда первая женщина трижды задула в трубу и начала громко петь, на что тут же откликнулась вторая.
Так продолжалось, пока солнце не вышло целиком. Первая женщина покрыла голову куском ткани и стала медленно кружить подле распростертого на земле тела. Другая же, надев повязку, ступила ей навстречу. Затем они поменялись местами: одна сбросила покров и взяла повязку, а вторая обернула тканью голову. Затем они бросили наземь как покрывало, так и повязку и закружились вихрем вокруг пленницы, перекликаясь песней. Их голые груди подскакивали вместе с коралловыми ожерельями.
Весьма долго длилась эта пляска; но вот монарх воздел руку в воздух. Первая из женщин подошла к нему и приняла из его рук плоскую чашу, наполненную ароматным кокосовым вином. Продолжая свои танцы, она вернулась в круг, несколько раз приближая чашу к своим губам, но не отпивая, и в конце концов резким движением выплеснула вино на грудь Терезы. В то мгновение вторая женщина, танцующая, дважды поразила сердце моей бедной островной жены каменным ножом. Сойдясь в адском крещендо, грохот литавр и барабанов вознесся к небу, когда первая жрица погрузила лезвие в пролитую кровь – и окропила ею толпу; так христианские священники брызгают на паству святой водой… Я наблюдал за этим в полном оцепенении, лишенный воли, и все мои мысли были настолько разобщены, что я не мог оправиться от увиденного. Я проклинал свою трусость, понимая, что даже безрассудный героизм не спас бы Терезу. Не знаю, что творилось потом в деревне, но я покинул это место и медленно направился через лес и равнину к нашему с доном Педро лагерю. Мне было все равно, будут ли меня искать или нет – осторожность я не соблюдал. Дойдя до места, где развалины золотого города громоздились хрупкими пепельными пластами, я застал дона Педро в состоянии глубокой тревоги. Не реагируя на его вопросы, я почувствовал, как ненависть переполнила мое сердце, подсказывая, что ответственен за гибель Терезы именно он, а не какой-то там туземный король. Сев на землю, слепо щупая траву, я нечаянно наткнулся на каменный нож, прежде принадлежавший Терезе, – видать, его мне подсунул под руку сам Сатана! Не ведая, что творю, я схватил его, прошествовал к дону Педро и дважды ударил его в грудь. Святой отец рухнул у моих ног и прошептал:
– Брат! Брат! Ты не ведаешь, что творишь!
Но больше он не сказал ни слова, ибо я вырезал его язык, похожий на извивающегося скользкого червяка, и выбросил в кусты – в надежде на то, что птица-дьявол полакомится им. Уверен, в тот момент Господь и все ангелы-хранители отвернулись от меня. На листках, коими я располагаю, осталось совсем мало места, так что остаток моей истории будет краток. Я похоронил дона Педро под крестом, где мы молились, и взял его молитвослов. Покинув место, названное туземцами обиталищем демонов, я направился к побережью, решив спастись с острова – или погибнуть. Однажды ночью, обхитрив дозор, я украл лодку и уплыл по морю прочь незамеченным.
После серии приключений, опасностей и многих дней голода я попал на этот мелкий островок – если верить местным, он находится под покровительством империи Чипанго. Люд здесь обитает приветливый и простодушный, так что меня приняли радушно. Здесь я, правда, подхватил тяжелую лихорадку, и она истощает мои силы. Чую, как смерть дышит в затылок. Но я не хотел бы умереть, не рассказав обо всем, что мне довелось пережить на острове Себу. Я, собственноручно создав чернила и стилус из тростника, стал объектом почитания островитян, принявших меня за великого волшебника. Эти записи не являются посланием для внешнего мира, ибо он никогда не увидит их, а прежде всего служат мне самому. После завершения моего труда я намерен отрешиться от мыслей об острове Себу, посвятить себя покаянию, заботам о душе и смиренному ожиданию смерти. В случае, если записи окажутся в руках христиан, – отсылаю их к моей просьбе, выказанной во вступлении, и завершаю тем же, с чего и начал:
Во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа! Аминь!
«И юные косточки пляшут…»
После смерти своей юной подруги Беттины, сожительницы на протяжении почти что двух лет, студент-медик Герберт Остерманн прочно встал на стезю анахоретства – избрав тем самым весьма надежный способ избегать людей.
Основательный и добросовестный штурм гранита наук сделал его более критичным по отношению к академической молодежи, и Остерман уже давно стоял особняком ото всех – этакая глыба; позже к этому добавилась боль из-за потерянной любви, и он, казалось, не хотел больше иметь ничего общего со своими младшими товарищами. Отныне всякое веселье ему претило. Среди студенческой молодежи у Остерманна оказалось куда больше сочувствующих друзей, чем он думал. Его далеко не угодливые, но неизменно вежливые манеры, да и та обязательность в вопросе скромных мирских обещаний – вкупе с аурой вящей надежности, окружающей его, – казались товарищам проявлением эталона всех самых важных мужских качеств. Кроме того, всех интриговал Остерманн из-за его отношений с этой миниатюрной загадочной Беттиной – наполовину немкой, наполовину русской. Ее внезапная смерть была покрыта завесой тайны, и из-за нее-то бедный Герберт и ударился в затворничество.
Все хорошо знали эту пару по актовому и концертному залам; по пальцам не счесть, сколько раз их видели вместе – а вот поодиночке они показывались лишь изредка! Статный и худощавый Герберт и невысокая, слегка пухловатая, но куда более шустрая немка, дочь Восточного побережья, едва ли казались ладной парой. Манеры Герберта, неуклюжие и прерывистые, вызывали сущую жалость на контрасте с ее природной плавностью и чутким животным проворством. И все же, несмотря на сугубо внешние различия, в них было что-то такое, что указывало на глубокое взаимопонимание. Возможно, именно по этой причине никто не осмеливался посягнуть на Беттину, считавшуюся одной из самых притягательных особ среди студенток. Будь ее связь с Гербертом легковеснее, от претендентов переманить ее не было бы отбоя. Остерманн сопровождал целеустремленную, страстно увлеченную наукой студентку на все лекции. Академическая разница не останавливала его, так что он повторно осваивал азы анатомии. Многие полагали, что уж такое-то вынужденное повторение основ поможет Герберту успешно завершить и без того чересчур затянувшуюся учебу. Единство этой пары всеми воспринималось как нечто стойкое, несломимое, едва ли не евангелическое.
И вот Беттины не стало. Ее смерть потрясла всех. Даже манерные циники с медицинского факультета, вперед всех достоинств выпячивавшие деланое пренебрежение смертью и черствость, – и те, все как один, ужаснулись. Остерманна жалел каждый встречный; а его более юный сокурсник Рихард Кречмер даже предложил пожить у него. Сперва Остерманн отклонил предложение, но позже, поняв, что влачить существование в одиночестве слишком тягостно, согласился. Он оставил свое прежнее жилище – дом, весь заросший виноградными лозами, почти два года дававший приют Герберту и Беттине, – и перебрался к Кречмеру. Тихий и одухотворенный уголок он променял на скудно обставленную холостяцкую квартиру в центре города; ни на какие условия не жаловался, но и в общественной жизни товарища желания участвовать не изъявлял. Кречмер, искренне привязанный к Остерманну, пытался убедить его оставить свой бесплодный траур и постоянно приглашал на небольшие вечеринки и иные студенческие мероприятия. И вот наступило время бала – первого после смерти Беттины. Весь персонал кафедры, недавно объединившийся в ассоциацию, задумал отметить это событие. Был организован большой банкет с комическими номерами и карнавальной программой. По сему особому случаю Рихард твердо вознамерился «выманить из берлоги» скорбящего Герберта.
– С моей стороны неправильно праздновать это событие, – заявил Остерманн, когда Кречмер стал еще настойчивее убеждать его.
– Ты не делаешь ничего плохого, – решительно возразил его друг. – Кто умер, того уж не воротишь – и никакой траур, никакой целибат этого не изменит!
Остерманн серьезно посмотрел на дерзкого юношу – и казалось, хотел что-то резко возразить ему. Но молчание все тянулось и тянулось. Кречмер сменил тон на более мягкий, и в конце концов Герберт согласился посетить праздник; он хоть и не мог отделаться от ощущения, будто поступает не по совести, но добрая воля его товарища была настолько очевидной и искренней, что он не захотел терять расположение друга из-за собственных навязчивых мыслей. Просторный зал ресторана, где проходил карнавальный вечер, ломился от молодых врачей. Присутствовали и студенты последнего курса, только что окончившие университет, и полные сознания собственной важности медики, и многие ученые профессора, по-отечески доброжелательно наблюдавшие за суетой молодых. От ярко-белых простыней, устилавших длинные столы, исходил свежий запах прачечной. От огромной люстры под потолком в зал устремлялись тонкие шипы света, формируя нечто наподобие яркого венца. На кухне, источавшей ароматы готовящейся снеди, громыхала посуда. На столе были разложены лотерейные билеты и шуточные призы – разные безделицы для декора, призванные остроумнейшим образом украшать рабочие места будущих профи-медиков: ослепительно белые образцы костей – главным образом, лопаток и ключиц, – в качестве пресс-папье, половинки черепов, обработанные под пепельницы и плевательницы.
Молодые люди, в том числе – изрядно молодых женщин, расхаживали взад-вперед, собирались в компании, а затем снова расходились. Герберт Остерманн, впервые за долгое время угодивший в такую толпу, никак не мог приноровиться к веселой атмосфере. Пока Кречмер за столом пытался вовлечь его в тосты и провозглашения здравиц, недовольство Остерманна становилось все сильнее и сильнее. Шум, резкий свет ламп, их острые лучи, весь этот гвалт – неумеренно-грубый, пронзительный и бестолковый… все это донимало его. Он начал жалеть о том, что согласился сопровождать своего друга. А праздник меж тем протекал в своем русле. Речи и песни следовали одна за другой, профессора оживленно демонстрировали свою вовлеченность в быт и нравы академической молодежи. Дамы громко хохотали над остротами. Когда Остерманн слышал этот смех или видел, как развевается подол чьего-нибудь яркого платья, его сердце разрывалось на части и по телу пробегали мурашки, подобные ледяной мороси. Наконец около одиннадцати часов он решил, что продержался достаточно долго, и объявил Кречмеру о своем желании уйти.
– Ни в коем случае, – рассмеялся тот, – сейчас будет самое интересное. Дверь заперта! Всех впускать, никого не выпускать!
Один из ведущих вечера как раз объявил, что почтенным господам нужно приготовить себя к карнавальным розыгрышам. По взмаху его руки занавес подняли – и на сцену, прямо напротив стола, где собрались преподаватели, выкатили прозекторский стол. На столе, как водится, лежал труп – в одной только набедренной повязке. Сценка разыгрывалась между учителем анатомии и несколькими не вполне трезвыми студентами, предпочитавшими игру в орлянку учебе. Главная шутка спектакля выражалась в удачной пародии на одного из самых известных и популярных профессоров – запросто угадывалась манера последнего, с характерным натужным кашлем и постоянным расшаркиваньем. Все присутствующие хохотали до слез, и пуще прочих – сам изображаемый, увидевший себя как бы со стороны, в кривом зеркале. Помимо сатиры на профессора показали пьесу по мотивам «Урока анатомии доктора Тульпа». В заключительной сцене профессор в позе приснопамятного доктора стоял возле бездыханного тела в окружении своих студентов; только он не растолковывал обучающимся, как отличить нервы от мышечных волокон, а извлекал из живота трупа всякие диковины – подставки для пивных кружек, зажигалки, ключи, зачетные книжки. Когда он перевернул труп голым задом кверху и хищно потянулся к его ягодицам, покойный вскочил со стола с яростным ревом, и анатомическое представление закончилось его поспешным бегством. Гротескный юмор, приведший всех присутствующих за столом в хорошее настроение, произвел впечатление и на Остерманна. Ему казалось, что подобные заигрывания с жутким таинством смерти не вполне уместны и приличны для людей, давших клятву Гиппократа. Но, возможно, такой взгляд на вещи диктует его чрезмерная эмпатия. В любом случае он ощущал себя настолько странно очарованным, что больше не помышлял об уходе. Вскоре перед фиолетовым занавесом появился молодой врач с книгой в руках; раскрыв ее, он без особого артистизма затянул «Пляску мертвецов» Гете:
- При лунном сияньи, в ночной тишине,
- Встают мертвецы на кладби́ще:
- Один за другим, по порядку, оне
- Свои оставляют жилища…
Остерманну эта нудная декламация показалась нелепой, но на последних словах в зале внезапно потемнело, и тогда стало ясно, что означала сия преамбула. Сцену заняла кустарная декорация, изображающая кладбище. Некий бледный силуэт, завернутый в простыню, тихо выплыл из тьмы на краю сцены и на ощупь двинулся между фанерными надгробиями. Привидение прислонилось к одной из могил, приставило скрипку к костлявому подбородку и извлекло при помощи смычка несколько дисгармоничных звуков. Где-то вдалеке невидимые часы на ратуше гулко пробили полночь.
Маленький оркестр перед сценой подхватил назойливый скрипичный мотивчик – и вплел его в диковатую, пугающую музыку, чьи причудливые гармонии и рваные ритмы как будто призывали из мрака всевозможные ужасы. Затем, подобно тому, как это описано в стихотворении Гете, слева и справа появились обитатели могил – на нетвердых, дрожащих ногах. Они лезли из разверстых могил, вставали из-под надгробий и, качаясь, бродили меж теневых завес. Длинные саваны льнули к их рукам и ногам, а лица мертвецов закрывали покрашенные фосфором маски, изображающие черепа с черными провалами носов и глаз, ухмыляющиеся рядами голых зубов.
- День целый лежали, хотелось бы им
- Расправить скорей свои кости;
- И вот начинают, один за другим,
- Кривляться незваные гости.
Они передвигались в ритме ужасающей музыки, привечая друг друга с кривлянием и насмешливыми завываниями – издевкой над этикетом живых. Казалось, что из-под белых хламид доносится перестук костей, кастаньетной дробью задающий новый ритм всей этой пародии на жизнь. Автор и режиссер постановки – неизвестно, студент ли, профессор, – явно отличался специфическим простором воображения и оригинальными вкусами. На темной сцене мертвые галантно сходились, демонстрируя, что различие полов – и в царстве Аида вопрос не последней важности. Теперь, когда его глаза привыкли к темноте, Остерманн мог различить мужчин и женщин, выходящих парами и пускающихся в танец призраков у своих последних приютов. И пускай зрители знали, что все действо придумано и отрепетировано коллегами; пусть казалось, что нетрудно узнать того или иного ближнего своего за белой накидкой – тем не менее всеми при виде этих «призраков» овладело весьма странное чувство, некое непредвиденное волнение, перечеркнувшее счастливую атмосферу банкета. Молодые люди, чей возраст и профессия заставляли их воспринимать смерть как нечто повседневное и неизбежное, почему-то напряглись, созерцая банальный, казалось бы, танцевальный номер, – что-то в их подсознании противостояло мрачному эффекту сцены на грани фола… воля к жизни, к свету, здоровью… и все равно – никто не мог отвести взгляд!
А танец на сцене все не прекращался. Пары объединялись и разъединялись, увязывались друг за дружкой в вереницу, слагали хоровод, быстро крутившийся вокруг невидимой оси. Синевато-белый свет, падавший на танцоров сверху – эффект, призванный имитировать трупную фосфоресценцию, – теперь, казалось, исходил от самих «привидений». Стремясь как можно лучше передать кошмарные образы Гете, актеры, как можно было предположить по их резким, дерганым движениям, выражали слепую бессильную ярость нежити против собственной проклятой судьбы, марионеточную искусственность и неуклюжесть движений оживших мертвецов. В начале представления Герберт Остерманн против своей воли почувствовал прилив скрытого возмущения. Оно, словно прогоняемое большим давлением по трубе, хлынуло в его тело. Оно взывало подняться на ноги и под любым предлогом расстроить выступление на сцене. Можно стукнуть по столу, бросить на пол бокал, просто крикнуть со всей силы: «Довольно!» Но пока он перебирал все эти возможности, первое впечатление рассеялось – и, оставшись без своего негодования, Герберт поник, опустошенный и обессиленный, да еще и оробевший в плену первобытного страха. Страх этот, восползший к самому краю того сосуда, что содержит человеческую душу, густой и липкий, вызывали актеры, играющие – и не то чтобы хорошо! – роль пляшущих в тончайших саванах мертвецов. Страх затопил всего Герберта изнутри, оставив лишь маленький, сирый островок здравомыслия с единственным неярким маяком на бережку.
Бедный студент сидел, одной рукой сдавив пивной бокал, а другую уперев в колено. От внутреннего напряжения его глаза даже будто слегка выкатились; он всем телом подался вперед. Неужели сейчас никто, кроме него, не чувствует этой замогильной вони, не ощущает ауры нечестивого ритуала, разящей глупых зрителей темными лучами со сцены? Казалось, просто находясь рядом с этим нечестивым действом, можно заполучить смертельную болезнь – чуму, холеру или что-то вовсе не известное миру! Пока омут кошмаров засасывал Герберта, бедняге вдруг показалось, что в движениях танцоров есть что-то узнаваемое. Вроде как где-то он видел нечто похожее… смутно похожее… но все попытки вспомнить – тщетны, и образ все никак не обретает форму! Что же символизирует этот танец-водоворот? Что мелькает в его темной пучине, коварно отказываясь всплыть? Что-то чудовищное… отродье хаоса! После долгого оцепенения Герберт начал дышать тяжелее, потрясенный до глубины души движениями актеров, застывающими пред его глазами на манер раскадровки – один нечитаемый жест, другой; полупоклон, согнутая нога, взмах руки… Со временем Герберт сосредоточил все внимание на одной из фигур. Очертания выдавали в плясунье под саваном женщину, и отследить ее перемещение по сцене было отчего-то сложнее всего – появляясь, она тут же куда-то исчезала. Но именно ее движения выглядели наиболее узнаваемыми! И при взгляде на нее Герберт чувствовал не только страх, но и что-то вроде приступа жгучей нежности, глубокого сострадания то ли к ней (но почему же?), то ли к себе (еще чего не хватало!). Образы прошлого обвились вокруг его воспаленного мозга тугой паутиной, накрепко перетянули извилины… А мертвые на сцене все более дико кружились среди надгробий; неподвижные маски с черепами пугающе контрастировали с мерзостной оживленностью их па. Саваны задирались все выше – кости, сталкиваясь друг с другом, грохотали все громче. Очередь сухих, жестких звуков так и била со сцены в зал. Впору было подумать, что вожделение, не угасшее даже за гробом, тянуло юные кости к страстным объятиям – и вот-вот начнется дикая оргия скелетов.
Затем, будто с огромной высоты, прозвенел колокол – и всю нежить словно бы разметало взрывом. Танец прервался. Фигуры, лишенные всякой уверенности, спотыкаясь и шатаясь, нащупывали дорогу среди надгробий и искали недостающие части своих остовов, во время разнузданного пляса лишившихся целостности. Ограниченные законами мира живых, эти духи ночи сникали, укрываясь за надгробные камни, и растворялись в тенях.
В зале раздался громкий вздох, а за ним – первые робкие аплодисменты. Постепенно к ним присоединились другие – как будто этот радостный шум мог разорвать тонкую серую мерзостную паутину, протянувшуюся со сцены и осевшую на зрителях.
– Черт возьми, это было прекрасно! – воскликнул Кречмер и сделал большой глоток выдохшегося пива.
Затем он встал, подтянул пояс, чуть прогнулся в пояснице и снова выпрямился, как будто желая удостовериться, по-прежнему ли его плоть и кости держатся вместе, как положено. Герберт Остерманн ничего не ответил. Он был занят тем, что пытался прийти в себя, как после шока. Он ощущал во рту странный привкус – и странное чувство под сердцем, некую душевную изжогу. На его глазах плясавшие мертвецы по маленьким приставным лесенкам хлынули вниз, в зал. Все еще окутанные саванами, они стянули маски, и из-под жутковатых оскалов смерти показались свежие, раскрасневшиеся молодые лица – чем не способ снять напряжение последнего получаса и вернуть прежнее самообладание? Их тут же обступили со всех сторон, начали расспрашивать, хвалить. Люди обхаживали их, как канатоходцев по истечении циркового номера – всем все понравилось, и слава Господу за то, что на эту самую ниточку под куполом никому из зрителей забираться не нужно! Когда Герберт Остерманн повернулся к столу, его сердце словно пропорола ужасно острая игла – ледяная и раскаленная одновременно. Рядом с ним, на месте, освобожденном только что Рихардом Кречмером, очень тихо сидела одна из танцовщиц. Руки в хлопковых белых перчатках она скромно сложила на коленях. Ее, как и других актеров, облекал саван, но она не сняла маску-череп – и стоило ей повернуться к своему соседу, как ее глаза вмиг вспыхнули, будто пара светлячков в непроглядной чаще. Казалось, она ждала, что Герберт захочет ей что-то сказать – и после секундного смятения студенту удалось заставить себя улыбнуться и спросить, довольна ли фройляйн успехом выступления. Плясунья ответила ему скупым кивком.
– На сцене вы, должно быть, чувствовали огромное напряжение зрителей, потому что танец, вначале казавшийся попросту непрофессиональным, становился все более вольным, смелым и раскованно-артистичным, а такой вот выход за пределы ограниченных телесных проявлений возможен лишь при самом оживленном обмене энергией между сценой и зрителями… – Герберт продолжал говорить, словно мягкий сияющий взгляд задавал ему непрерывные вопросы и подталкивал рассказывать о вещах, какие никогда не пришли бы ему в голову, будь обстоятельства иными. Он попытался проанализировать и объяснить в согласии со здравым смыслом трепет, охвативший его душу, и чувствовал, что его монолог напоминает карточный стол с зеленым сукном, приемлющий от игрока последнюю надежду в качестве подношения.
– Да, это немного дико, – сказала его соседка, – исполнять роль мертвой, будучи при этом… живой.
– А эта кладбищенская музыка, – продолжал Герберт взволнованно, – эта современная музыка с ее странными модуляциями и рваными ритмами… она, кажется, была специально для того написана, чтобы слушатель ощутил весь могильный ужас! Это абсолютно нелогичная музыка, клянусь вам! Логика для музыки – гармоничность. Моцарт, например, был логичен до мозга костей. Именно поэтому его «потусторонняя тема» в ряде сцен «Дон Жуана» не передает всего ужаса… да, она пугающая, но, как бы это сказать, умышленно пугающая, а едва делается очевиден умысел – ощущению подлинного, алогичного страха приходит конец. И больше подобный эффект не трогает сердца! Странная модернистская музыка, напротив, пугает преотлично – ну, разве не абсурдна и не логична для человеческого сознания сама смерть?
– Похоже, в вас говорит врач, – произнесла соседка. Ее голос был глуховат, несколько неразборчив – будто процеженный сквозь плотную ткань, – но даже так он, очевидно, являл собой образец мелодичности. Герберт пожалел, что слышит его таким искаженным из-за этой дурацкой маски. Маска, к слову, была сработана на совесть – плясунья явно раздобыла ее не в карнавальной лавке, где плохонькие штампованные поделки отдавали за сущие гроши. Ее маску отличала своего рода художественная соразмерность. Папье-маше – бесхитростный материал, воссоздающий лица уродливых мачех-ведьм, шлюх и недалеких сельских матрон с зобом и надутыми щеками, красными носами и преувеличенными изъянами кожи, здесь был умело использован для формирования обманчиво гладких костей черепа. И череп этот был точен как по цвету, так и по структуре – напоминая реальный анатомический срез чьих-то лицевых костей. Мастер сделал имитацию до того тщательной, что в ноздрях, глазницах и над рядами зубов будто бы даже остались струпья сгнившей плоти! Но самым страшным было то, что с задней части черепа свисали до самой шеи волосы – неясно как крепящиеся к кости. Вот тут-то правдоподобие и нарушалось – раз скальпа нет, то и череп должен быть лыс, ибо волос держится в коже. Но сделавший эту маску явно понимал, до чего усилят ужасное впечатление эти безжизненно обвисшие темные патлы. Унылые пряди волос, неухоженные и грязные, выглядели так, словно их срезали с мертвого скальпа. Герберт Остерманн анализировал зрелище с вящим спокойствием, видя всю картину остро и ясно – будто в минуту большой опасности, когда вся огромная энергия человеческой души идет на утверждение границ своего «я».
– Так все-таки – вы врач? – уточнила его соседка.
– Гм… в смысле? Ну… да. Вы меня знаете?
– Да. Я вас знаю.
– Тогда снимите маску! Ваш танцевальный номер закончился. Посмотрите – другие девушки уже сняли…
Из-под края маски что-то тихо зашипело – и по легкому трепету плеч девушки студент понял, что она смеется. На ум живо пришел звук, услышанный в детстве – раздававшийся, когда торговец рыбой на базаре, куда Герберта часто водила мать, раскладывал на газете заскорузлые вяленые тушки. За этим образом возник другой – отмершие голосовые связки, иссохшие и мумифицированные, трещащие, как хвост гремучей змеи… Плясунья перестала смеяться.
– Другие девушки полагают, что маски им не к лицу. Я лишена их тщеславия и свою личину нахожу весьма уместной… Вам еще предстоит угадать, кто я такая.
– То есть мы знакомы!
Девушка порывисто приблизила свое лицо к лицу Герберта:
– О да! Снова ледяная и жгучая боль пронзила сердце. Одно еле уловимое движение, какая-то малость в незначительном повороте плеч – все это подсказало Герберту, что именно эта сидящая рядом танцовщица зацепила его внимание во время представления. Тут же слепой, неукротимый страх поставил крест на отстраненно-спокойном восприятии девушки. Свет в сознании погас. Герберт огляделся. Слева и справа коллеги переговаривались за кружками пива, подписывали открытки, поднимали тосты. Никто не обращал на них внимания, будто Герберта и его соседки вовсе не существовало. Как невыносимо!.. Резкие голоса и свет действовали донельзя угнетающе. Герберт встал.
– Если вам интересна моя компания, давайте вместе подыщем другое место, – сказал он, и плясунья тут же согласилась. Она сопроводила его в гардероб, быстро нашла нужное пальто в ворохе чужих одежек, пока Герберт копался в поисках своего. Но вот они вышли на улицу и зашагали по тонкой свежей пороше. На небе, в прорехах меж свисающими с телеграфных столбов проводами, горели звезды. Они походили на маленькие сверкающие нотки, заключенные в стан, обреченные выписывать бесконечно горькую и суровую арию вырождения небесного света в земном царстве. Герберт снял шляпу, и холод дохнул ему в затылок. Лицо и шею обсыпали мурашки. Сбоку от него стояла танцовщица, выглядевшая весьма странно из-за белой саванной простыни – плащ обрамлял эту белую хламиду на манер пары коротких черных крыльев. Рядом с ними рыскали конные экипажи; а экипажи моторные, с внезапным гудком выруливая из-за углов, отбрасывали резкие лучи света на стены домов. Порой их можно было заметить издалека – фары, два маленьких светящихся шарика в конце улицы, быстро проносились по темному тоннелю с гулкими сводами; подъезжая поближе, они обдавали Герберта и его спутницу ослепительным сиянием – и исчезали, отправляясь по своим делам, ввергая идущих назад в промозглую темноту. Изредка из какого-нибудь кафе, работавшего допоздна, доносилась танцевальная музыка; отголоски смеха звенели в ночи. Очередной карнавал выплескивал мелкие волны радости под ноги Герберту и идущей рядом девушке. Но чужая радость казалась далекой на фоне болезненного внутреннего чувства, будто окутавшего дух студента густым дымом. Они зашли в маленькое кафе, где Герберт иногда, не столько из потребности, сколько из чувства долга, сидел по получасу с газетой. На пороге ему пришло в голову, что девушке рядом с ним уместно будет избавиться от маски прямо сейчас. Этой мыслью он поделился с ней и услышал в ответ:
