О любви
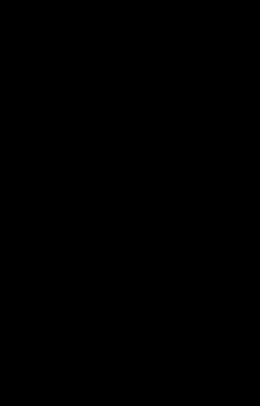
Серия «Эксклюзивная классика»
Перевод с французского Э. Браиловской
© Перевод. Э. Браиловская, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
ПРЕДИСЛОВИЕ [1]
[1] Май 1826 года. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, цифрами обозначены примеч. авт.
Данное произведение не имело никакого успеха; его сочли невразумительным, и не без оснований. Поэтому в новом издании автор прежде всего старался донести свои мысли со всей ясностью. Он поведал, как они пришли ему в голову; он написал предисловие, введение, чтобы все прояснить; и, несмотря на все эти старания, из ста читателей, прочитавших «Коринну», не найдется и четырех, которые поймут предлагаемую книгу.
Хотя этот небольшой том посвящен любви, он не является романом и – главное – он не так занимателен, как роман. Это просто точное и научное описание некоторого подобия безумия, весьма редкого во Франции. Господство приличий, каждодневно усиливающееся не столько из-за чистоты наших нравов, сколько из-за страха насмешек, превратило само слово, ставшее названием этого произведения, в термин, который избегают произносить как таковой и который может даже показаться шокирующим. Я же был вынужден употребить его, полагая, что научная строгость языка предохранит меня от любых упреков по данному поводу.
Я знаком с одним или двумя секретарями посольств, которые по возвращении смогут мне быть полезными. А до тех пор что я мог бы сказать людям, отрицающим факты, которые я описываю? Лишь попросить их не слушать меня.
Выбранную мной форму повествования можно упрекнуть в эготизме. Путешественнику позволительно сказать: «Я был в Нью-Йорке, откуда я отплыл в Южную Америку, я добрался до Санта-Фе-де-Богота. На протяжении всего пути меня донимали комары и москиты, и на три дня я лишился возможности использовать правый глаз».
Никто не обвиняет этого путешественника в том, что он чересчур охотно говорит о себе; ему прощают все эти я и меня, поскольку в такой манере доходчивее и интереснее всего рассказывать о том, что он видел.
Вот и автор настоящего путешествия в малоизвестные области человеческого сердца по мере своих сил стремится к подобной доходчивости и выразительности, когда повествует: «Я вместе с г-жой Герарди отправился в соляные копи Халляйна… Принцесса Крешенци рассказала мне в Риме… Однажды в Берлине я увидел красавца капитана Л.». Автор пятнадцать лет прожил в Германии и Италии, и все эти мелкие события действительно с ним произошли. Но, будучи скорее любопытным, нежели чувствительным, он никогда не переживал даже малейшей любовной интриги и не испытывал лично таких чувств, которые заслуживали бы того, чтобы их описывать; а если предположить, что у него были любовные интриги, способные потешить его гордыню, то куда более сильная гордость, чувство иного порядка, вряд ли позволила бы ему отдавать в печать то, что у него на сердце, продавая это публике за шесть франков, подобно тем людям, которые издают свои мемуары при жизни.
Когда в 1822 году автор делал правку этого своеобразного морального путешествия по Италии и Германии, где описывал те или иные предметы в тот день, когда он их видел, к рукописи, содержащей подробное изложение всех стадий болезни души под названием любовь, он относился с тем слепым почтением, какое ученый XIV века проявлял к только что найденному манускрипту Лактанция или Квинта Курция. Когда автор наталкивался на какой-то труднораспознаваемый отрывок, а это, по правде говоря, с ним частенько случалось, он всегда винил свое тогдашнее я. Он признается, что его почтение к древней рукописи дошло до того, что он напечатал несколько отрывков, которые сам уже не понимает. Нет ничего безрассуднее для того, кто хоть немного задумался бы об одобрении публики; но автор, вернувшись в Париж после долгих странствий, считал невозможным добиться успеха, не угодничая перед газетчиками. Однако раз уж приходится прибегать к угодливости, то лучше приберечь ее для первого министра. Так как о том, что называется успехом, не могло быть и речи, автор развлекал себя тем, что публиковал свои мысли именно в том виде, в каком они к нему приходили. Так же в прошлом поступали греческие философы, чья практическая мудрость приводит его в восхищение.
Чтобы проникнуть в частную жизнь итальянского общества, нужны годы. Похоже, мне довелось стать последним путешественником по этой стране. Со времен карбонаризма и австрийского нашествия в салонах, где когда-то царило безудержное веселье, ни одного чужеземца уже не примут в качестве друга. Он увидит памятники, улицы, городские площади, но никоим образом не сумеет вникнуть в жизнь общества; иностранец всегда будет вызывать страх; местные жители заподозрят в нем шпиона, или у них возникнут опасения, а вдруг он насмехается над битвой при Антродоко и над теми низостями, к которым тут прибегают и без которых немыслима жизнь в этой стране, чтобы избегнуть преследования со стороны восьми или десяти министров и фаворитов, окружающих правителя. Я очень хорошо относился к местным жителям и мне удалось разглядеть правду. Порой я по десять месяцев подряд не произносил ни слова по-французски, и, если бы не беспорядки и карбонаризм, я бы никогда не вернулся во Францию. Добродушие – вот что я ценю превыше всего.
Несмотря на все мои усилия быть ясным и понятным, я не могу творить чудеса; я не могу вернуть слух глухим или зрение слепым. Так, люди, приверженные деньгам и грубым радостям, заработавшие сто тысяч франков за год, предшествовавший тому моменту, когда они открывают эту книгу, должны очень быстро ее закрыть, особенно если они банкиры, фабриканты, респектабельные промышленники, то есть люди с исключительно позитивным мышлением. Более понятной эта книга оказалась бы для того, кто выиграл большие деньги на бирже или в лотерею. Такой выигрыш вполне сочетается с привычкой проводить целые часы в мечтаниях, наслаждаясь эмоциями, которыми вас одаряют картины Прюдона, музыкальные фразы Моцарта или какой-то особенный взгляд женщины, о которой вы часто думаете. Люди, в конце каждой недели выдающие зарплату двум тысячам рабочих, тратят свое время не так; их ум всегда направлен на нечто полезное и позитивное. Они воспылали бы ненавистью к упомянутому мною мечтателю, если бы располагали на то досугом; именно его они охотно сделали бы объектом своих насмешек. Миллионер-промышленник смутно ощущает, что такой человек ставит идею выше мешка с тысячей франков.
Я отвергаю и того прилежного юношу, который в тот самый год, когда промышленник зарабатывал сто тысяч франков, овладел новогреческим языком, чем он так гордится, что уже нацеливается на изучение арабского. Я прошу не открывать эту книгу любого человека, который не был несчастен из-за воображаемых, не имеющих никакого отношения к тщеславию причин, которые ему было бы очень стыдно предавать огласке в салонах.
Я совершенно уверен, что вызову недовольство у тех женщин, которые в этих же салонах решительно завладевают вниманием посредством своего постоянного жеманства. Некоторых мне удалось застать врасплох: они были искренне потрясены тем, что, проверяя себя, уже не могли определить, было ли только что выраженное ими чувство естественным или притворным. Как могут такие женщины судить об изображении истинных чувств? Поэтому данное произведение стало для них жупелом; они сказали, что автор, должно полагать, человек недостойный.
Внезапно краснеть, вспоминая некоторые поступки своей юности; совершать глупости по нежности сердца и горевать о них, не потому, что ты был смешон в глазах многочисленных завсегдатаев салона, а потому, что показался смешным в глазах определенной особы, находившейся в этом салоне; в двадцать шесть быть искренне влюбленным в женщину, любящую другого, или еще (но это такая редкость, что я едва осмеливаюсь написать об этом, опасаясь снова впасть в невразумительность, как в первом издании) входя в салон, где оказалась женщина, которую мы, как нам кажется, любим, думать только о том, чтобы прочитать в ее глазах то, что она в данный момент думает о нас, и не иметь никакого понятия о том, чтобы вложить любовь в наши собственные взоры: такой опыт я потребую от моего читателя. Людям с позитивным мышлением представилось неясным описание многих из этих тонких и редких ощущений. Как мне стать понятным для них? Объявить им о повышении на бирже на пятьдесят сантимов или об изменении таможенного тарифа в Колумбии [2]?
[2] Мне говорят: «Уберите этот отрывок, он слишком правдивый; но берегитесь промышленников; они будут кричать, что вы аристократ». В 1817 году я не побоялся генеральных прокуроров; почему же в 1826 году я должен бояться миллионеров? Корабли, поставленные паше Египта, открыли мне глаза на их счет, а боюсь я лишь тех, кого уважаю.
В предлагаемой книге просто, разумно, так сказать, математически, объясняются различные чувства, которые сменяют друг друга и совокупность которых называется любовной страстью.
Представьте себе довольно сложную геометрическую фигуру, начертанную белым мелком на большой грифельной доске: итак, я собираюсь объяснить особенности этой геометрической фигуры; но необходимым условием является то, что она должна уже существовать на грифельной доске; я не могу начертить ее сам. Из-за подобного противоречия становится чрезвычайно трудно писать о любви книгу, не являющуюся романом. Чтобы с интересом следить за философским исследованием этого чувства, от читателя требуется нечто иное, нежели ум; совершенно необходимо, чтобы ему довелось увидеть любовь. И где же можно увидеть страсть?
Вот коллизия, которую я никак не смогу устранить.
Любовь подобна так называемому Млечному Пути на небе, яркому скоплению, образованному множеством маленьких звезд, каждая из которых нередко представляет собой туманность. В книгах описано четыреста или пятьсот мелких, сменяющихся и труднораспознаваемых чувств, которые мимикрируют под эту страсть, и самых непристойных, и заблуждающихся, зачастую принимающих второстепенное за главное. Лучшие из этих книг, такие как «Новая Элоиза», романы г-жи Котен, «Письма» м-ль де Леспинас, «Манон Леско», были написаны во Франции, стране, где растение по имени любовь всегда боится насмешек, подавлено требованиями национальной страсти – тщеславия, и почти никогда не достигает своей истинной высоты.
Так что же значит – познавать любовь с помощью романов? Неужели тем, кто прочел описание любви в сотнях известных романов, но никогда ее не испытывал, останется лишь искать объяснение этого безумия в предлагаемой книге? Я отвечу, как эхо: «Это безумие».
Бедная разочарованная молодая женщина, желаете ли вы снова насладиться тем, что так занимало вас несколько лет назад, о чем вы не смели ни с кем говорить и что едва не лишило вас чести? Именно для вас я переделал эту книгу и постарался сделать ее более понятной. Сначала прочтите ее, а затем всегда бросайте в ее адрес короткую презрительную фразу, и засуньте ее в ваш книжный шкаф из лимонного дерева позади других книг; я бы даже посоветовал вам оставить несколько страниц неразрезанными.
Для несовершенного существа, возомнившего себя философом, дело не ограничится лишь несколькими неразрезанными страницами, оттого что ему всегда были чужды те безумные эмоции, которые все наше счастье в течение целой недели ставят в зависимость от одного взгляда. Иные, достигнув зрелого возраста, решительно намереваются позабыть о том, как однажды они могли опуститься до такой степени, чтобы ухаживать за женщиной и подвергать себя унижению отказа; эта книга вызовет их ненависть. Среди множества умных людей, порицавших это произведение по разным причинам, но всегда гневно, смешными мне показались только те, которые проявляют двойное тщеславие – они утверждают, что всегда стояли выше слабостей сердца, и при этом считают, будто обладают достаточной проницательностью, чтобы судить априори о степени точности философского трактата, который является лишь последовательным описанием всех этих слабостей.
Серьезные особы, пользующиеся в свете репутацией людей мудрых и отнюдь не романтичных, стоят гораздо ближе к пониманию романа, какие бы страсти он ни разжигал, нежели философской книги, где автор холодно описывает различные стадии болезни души под названием любовь. Роман способен их немного растрогать; но что касается философского трактата, эти мудрые люди подобны слепцам, которым зачитали описание картин в музее и которые затем скажут автору: «Признайтесь, сударь, что произведение ваше ужасно непонятное». И что произойдет, если эти слепцы окажутся острословами, которые с давних пор обладают этим званием и решительно претендуют на право быть прозорливыми? Бедному автору порядком достанется. Именно это и произошло с ним, когда вышло первое издание. К настоящему времени несколько экземпляров уже сожжены яростным огнем тщеславия некоторых записных острословов. Я уже не говорю об оскорблениях, в равной степени яростных и лестных: автора объявили грубым, безнравственным, пишущим для простонародья, опасным человеком и так далее. В странах, изнуренных монархией, подобные титулы – вернейшая награда тому, кто вздумает писать о морали и не посвятит свою книгу современной госпоже Дюбарри. Сколь благословенной была бы литература, если бы она не становилась модной и ею хотели бы заниматься только те люди, для которых она предназначена! Во времена «Сида» Корнель был всего лишь добряком для маркиза Данжо[1]. Сегодня все мнят себя способными читать г-на де Ламартина; тем лучше для его книгопродавца; но тем хуже, во сто крат хуже, для этого великого поэта. В наши дни гений вынужден церемониться с такими существами, о которых ему не должно бы и помышлять из-за угрозы унизить себя.
Активная, почтенная, позитивная трудовая жизнь государственного советника, владельца фабрики хлопчатобумажных тканей или банкира, бойко управляющегося с кредитами, вознаграждается миллионами, а не нежными впечатлениями. Мало-помалу сердца этих господ окостеневают; во главу угла своей жизни они ставят положительное и полезное, и души их закрываются для того из всех чувств, которое более всего нуждается в досуге и которое делает человека неспособным к какому бы то ни было разумному и последовательному занятию.
Данное предисловие призвано показать, что книга эта имеет несчастье быть понятой только теми, кто сумел отыскать свободное время на то, чтобы побезумствовать. Многие сочтут себя оскорбленными, и я надеюсь, что до чтения у них дело не дойдет.
ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ [3]
[3] Май 1834 года.
Пишу я для какой-нибудь сотни читателей, и из тех несчастных, милых, очаровательных, совершенно не лицемерных, совершенно не нравственных существ, которым я хотел бы угодить, я знаю не более одного или двух. Я не придаю никакого значения тому, чтобы заслужить уважение как писатель у тех, кто привык лгать. Подобным богато одетым дамам надлежит читать счета своей кухарки и модного сочинителя проповедей, зовется ли он Массильоном или г-жой Неккер, чтобы иметь возможность поговорить о них с теми серьезными женщинами, которые руководят общественным уважением. И надо заметить, что таким прекрасным чином во Франции всегда жалуют тех, кто становится верховным жрецом какой-нибудь глупости.
«Были ли в вашей жизни несчастливые полгода из-за любви?» – сказал бы я тому, кто захочет прочесть эту книгу.
Или же душа ваша не испытывала в жизни иного несчастья, кроме мысли о судебном процессе или о том, что на последних выборах вас не выдвинули в депутаты, или о том, что в последний сезон на водах в Эксе вас сочли менее остроумным, нежели обычно, – тогда я продолжу свои бестактные вопросы и спрошу вас, прочли ли вы в текущем году какое-нибудь из тех дерзких произведений, которые заставляют читателя задуматься? Например, «Эмиля» Ж.-Ж.Руссо или шесть томов Монтеня? А если вы никогда не были несчастны из-за этой слабости сильных душ, если у вас нет противоестественной привычки думать во время чтения, книга эта вызовет у вас раздражение по отношению к автору; ибо она заставит вас заподозрить, что существует некое счастье, о котором не знаете вы, но о котором знала мадемуазель де Леспинас.
ТРЕТЬЕ ПРЕДИСЛОВИЕ[2]
Я настойчиво прошу читателя о снисхождении к своеобразной форме этой «Физиологии любви».
Двадцать восемь лет назад (отсчитывая от 1842 года) потрясения, последовавшие за падением Наполеона, лишили меня моего положения. Двумя годами ранее, тотчас после ужасов отступления из России, случай забросил меня в один милый город, где я намеревался провести остаток своих дней, и мысль об этом приводила меня в восторг. В радостной Ломбардии, в Милане, в Венеции главное или, вернее сказать, единственное дело жизни – удовольствие. Там люди не обращают внимания на поведение соседа; всех мало волнует то, что происходит с вами. Если кто-то и замечает существование своего соседа, то не помышляет о том, чтобы его возненавидеть. Во Франции в провинциальном городке нечем заняться, кроме зависти. Уберите ее – и что останется? Отсутствие, невозможность жестокой зависти являет собой несомненный элемент благополучия, влекущего всех провинциалов в Париж.
Вслед за маскарадами масленицы 1820 года, более блистательными, чем обычно, миланское общество стало свидетелем пяти или шести совершенно безумных мероприятий; в этой стране привыкли к тому, что во Франции сочли бы невероятным, притом что занимались этим целый месяц. У нас из-за страха насмешек вряд ли кто-то решился бы на столь невероятные поступки; мне понадобится изрядная смелость, чтобы отважиться о них заговорить.
Однажды вечером, когда мы углубились в рассуждения о последствиях и причинах таких сумасбродств в доме любезной г-жи Пьетрагруа, которая удивительнейшим образом оказалась не замешана ни в одном из подобных безрассудств, я подумал, что, возможно, не пройдет и года, как у меня останутся лишь неясные воспоминания об этих странных поступках и о приписываемых им поводах. Я схватил концертную программку и записал на ней несколько слов карандашом. Собравшиеся затеяли игру в фараон; вокруг зеленого стола уселись тридцать человек, однако беседа сделалась настолько оживленной, что мы позабыли о картах. К концу вечера появился полковник Скотти, один из самых приятных служивых итальянской армии; мы расспросили его об обстоятельствах, связанных с занимавшими нас диковинными событиями; он сообщил нам многие детали, по-новому осветившие те факты, о которых он узнал по воле случая в качестве доверенного лица. Я вновь взял свою концертную программку и добавил новые подробности.
Собирание характерных особенностей любви было продолжено в том же духе, карандашом и на клочках бумаги, взятых из гостиных, где при мне рассказывали любопытные случаи из жизни. Вскоре я уже пытался отыскать некий общий закон, дабы распознавать различные уровни любви. Два месяца спустя из-за страха, что меня примут за карбонария, я вынужден был вернуться в Париж, как я думал, всего на несколько месяцев; но мне никогда больше не довелось увидеть Милан, где я провел семь лет.
В Париже я умирал от скуки. У меня возникла идея снова заняться той милой страной, из которой меня изгнал страх; я сложил свои листки в пачку и подарил тетрадь одному книготорговцу; но вскоре возникло затруднение; владелец типографии заявил, что невозможно работать с заметками, написанными карандашом. Я прекрасно понимал, что он считал ниже своего достоинства набирать такую рукопись. Молодой подмастерье типографа, вернувший мне мои заметки, казался очень смущенным, оттого что ему поручили передать нелестный отзыв. Он умел писать: я стал диктовать ему свои заметки, сделанные карандашом.
Я также понимал, что благоразумие требует от меня изменить имена собственные и, прежде всего, сократить забавные истории. Хотя в Милане почти не читают, книга эта, если бы ее туда завезли, могла показаться язвительно-злобной.
Итак, я опубликовал эту злополучную книгу. Возьму на себя смелость признаться, что в то время я имел наглость презирать изящный стиль. Я видел, как молодой подмастерье старался избегать недостаточно звонких окончаний фраз и последовательностей слов, образующих причудливое звучание. С другой стороны, он при каждом удобном случае норовил изменить фактические обстоятельства, трудно поддающиеся формулированию: сам Вольтер боится понятий, которые трудно выразить словами.
«Эссе о любви» могло представлять ценность благодаря множеству мельчайших оттенков чувств, которые я просил читателя сверить со своими воспоминаниями, если ему посчастливилось таковые иметь. Но в итоге все сложилось гораздо хуже: на тот момент, как, впрочем, и всегда, я был очень неопытен в литературных делах; книготорговец, которому я подарил рукопись, напечатал ее на скверной бумаге и в неудачном формате. Кроме того, по прошествии месяца, когда я спросил, как дела с книгой, он мне ответил: «Она словно проклята – никто к ней не прикасается».
Мне даже в голову не приходило хлопотать о статьях в газетах; это показалось бы недостойным. Между тем, ни одно произведение столь настоятельно не нуждалось в том, чтобы рекомендовать его терпеливому читателю. Существовала угроза с первых же страниц показаться непонятным, и нужно было убедить публику принять новое слово кристаллизация, предложенное мною с целью глубоко отразить ту совокупность причудливых фантазий, которые представляются реальными и даже неоспоримыми, когда речь заходит о любимом человеке.
В ту пору я с таким восхищением смаковал малейшие обстоятельства, только что подсмотренные в обожаемой мною Италии, что старательно уклонялся от любых уступок, от любой стилистической привлекательности, способных сделать «Эссе о любви» менее вычурным в глазах литераторов.
К тому же я не угождал публике; то было время, когда литература, уязвленная нашими еще свежими в памяти великими бедами, казалось, не имела иного занятия, кроме как тешить наше задетое тщеславие; в ней слава была синонимом победы, а воины олицетворяли лавры и так далее. Скучная литература этого периода, судя по всему, никогда не стремилась установить истинные обстоятельства тех сюжетов, которые она бралась разрабатывать; ей нужен был лишь повод похвалить народ, ставший рабом моды, народ, который некий великий человек назвал великой нацией, забыв, что великой она была лишь при условии, что он оставался ее вождем.
Итогом моего незнания критериев даже самого скромного успеха стало то, что с 1822 по 1833 год у меня нашлось всего семнадцать читателей, а за двадцать лет после выхода из печати «Эссе о любви» с трудом наберется сотня любознательных людей, сумевших его понять. У некоторых хватило терпения понаблюдать за различными стадиями подобной болезни у окружающих их страдальцев; ибо, чтобы понять ту страсть, которая в течение тридцати лет так тщательно скрывалась среди нас из-за страха быть осмеянной, мы должны говорить о ней как о болезни; только так ее удается порой излечить.
На самом деле, после полувека переворотов, поочередно занимавших все наше внимание, после пяти полных перемен в форме и ориентации наших правительств, революция только сейчас коснулась наших нравов. Любовь, или то, что чаще всего заменяет ее, присваивая ее имя, во Франции при Людовике XV была всесильной: придворные дамы производили в звание полковника, и такая должность считалась одной из самых престижных в стране. По прошествии пятидесяти лет двора больше нет, а наиболее влиятельные женщины в среде господствующей буржуазии или обиженной аристократии уже не смогли бы добиться и открытия табачной лавки в самом захолустном местечке.
Необходимо признать, что женщины больше не в моде; в наших блестящих салонах двадцатилетние молодые люди нарочито с ними не заговаривают; они предпочитают толпиться вокруг непристойного болтуна, слушая, как тот с провинциальным акцентом понимает вопрос о способностях, и пытаются ввернуть свое слово. Богатые молодые люди, которые стараются выглядеть фривольными, словно становясь продолжателями традиций хорошего общества прежних времен, скорее предпочитают говорить о лошадях и вести крупную игру в клубах, куда женщины не допускаются. Так пусть же губительное хладнокровие, присущее отношениям молодых мужчин с двадцатипятилетними женщинами, которых скука брака вновь возвращает в общество, побудит некоторых мудрых людей благосклонно принять это скрупулезно точное описание последовательных стадий болезни, называемой любовью.
Ужасная перемена, повергшая нас в нынешнее уныние и сделавшая для нас непонятным общество 1778 года в том виде, в каком мы его обнаруживаем в письмах Дидро к м-ль Волан, его возлюбленной, или в мемуарах г-жи д'Эпине, заставляет задуматься, которое из наших сменявших друг друга правительств убило в нас умение веселиться и приблизило нас к самому мрачному народу на земле. У нас даже не получается подражать их парламенту и их партийной честности – вот все приемлемое, что они изобрели. Зато глупейшая из их мрачных выдумок – чопорность – заменила нашу французскую веселость, которая уже почти нигде не встречается, кроме как на пяти сотнях балов в пригородах Парижа или на юге Франции, за Бордо.
Которому же из наших сменявших друг друга правительств мы обязаны такой ужасной бедой как англизация? Стоит ли винить энергичное правительство 1793 года, которое не позволило иностранцам временно разместиться на Монмартре? Оно же через несколько лет покажется нам героическим и его деятельность станет достойной прелюдией к работе того правительства, которое при Наполеоне пронесет наше имя по всем столицам Европы.
Мы забудем о благонамеренной глупости Директории, наглядными примерами которой являются таланты Карно и бессмертная Итальянская кампания 1796–1797 годов.
Испорченность нравов при дворе Барраса еще напоминала о веселости старого режима; привлекательность г-жи Бонапарт показывала, что в ту пору у нас не было никакой предрасположенности к угрюмости и высокомерию англичан.
Глубокое уважение к образу правления первого консула, которое мы не сумели преодолеть в себе, невзирая на зависть Сен-Жерменского предместья, а также исключительно достойные люди, прославившие тогда парижское общество, такие как Крете, Дарю и им подобные, не позволяют нам возлагать на Империю ответственность за ту значительную перемену, которая произошла во французском национальном характере в течение первой половины XIX века.
Нет смысла дальше продолжать мой обзор: читатель поразмыслит и сам сделает правильный вывод…
Книга первая
Глава I
О любви
Я пытаюсь осмыслить это страстное чувство, все искренние проявления которого носят отпечаток красоты.
Есть четыре типа любви:
1. Страстная любовь: такова любовь португальской монахини, любовь Элоизы к Абеляру, любовь капитана из Везеля, любовь жандарма из Ченто [4].
[4] Друзья господина Бейля часто спрашивали его, кто такие эти капитан и жандарм; он отвечал, что позабыл их историю. П.М.
2. Манерная любовь: такая любовь господствовала в Париже около 1760 года, ее можно найти в мемуарах и романах того периода, у Кребильона, Лозена, Дюкло, Мармонтеля, Шамфора, г-жи д'Эпине и так далее, и так далее.
Это некая картина, где все, вплоть до теней, должно быть окрашено в розовый цвет, куда ни под каким предлогом не должно проникать ничего неприятного, иначе речь зайдет о неумении держать себя в обществе, о дурных манерах, о бестактности и так далее. Человек благородного происхождения знает заранее все приемы, которые ему надлежит использовать и с которыми ему придется столкнуться на различных стадиях такой любви; в ней нет никакого пыла и неожиданности, изящества в ней нередко больше, чем в истинной любви, ибо в ней всегда много ума; это сдержанная и красивая миниатюра по сравнению с картинами братьев Карраччи; страстная любовь отрешает нас от всех наших интересов, тогда как манерная любовь умело к ним приспосабливается. Правда, если отнять у этой скудной любви тщеславие, от нее мало что останется; лишившись тщеславия, она уподобляется выздоравливающему, ослабевшему до такой степени, что он едва может передвигаться.
3. Физическая любовь.
Погоня за красивой и свежей крестьянкой, убегающей в лес. Всем знакома любовь, основанная на такого рода удовольствии; каким бы черствым и жалким ни был человек, именно с этой охотничьей радости он начинает в шестнадцать лет.
4. Тщеславная любовь.
Подавляющее большинство мужчин, особенно во Франции, желают обладать той женщиной, которая в моде, и владеют ею как красивой лошадью, как необходимым атрибутом роскоши молодого человека. Более или менее услаждаемое и подстегиваемое тщеславие способно породить восторженный порыв. Порой тут присутствует и физическая любовь, но не всегда; частенько нет даже физического удовольствия. «Для буржуа герцогине всегда тридцать лет», – говорила герцогиня де Шольн; а люди, близкие ко двору такого справедливого человека, как король Людовик Голландский, до сих пор весело вспоминают одну хорошенькую женщину из Гааги, которая решалась прельститься мужчиной лишь в том случае, если тот был герцогом или принцем. Однако, едва при дворе появлялся принц, она, будучи верной монархическому принципу, тотчас давала отставку герцогу, тем самым олицетворяя собой награду за добросовестную дипломатическую службу.
Самая благоприятная ситуация для этих пошлых отношений складывается тогда, когда физическое удовольствие усиливается привычкой. В таком случае, благодаря воспоминаниям, они становятся немного похожими на любовь; когда человека бросают, он ощущает укол самолюбия и тоску; идеи, почерпнутые из романов, угнетают его, и он мнит себя влюбленным и печальным, так как тщеславие стремится считать себя великой страстью. Несомненным является то, что какому бы типу любви мы ни были обязаны наслаждениями, как только к ним примешивается восторженность души, они становятся яркими, а воспоминания о них – волнующими; в этой страсти, в отличие от большинства других, воспоминание о том, что утрачено, всегда кажется ценнее того, что стоит ждать от будущего.
Иногда привычка или отчаяние от невозможности обрести нечто большее превращают тщеславную любовь в своего рода дружбу, причем в наименее приятную из всех ее видов; она похваляется своей надежностью и так далее [5].
[5] Известный разговор Пон де Вейля и г-жи дю Деффан у камина[3].
Физическое удовольствие, заложенное в природе человека, знакомо каждому, однако для нежных и страстных душ оно стоит далеко не на первом месте. Пусть такие души высмеиваются в салонах, пусть светские люди своими интригами часто делают их несчастными, зато им ведомы наслаждения, совершенно недоступные сердцам, способным трепетать лишь из-за тщеславия или денег.
Некоторые добродетельные и нежные женщины почти не имеют представления о физических удовольствиях; они, если можно так выразиться, редко им предаются, и даже когда это случается, порывы страстной любви почти заставляют их забыть о телесных наслаждениях.
Есть мужчины, ставшие жертвами и орудиями адской гордыни в духе Альфьери. Эти люди, возможно, потому и жестоки, что, подобно Нерону, всегда чего-то страшатся, судя обо всех других по собственному сердцу, такие люди могут достичь физического удовольствия лишь в той мере, в какой оно сопровождается максимально возможным услаждением гордыни, то есть в той мере, в какой они изощряются в жестокости по отношению к спутнице своих забав. Отсюда и ужасы «Жюстины». Иначе этим мужчинам не обрести чувство уверенности.
Впрочем, вместо того чтобы различать четыре типа любви, вполне возможно допустить восемь или десять ее разновидностей. Может статься, у людей столько же образов чувствования, сколько образов мышления; однако различия в их определении ничего не меняют в последующих рассуждениях. Все любовные чувства, которые доводится наблюдать в этом мире, рождаются, живут и умирают либо достигают бессмертия, подчиняясь одним и тем же законам [6].
[6] Эта книга – вольный перевод итальянской рукописи г-на Лизио Висконти, в высшей степени достойного молодого человека, недавно умершего у себя на родине, в Вольтерре. В день своей нежданной кончины он разрешил переводчику опубликовать свое эссе «О любви», если тот найдет способ привести его в приемлемый вид.
Кастильон-Фьорентино, 10 июня 1819 года.
Глава II
О зарождении любви
Вот что происходит в душе:
1. Восхищение.
2. Нам приходит в голову: «Как приятно целовать ее и получать ответные поцелуи! и так далее».
3. Надежда.
Мы учимся видеть совершенства; ради получения максимально возможного физического удовольствия женщине следовало бы сдаваться именно в этот момент. Даже у самых сдержанных женщин в миг надежды горят глаза; страсть настолько сильна, наслаждение настолько интенсивно, что оно проявляется весьма ярко.
4. Любовь зародилась.
Любить – это иметь удовольствие видеть, осязать и ощущать всеми органами чувств, и как можно ближе, предмет любви, который любит нас.
5. Начинается первая кристаллизация [7].
[7] Более подробное объяснение этого слова см. в «Зальцбургской ветке» (неопубликованный фрагмент) в конце книги.
Мы находим удовольствие в том, чтобы украшать множеством совершенств женщину, в любви которой уверены; мы с бесконечным самодовольством представляем свое счастье во всех подробностях. Все сводится к тому, что мы преувеличиваем то прекрасное достояние, которое только что свалилось на нас с неба, мы ничего в нем не смыслим, однако обладание им кажется нам гарантированным.
Дайте мыслям влюбленного побродить в течение суток, и вот что вы обнаружите.
В соляных копях Зальцбурга в заброшенные глубины шахты бросают ветку дерева, сбросившую листья к зиме; когда через два-три месяца ее достают, она покрыта блестящими кристаллами: мельчайшие ответвления, не крупнее лапки синицы, украшены бесчисленным множеством изменчивых и ослепительных алмазов; простая ветка становится неузнаваемой.
То, что я называю кристаллизацией, есть работа ума, который во всем, что предстает перед ним, открывает новые совершенства предмета своей любви.
Путешественник рассказывает о тенистой прохладе апельсиновых рощ в Генуе, на берегу моря, в жаркие летние дни: какое наслаждение вкушать эту тенистую прохладу вместе с любимой!
Один из ваших друзей ломает руку на охоте: как приятно получать заботливый уход от любимой женщины! Быть всегда рядом с ней и видеть, как она неустанно проявляет к вам любовь – так боль становится чуть ли не благословением; и, начав рассуждения со сломанной руки вашего друга, вы уже готовы поверить в ангельскую доброту вашей возлюбленной. Одним словом, достаточно подумать о том или ином достоинстве, чтобы узреть его в любимом существе.
Это явление, которое я позволяю себе назвать кристаллизацией, проистекает из природы, повелевающей нам получать удовольствие и заставляющей кровь приливать к нашему головному мозгу от ощущения того, что мимолетные удовольствия усиливаются благодаря достоинствам предмета любви и от мысли: «она – моя». У дикаря нет времени продвинуться дальше первого шага. Он получает удовольствие, но активность его головного мозга используется для преследования убегающей в лес лани, с помощью мяса которой он должен как можно скорее укрепить свои силы, чтобы не попасть под секиру врага.
Определенно есть и другая крайность цивилизации, когда нежная женщина доходит до того, что ощущает физическое удовольствие только с тем мужчиной, которого она любит [8]. В противоположность дикарю. Но у цивилизованных народов женщина располагает досугом, дикарь же настолько поглощен своими делами, что вынужден обращаться со своей женщиной, как с вьючным животным. У многих видов животных самки оказываются счастливее, поскольку пропитание самцов обеспечивается с большей легкостью.
[8] Такая особенность не обнаруживается у мужчины, так как у него нет стыдливости, которой приходится пожертвовать ради одного мгновения.
Однако оставим леса и вернемся в Париж. Страстный человек видит в любимом существе все мыслимые достоинства; между тем его внимание еще может рассеяться, ибо душа пресыщается любым однообразием, даже идеальным счастьем [9].
[9] Это означает, что один способ проявления любви дает только одно мгновение идеального счастья; но манера действий страстного человека меняется по десять раз в день.
Вот что происходит, когда кто-то овладевает нашим вниманием:
6. Зарождается сомнение.
После того, как десять или двенадцать взглядов или любой другой ряд действий, которые могут длиться как мгновение, так и несколько дней, сначала вселили надежду, затем укрепили ее, влюбленный, оправившись от первоначального изумления и привыкнув к своей радости, или руководствуясь теорией, которая всегда основывается на наиболее частых случаях и потому касается только доступных женщин, – влюбленный, смею вас уверить, теперь потребует более надежных гарантий и захочет ускорить достижение своего счастья.
Если он выказывает излишнюю самоуверенность, ему противопоставляют равнодушие [10], холодность или даже гнев; во Франции – нотку иронии, которая как бы говорит: «Вы возомнили, что продвинулись дальше, чем это есть на самом деле». Женщина ведет себя так либо потому, что пробуждается после минутного упоения и повинуется стыдливости, нормы которой она с трепетом нарушила, либо просто из осторожности или кокетства.
[10] То, что в романах XVII века называлось внезапным ударом в сердце, определяющим судьбу героя и его возлюбленной, есть движение души, опошленное бесконечным числом писак, но все-таки существующее в природе; оно возникает из-за невозможности держать оборону. Любящая женщина настолько преисполнена счастьем от переживаемого ею чувства, что не в состоянии успешно притворяться; ей надоедает благоразумие, она пренебрегает всеми мерами предосторожности и слепо отдается радости любви. Недоверие делает внезапный удар в сердце невозможным.
Влюбленный начинает сомневаться в счастье, которого он ожидал; он со всей строгостью пересматривает основания для надежды, которые ему представлялись реальными.
Он хочет переключиться на другие радости жизни, но обнаруживает их утрату. Им овладевает страх перед ужасным несчастьем, а вместе с ним появляется и пристальное внимание.
7. Вторая кристаллизация.
Затем начинается вторая кристаллизация, производящая в качестве алмазов подтверждения следующей мысли:
«Она меня любит».
Ночью, наступившей после зарождения сомнений и ожидания мига страшного несчастья, влюбленный каждые четверть часа говорит себе: «Да, она меня любит»; кристаллизация переходит в открытие новых прелестей; затем его одолевает сомнение, чей растерянный взор внезапно останавливает его. У него перехватывает дыхание в груди; он задумывается: «А любит ли она меня?» Делая выбор между этими мучительными и сладостными вариантами, бедный влюбленный с особой остротой чувствует: «Она одарит меня наслаждением, которое способна дать лишь она одна во всем мире».
Именно в очевидности этой истины, в этом пути по самому краю страшной пропасти, когда идешь, почти прикасаясь рукой к идеальному счастью, и состоит превосходство второй кристаллизации над первой.
Влюбленный беспрестанно блуждает между тремя идеями:
1. В ней соединились все совершенства.
2. Она любит меня.
3. Как добиться от нее величайшего из возможных доказательств любви?
Самый мучительный миг незрелой любви – когда влюбленный осознает, что сделал ложный вывод и что приходится разрушать целый слой кристаллов.
Он готов усомниться в самой кристаллизации.
Глава III
О надежде
Для зарождения любви достаточно лишь малой толики надежды.
Надежда может ускользнуть через два-три дня, тем не менее, любовь уже родилась.
При решительном, безрассудном, порывистом характере и воображении, развитом жизненными невзгодами, толика надежды может быть меньшей.
Она может иссякнуть раньше, не убивая любовь.
Если влюбленный пережил злоключения, если он мягкого и задумчивого нрава, если он разуверился в других женщинах, если в нем живо восхищение избранницей, то никакое заурядное удовольствие не в силах будет отвлечь его от второй кристаллизации. Он предпочтет мечтать о самом сомнительном шансе когда-нибудь ей понравиться, нежели получить от обычной женщины все, что она может дать.
Именно в это время, а не позже, заметьте, он даже может нуждаться в том, чтобы любимая женщина каким-то жестоким образом убила в нем надежду и публично облила его таким презрением, которое уже не позволяет снова появляться в свете.
Зарождение любви допускает весьма длительные промежутки времени между всеми этими этапами.
От людей холодных, флегматичных, осторожных оно потребует куда большей надежды, причем несокрушимой. То же самое касается и пожилых людей.
Продолжительность любви обеспечивается второй кристаллизацией, в ходе которой с каждым мигом все яснее высвечивается необходимость быть любимым или умереть. После такой ежеминутной убежденности, превращенной в привычку несколькими месяцами любви, как можно вынести саму мысль о том, чтобы перестать любить? Чем сильнее у человека характер, тем менее он склонен к непостоянству.
Вторая кристаллизация почти полностью отсутствует в любовных переживаниях, вызванных женщинами, которые сдаются слишком быстро.
После воздействия обеих кристаллизаций, особенно второй, гораздо более сильной, равнодушные глаза перестают узнавать ветку дерева.
Ибо, во‑первых, она украшена совершенствами или алмазами, которых они не видят; во‑вторых, она украшена совершенствами, которые для них таковыми не являются.
Совершенство некоторых прелестей, о которых говорит ему старый друг его красавицы, и некая живость, замеченная в ее взгляде, также являют собой алмаз кристаллизации [11] в духе Дель Россо. Подобные мысли, промелькнувшие вечером, заставляют его мечтать всю ночь напролет.
[11] Я назвал это эссе идеологической книгой. Моя цель состояла в том, чтобы указать, что, хотя она и называется «Любовь», это не роман и, главное, в ней нет занимательности, свойственной роману. Я прошу прощения у философов за то, что использовал слово «идеология»: в мои намерения никоим образом не входило присваивать термин, который по праву принадлежит другим. Если идеология представляет собой подробное описание идей и всех частей, из которых они могут состоять, то эта книга есть подробное и скрупулезное описание всех чувств, из которых состоит страсть, называемая любовью. Затем из этого описания я делаю некоторые выводы, например, о том, как исцелиться от любви. Я не знаю, как по-гречески сказать «рассуждение о чувствах», подобно тому, как идеология обозначает рассуждение об идеях. Я мог бы попросить кого-то из моих ученых друзей придумать для меня соответствующее слово, но я и так уже чрезвычайно раздосадован тем, что мне пришлось взять на вооружение новое слово кристаллизация, и вполне вероятно, что если это эссе обретет читателей, то они не простят мне этого нового слова. Признаюсь, я мог бы избежать его, применив свой литературный талант; я пытался, но безуспешно. Без этого слова, которое, на мой взгляд, выражает главный феномен безумия, именуемого любовью, безумия, при этом доставляющего человеку величайшие наслаждения, какие только дано испытать на земле существам его вида, без употребления этого слова, которое приходилось бы постоянно заменять очень длинной перифразой, данное мной описание того, что происходит в голове и в сердце влюбленного человека, становится неясным, тяжелым, скучным даже для меня, как автора: чем же это стало бы для читателя?
Поэтому я призываю читателя, который почувствует, что его слишком шокирует слово кристаллизация, закрыть книгу. На мое большое счастье, я не стремлюсь иметь много читателей. Мне приятно было бы очень понравиться тридцати или сорока парижанам, которых я никогда не увижу, но которых безумно люблю, даже не будучи с ними знаком. Например, некой юной г-же Ролан, тайком читающей книгу, которую она при малейшем шуме быстро прячет в выдвижных ящиках рабочего стола своего отца, гравирующего корпус часов. Душа, подобная душе г-жи Ролан, надеюсь, простит мне не только слово кристаллизация, употребляемое для выражения акта безумия, делающего для нас видимыми все красоты, все виды совершенства в женщине, которую мы начинаем любить, но и целый ряд слишком смелых намеренных пропусков в тексте. Остается только взять карандаш и вписать между строк пять или шесть недостающих слов.
Нечаянная реплика, в которой для меня яснее проявляется нежная, щедрая, пылкая душа или, как ее упрощенно называют, романтическая душа [12], по-королевски счастливая от простой радости прогуливаться вдвоем с возлюбленным в полночь в отдаленном лесу, тоже заставляет меня мечтать всю ночь напролет [13].
[12] Все ее поступки тотчас же приобрели в моих глазах те небесные черты, которые сразу же делают человека существом особенным, отличают его от всех остальных. Мне казалось, что я читаю в ее глазах жажду более возвышенного счастья, неосознанную грусть, стремление к чему-то лучшему, чем то, что мы находим в этом мире, ту меланхолию, что в любом положении, в которое превратности судьбы и революций могут поставить романтическую душу,
- …Still prompts the celestial sight,
- For which we wish to live or dare to die[4].
Ultima lettera di Bianca a sua madre. Forli, 1817[5].
[13] Ради краткости и изображения внутреннего движения души автор использует формулу «я», передавая целый ряд ощущений, не относящихся лично к нему; с ним самим не случалось ничего такого, что заслуживало бы упоминания.
Он отзовется о моей возлюбленной как о недотроге; я отзовусь о его возлюбленной как о девке.
Глава IV
В совершенно безмятежной душе – у юной девушки, живущей в уединенном замке в сельской глуши, – малейшая неожиданность может вызвать легкое восхищение, а если возникнет самая слабая надежда, то она породит любовь и кристаллизацию.
В этом случае любовь поначалу нравится, как нечто занимательное.
Удивлению и надежде в значительной степени способствуют потребность в любви и грусть, свойственные нам в шестнадцать лет. Достаточно известно, что треволнения этого возраста связаны с жаждой любви, а природа жажды состоит в том, чтобы не проявлять излишнюю разборчивость в отношении напитка, который преподносит случай.
Давайте подытожим семь этапов любви; это:
1. Восхищение.
2. Невероятное наслаждение и т. д.
3. Надежда.
4. Зарождение любви.
5. Первая кристаллизация.
6. Появление сомнения.
7. Вторая кристаллизация.
Между № 1 и № 2 может пройти год.
Между № 2 и № 3 – месяц; если надежда не спешит приходить, то человек мало-помалу отказывается от № 2, будто бы приносящего несчастье.
Между № 3 и № 4 – один миг.
Между № 4 и № 5 нет временного интервала. Их может разделить только интимная близость.
Между № 5 и № 6 может пройти несколько дней, в зависимости от степени буйности и дерзости нрава, а между № 6 и № 7 нет временного интервала.
Глава V
Человек не волен не совершать то, что доставляет ему больше удовольствия, чем все остальные возможные действия [14].
[14] В случае преступлений хорошее воспитание заставляет испытывать угрызения совести, предназначение которых заключается в том, чтобы бросить на чашу весов решающий довод.
Любовь подобна лихорадке, она зарождается и угасает без малейшего участия воли. В этом одно из главных отличий манерной любви от страстной любви, и прекрасным качествам любимого существа можно порадоваться лишь как счастливой случайности.
Наконец, любовь существует в любом возрасте: вспомните страсть г-жи дю Деффан к не слишком привлекательному Горацию Уолполу. Возможно, в Париже помнят более свежий и, прежде всего, более приятный пример.
В качестве доказательств великих страстей я допускаю только те их следствия, которые выглядят смешно и нелепо: например, доказательством любви является робость; я говорю не о ложной стыдливости по окончании коллежа.
Глава VI
Зальцбургская ветка
Кристаллизация в любви почти никогда не прекращается. Ее история такова: пока вы не сблизились с любимым существом, кристаллизации подвергается воображаемое решение; ваша уверенность в совершенстве, присущем женщине, которую вы любите, основывается только на воображении. После интимной близости беспрестанно возрождающиеся страхи снимаются решениями, имеющими большее отношение к реальности. Таким образом, счастье никогда не бывает однообразным, разве что в самом его начале. Каждый день словно распускается новый цветок.
Если любимая женщина поддается своей страсти и совершает огромную ошибку, убивая страхи пылкостью своих порывов [15], то кристаллизация на некоторое время прекращается; когда любовь теряет свой пыл, то есть свои страхи, она приобретает очарование полной непринужденности, безграничного доверия, становится приятной привычкой, облегчающей страдания от горестей жизни и придающей наслаждениям интерес иного рода.
[15] Диана де Пуатье. «Принцесса Клевская».
Едва вас покинули, кристаллизация возобновляется; и каждый акт восхищения, любой вид блаженства, который она способна вам дать и о котором вы уже и не мечтали, заканчивается мучительной мыслью: «Такого упоительного счастья я больше не переживу никогда! И потерял я его по собственной вине!» Если вы ищете счастья в ощущениях другого рода, ваше сердце отказывается их испытывать. Ваше воображение четко рисует картину, как вы на быстром коне мчитесь на охоту в Девонширские леса [16]; но вы со всей очевидностью понимаете и чувствуете, что не получите от этого никакого удовольствия. Подобный оптический обман чреват выстрелом из пистолета.
[16] Даже если вам удастся вообразить себя там счастливым, кристаллизация передаст вашей возлюбленной исключительную привилегию даровать вам такое счастье.
В игре тоже есть своя кристаллизация, вызванная мыслями о том, как распорядиться предполагаемой суммой выигрыша.
Придворные игры, по которым так скучают знатные особы, называющие их законным наследственным правом на престол, были столь захватывающими лишь благодаря вызванной ими кристаллизации. Не было придворного, который не мечтал бы о стремительной карьере какого-нибудь Люина или Лозена, и не было обворожительной женщины, которая не грезила бы о герцогстве г-жи де Полиньяк. Ни одна разумная форма правления не способна вернуть подобную кристаллизацию. Ничто так не противостоит воображению, как правительство Соединенных Штатов Америки. Мы видели, что их соседям-дикарям почти неведома кристаллизация. Римляне также имели о ней слабое представление и обретали ее только через физическую любовь.
Ненависть также имеет свою кристаллизацию; как только появляется надежда отомстить, ненависть разгорается с новой силой.
Когда какое-либо убеждение содержит нечто абсурдное или недоказуемое и его носители всякий раз стремятся поставить во главе своей группы самых неразумных людей, то это еще одно из следствий кристаллизации. Кристаллизация есть даже в области математики (вспомним ньютонианцев 1740 года), среди умников, которые не в состоянии в любой момент представить себе все этапы доказательства того, во что они верят.
В качестве довода взгляните на судьбу великих немецких философов, чье многократно провозглашенное бессмертие всегда длилось лишь тридцать-сорок лет.
Нам не дано осознать причину возникновения своих чувств, поэтому с особой экзальтацией воспринимают музыку самые благоразумные люди.
При наличии подобных противоречий человек не волен доказать свою правоту даже самому себе.
Глава VII
Различия между зарождением любви у обоих полов
Женщина уделяет особое внимание милостям, которые она дарит мужчине. Поскольку девятнадцать двадцатых ее обычных мечтаний связаны с любовью, после интимной близости эти фантазии группируются вокруг одной-единственной цели: оправдать поступок столь необычный, столь решительный, столь противоречащий всем привычным нормам стыдливости. Затем женское воображение на досуге смакует подробности этих восхитительных мгновений. У мужчин такой привычки нет.
Поскольку любовь заставляет сомневаться даже в самых очевидных вещах, та самая женщина, которая до интимной близости была вполне уверена, что ее возлюбленный возвышается над пошлостью, при мысли о том, что теперь ей больше не в чем ему отказать, начинает бояться, что он лишь стремился внести ее имя в список своих побед.
Только тогда появляется вторая кристаллизация, которая гораздо сильнее первой, так как ее сопровождают страхи [17].
[17] Вторая кристаллизация отсутствует у доступных женщин, которые весьма далеки от подобных романтических идей.
Женщине кажется, что из королевы она превратилась в рабыню. Такому состоянию души и ума способствует нервный угар, порожденный удовольствиями, которые ощущаются тем острее, чем реже они переживаются. Наконец, женщина, сидя за вышиванием – пустым делом, занимающим только ее руки, думает о своем возлюбленном, в то время как тот мчится галопом по равнине со своим эскадроном, рискуя подвергнуться аресту, если сделает неверный маневр.
Итак, я полагаю, что вторая кристаллизация гораздо сильнее проявляется у женщин, поскольку страхи их более навязчивы, тщеславие и честь ущемлены, а отвлечься им труднее.
Женщина не может руководствоваться привычкой быть рассудительной, которую я, мужчина, поневоле приобретаю за письменным столом, работая по шесть часов в день, размышляя над холодными и рациональными предметами. Даже вне любви женщины склонны предаваться своим фантазиям с привычной им восторженностью; поэтому исчезновение недостатков любимого существа в их уме должно происходить быстрее.
Женщины предпочитают эмоции разуму, что вполне естественно: так как в силу наших жалких обычаев они не несут ответственности ни за какие дела в семье, разум никогда не имеет для них решающего значения, они не ощущают, что когда-нибудь он им пригодится.
Наоборот, он всегда для них вреден, ведь появляется только для того, чтобы отчитать их за то, что они слишком бурно повеселились вчера, или приказать им больше не веселиться завтра.
Поручите своей жене улаживать ваши дела с фермерами двух ваших имений, держу пари, что учет будет вестись лучше, чем при вас, и тогда, унылый деспот, вы по крайней мере получите право сетовать на свою неспособность влюбить ее в себя. Едва женщины пускаются в абстрактные рассуждения, они предаются любви, даже не замечая этого. Они гордятся тем, что в мелочах более строги и точны, чем мужчины. Половина мелкой торговли возложена на женщин, которые справляются с ней лучше, чем их мужья. Известное правило – говоря с женщинами о делах, нельзя проявлять чрезмерную серьезность.
Объяснение кроется в том, что они всегда и везде жаждут эмоций: посмотрите, сколько удовольствия способны доставить похороны в Шотландии.
Глава VIII
«Bride of Lammermoor». I, 70[6].
- This was her favoured fairy realm,
- and here she erected her aerial palaces.
У восемнадцатилетней девушки недостаточно ресурсов для кристаллизации, вынашиваемые ею желания слишком ограничены ее малым жизненным опытом, поэтому она не в состоянии любить с такой же страстью, как двадцативосьмилетняя женщина.
Сегодня вечером я изложил эту концепцию одной умной женщине, которая утверждает обратное. «Воображение молодой девушки не охлаждено никаким неприятным опытом, и огонь ранней юности горит в полную силу, так что вполне возможно, что она создаст себе упоительный образ из самого заурядного мужчины. Встречая возлюбленного, она всякий раз будет наслаждаться не тем, какой он есть на самом деле, а созданным ею восхитительным образом.
Позже, когда она разуверится в этом возлюбленном и во всех мужчинах, опыт печальной действительности ослабит в ней силу кристаллизации, а недоверие подрежет крылья воображению. Каким бы ни был мужчина, пусть даже сверходаренным, ей не удастся выстроить себе столь же привлекательный образ; следовательно, она больше не сможет любить с пылом первой молодости. И, поскольку в любви мы наслаждаемся лишь иллюзией, сотворенной нами самими, образ, который она сумеет создать в двадцать восемь лет, никогда не достигнет блеска и возвышенности того образа, на котором основывалась первая любовь в шестнадцать лет, и вторая любовь всегда будет казаться своего рода деградацией».
«Нет, сударыня, присутствие недоверия, которого не было в шестнадцать лет, разумеется, должно придать второй любви иную окраску. В ранней молодости любовь подобна огромному потоку, который сносит все на своем пути, и мы чувствуем себя не в силах сопротивляться его течению. В двадцать восемь лет нежная душа уже успела познать себя; она понимает, что если ей еще суждено счастье в жизни, то искать его нужно в любви; в бедном взволнованном сердце завязывается жестокая борьба между любовью и недоверием. Кристаллизация протекает медленно; но если ей удается выйти победительницей из того ужасного испытания, где душа совершает все свои движения на неизменном фоне самой страшной опасности, то она в тысячу раз блистательнее и устойчивее, чем кристаллизация в шестнадцать лет, когда исключительное преимущество возраста все сводило к веселью и счастью.
Значит, любовь должна быть менее веселой и более страстной» [18].
[18] Эпикур говорил, что для достижения наслаждения необходима способность к здравым суждениям.
Этот разговор (Болонья, 9 марта 1820 года), опровергающий пункт, который казался мне таким очевидным, все чаще и чаще приводит меня к мысли о том, что мужчина не может сказать почти ничего вразумительного о том, что происходит в глубине сердца нежной женщины; что касается кокетки, то это другое дело: ей, как и нам, присуща чувственность и тщеславие.
Различие в зарождении любви у обоих полов неизбежно проистекает из природы надежды, которая отнюдь не одинакова. Один атакует, а другой защищается; один просит, а другой отказывает; один дерзок, другой очень боязлив.
Мужчина думает: «Сумею ли я ей понравиться? Соблаговолит ли она полюбить меня?»
Женщина: «Не играет ли он мной, говоря, что любит меня? Надежный ли у него характер? Готов ли он ответить самому себе, сколь долго продлятся его чувства?» Так, например, молодого человека двадцати трех лет многие женщины воспринимают как ребенка и обращаются с ним соответствующим образом; если же он участвовал в шести войнах, то для него все меняется – отныне он молодой герой.
У мужчины надежда зависит лишь от действий любимой женщины; нет ничего проще для истолкования. У женщин надежда непременно основывается на моральных соображениях, которым очень трудно дать правильную оценку. Большинство мужчин настойчиво просят доказательств любви, которые, по их мнению, развеивают все сомнения; женщины не настолько удачливы, у них нет возможности отыскать такие доказательства; и драма жизни такова: то, что обеспечивает спокойную уверенность и блаженство для одного из любящих, создает опасность и чуть ли не унижение для другого.
В любви мужчины подвергаются риску тайных душевных мук, женщинам же грозит публичное осмеяние; они более застенчивы, и к тому же общественное мнение для них играет гораздо более важную роль, ибо главное – «чтоб молва о тебе была добрая: это уж непременно» [19].
[19] Вспомним изречение Бомарше: «Природа подсказывает женщине: будь красивой, если можешь, скромной, если хочешь, но чтоб молва о тебе была добрая, это уж непременно». При отсутствии уважения во Франции женщине не стать предметом восхищения, а любовь без восхищения немыслима.
Стоит женщине на мгновение выставить напоказ свою жизнь, у нее уже не будет верного средства склонить общественное мнение на свою сторону.
Таким образом, женщинам приходится быть гораздо недоверчивее. В силу их привычек все движения мысли, формирующие этапы зарождения любви, у них более мягкие, более робкие, более медлительные, менее решительные; следовательно, у них больше склонности к постоянству; им тяжелее отречься от начавшейся кристаллизации.
При виде своего возлюбленного женщина быстро отстраняется или предается счастью любить, но из состояния счастья ее нелюбезно выводит малейшая его атака, ибо ей приходится отказаться от всех радостей и взяться за оружие.
Участь влюбленного проще, он смотрит в глаза любимой женщины: одной улыбкой она способна вознести его на вершину блаженства, и он беспрестанно стремится ее добиться [20]. Долгая осада унижает мужчину; женщина же, напротив, ею гордится.
Dante, «Inf.», cant. V[7].
- [20] Quando leggemmo il disiato riso
- Esser baciato da cotanto amante,
- Costui che mai da me non fia diviso,
- La bocca mi bacció tutto tremante.
Женщина способна любить и за целый год сказать всего десять или двенадцать слов мужчине, которому она отдает предпочтение. В памяти своего сердца она отмечает, сколько раз его видела; два раза она ходила с ним в театр, два раза ей довелось оказаться с ним на званом обеде, три раза он поприветствовал ее на прогулке.
Однажды вечером во время какой-то салонной игры он поцеловал ей руку; было замечено, что с тех пор она больше никому не позволяет целовать свою руку ни под каким предлогом, даже рискуя показаться странной.
«У мужчины такое поведение назвали бы любовью по-женски», – говорила мне Леонора.
Глава IX
Я прилагаю все старания, чтобы придерживаться сухого слога. Я хочу заставить замолчать мое сердце, которое мнит о себе, будто ему есть что сказать. Даже если я считаю, что подметил истину, всегда боюсь, что мне удалось записать лишь любовные воздыхания.
Глава X
В доказательство кристаллизации я просто напомню следующий любопытный случай [21].
[21] Эмполи, июнь 1819 года.
Одна молодая особа по рассказам узнает о том, что ее родственник Эдуард, который вот-вот вернется из армии, является исключительно достойным юношей; ее уверяют, что он влюбился в нее понаслышке; но он, вероятно, захочет увидеть ее перед тем, как объясниться в любви и попросить у родителей ее руки. В церкви она присматривается к одному молодому незнакомцу, слышит, как его называют Эдуардом, больше не думает ни о чем, кроме него, и влюбляется в него. Неделю спустя прибывает настоящий Эдуард, не тот, кого она видела в церкви; она бледнеет и чувствует, что станет навек несчастной, если ее заставят выйти за него замуж.
Вот что скудоумные люди называют одним из безрассудств любви.
Великодушный мужчина щедро осыпает обездоленную молодую девушку самыми благопристойными знаками внимания; проявляет верх порядочности, казалось бы, вот-вот должна зародится любовь, но на нем неудачно переделанная шляпа, и девушка видит, как неуклюже он ездит верхом; она, вздыхая, признается себе, что не может ответить взаимностью на его заботливое отношение к ней.
Мужчина ухаживает за вполне добродетельной светской женщиной, она узнает, что когда-то этот господин пережил смешные неудачи плотского характера: он становится для нее невыносим. Между тем у нее не было ни малейшего намерения отдаться ему, и эти давние, тщательно скрываемые неудачи никоим образом не умаляют ни его ума, ни его любезности. Дело просто в том, что исключается возможность кристаллизации.
Чтобы человек мог с трепетом заняться обожествлением любимого существа, где бы оно ни появилось, в Арденнском лесу или на балу Кулона, оно прежде всего должно показаться ему совершенным, причем не во всех возможных отношениях, а именно в тех отношениях, которые предстали перед ним в данный момент; совершенным во всех отношениях оно покажется ему только через несколько дней после второй кристаллизации. Все довольно просто, одного представления о совершенстве достаточно для того, чтобы узреть его в любимом существе.
Теперь проясняется, почему для зарождения любви необходима красота. Безобразие не должно служить помехой. Любовник быстро начинает считать свою возлюбленную красивой, какой бы она ни была, не задумываясь об истинной красоте.
Черты лица, воплощающие истинную красоту, если бы он их увидел, сулили бы ему – осмелюсь так выразиться – ту меру счастья, которую я выражу числом один, а черты лица его возлюбленной, такие, какие они есть, сулят ему тысячу единиц счастья.
Перед зарождением любви красота необходима как ее примета; она предрасполагает к страсти теми похвалами, которые мы слышим в адрес той, кого нам предстоит полюбить. При очень сильном восхищении решающее значение придается даже малейшей надежде.
В манерной любви и, может быть, в первые пять минут страстной любви, женщина, обзаводясь любовником, больше принимает во внимание то, как об этом мужчине судят другие дамы, чем то, какое о нем мнение у нее самой.
Поэтому успехом у женщин пользуются короли и офицеры. [22]
[22] Those who remarked in the countenance of this young hero a dissolute audacity mingled with extreme haughtiness and indifference to the feelings of others, could not yet deny to his countenance that sort of comeliness which belongs to an open set of features, well formed by nature, modelled by art to the usual rules of courtesy, yet so far frank and honest, that they seemed as if they disclaimed to conceal the natural workings of the soul. Such an expression is often mistaken for manly frankness, when in truth it arises from the reckless indifference of a libertine disposition, conscious of superiority of birth, of wealth, or of some other adventitious advantage totally unconnected with personal merit.
«Ivanhoe», tome I, p. 145[8].
Хорошенькие женщины при дворе постаревшего Людовика XIV были влюблены в этого короля.
Следует остерегаться создавать благоприятные условия для надежды, пока нет уверенности в уже возникшем восхищении. Иначе существует риск породить приторную безвкусицу, которая навсегда сделает любовь невозможной или от которой, в лучшем случае, можно будет исцелиться лишь с помощью уязвленного самолюбия.
Нам не нравится ни простоватость, ни улыбки, расточаемые каждому встречному; вот почему в свете необходимо придавать вольному поведению лоск; в этом-то и состоит благородство манер. Не в меру приниженное создание не удостоится даже смеха. В любви наше тщеславие пренебрегает слишком легкой победой; и в любых сферах человек в принципе не склонен преувеличивать цену того, что ему предлагают.
Глава XI
Как только начинается кристаллизация, вы с упоением наслаждаетесь каждой новой гранью красоты, которую раскрываете в любимом существе.
Но что есть красота? Это очередная способность доставлять вам удовольствие.
Удовольствия отдельно взятых индивидуумов различны и нередко противоположны: этим очень хорошо объясняется, почему то, что является красотой для одного человека, оказывается уродством для другого. (Убедительный пример – Дель Россо и Лизио, 1 января 1820 года).
Для того, чтобы раскрыть природу красоты, следует выяснить, какова природа удовольствий каждого индивидуума; например, Дель Россо нужна женщина, допускающая кое-какую фривольность в поведении и поощряющая своими улыбками весьма пикантные забавы; женщина, которая ежеминутно вызывала бы в воображении плотские наслаждения и при этом настраивала бы Дель Россо на любовные ласки и позволяла ему им предаваться в присущей ему манере.
Вероятно, под любовью Дель Россо подразумевает физическую любовь, а Лизио – страстную любовь. Со всей очевидностью ясно, что они не должны прийти к согласию по поводу слова «красота» [23].
[23] Моя красота, как надежда на характер, полезный для моей души, стоит выше чувственного влечения; подобное влечение – лишь отдельный вид красоты. 1815 год.
Таким образом, красота, которую вы раскрываете в ком-то, есть очередная способность доставлять вам удовольствие, а удовольствия варьируются, как и индивидуумы.
Кристаллизация, выстраиваемая в уме каждого человека, неизбежно принимает окраску удовольствий этого человека.
Для мужчины кристаллизация его любовницы, или ее красота, есть не что иное, как совокупность всех форм удовлетворения всех желаний, которые постепенно зародились в нем по отношению к ней.
Глава XII
Продолжение кристаллизации
Почему мы с упоением радуемся каждой новой грани красоты, которую раскрываем в любимом существе?
Дело в том, что каждая новая грань красоты целиком и полностью удовлетворяет какое-нибудь желание. Вы желаете, чтобы она была мягкой, – и она мягкая; после этого вы желаете, чтобы она была отважной, как Эмилия Корнеля, и, хотя эти качества вряд ли совместимы, в ней тотчас блеснет душа римлянки. Вот моральная причина, по которой любовь является самой сильной из страстей. В других страстях желания вынуждены приноравливаться к холодным реалиям; здесь же сами реалии усердно сообразуются с желаниями; это такая страсть, при которой неистовые желания приводят к наивысшему удовольствию.
Существуют общие условия счастья, распространяющие свою власть на все виды удовлетворения отдельных желаний.
1. Вам кажется, что она ваша собственность, ведь только вы можете сделать ее счастливой.
2. Она – ценитель ваших заслуг. Это условие было очень важным при галантно-рыцарских дворах Франциска I и Генриха II, а также при изысканном дворе Людовика XV. При конституционном правлении, склонном к резонерству, женщины полностью утрачивают подобную влиятельность.
3. Для романтических сердец – чем более возвышенной будет ее душа, тем более чистыми и свободными от грязи низменных соображений будут наслаждения, которые вы обретете в ее объятиях.
Большая часть молодых французов восемнадцати лет – ученики Жан-ЖакРуссо; это условие счастья имеет для них большое значение.
Среди мыслительных процессов, столь неутешительных для стремления к счастью, несложно и голову потерять.
Даже самый мудрый человек с того момента, как полюбит, не видит ни одного предмета таким, какой он есть. Он преувеличивает не только свои преимущества, но и малейшие свидетельства благосклонности любимого существа. Страхи и надежды мгновенно приобретают нечто романтичное (или, выражаясь по-английски, wayward – своенравное). Он больше ничего не приписывает случайности; он теряет ощущение вероятности; воображаемое становится существующим и оказывает влияние на его счастье [24].
[24] Этому существует физическая причина, начало безумия, приток крови к мозгу, расстройство нервной системы и мозгового центра. Вспомним кратковременное бесстрашие оленей и образ мышления сопрано-кастрата. В 1922 году физиология предоставит нам описание физической стороны этого явления. Рекомендую г-ну Эдвардсу обратить на это внимание.
Пугающий признак потери рассудка – когда вы, думая о каком-то мелком факте, трудно поддающемся наблюдению, представляете его в белом свете и истолковываете в пользу своей любви, а через мгновение понимаете, что на самом деле его следовало представить в черном свете, но по-прежнему считаете этот факт убедительным доводом в пользу вашей любви.
