Мгновение хорошего
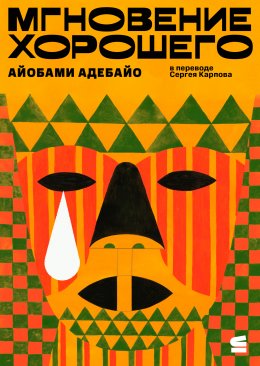
Copyright © 2023 by Ayọ̀bámi Adébáyọ̀
© Айобами Адебайо, текст, 2025
© Сергей Карпов, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2025
Дизайн обложки и иллюстрация Татьяны Борисовой
Посвящается Джолаа Джесу. Дорогая сестра, спасибо за великий дар дружбы
Родич
Когда слон проходит по скалистому утесу,
Мы не видим его следов.
Когда буйвол проходит по скалистому утесу,
Мы не видим его следов.
Т.М. Алуко. Родич и начальник
Каро злилась. Когда один из ее подмастерьев прочитал ей вслух уведомление о собрании, она швырнула бумажонку через всю комнату в мусорку. Какая-то жена политика хотела произнести речь для ассоциации портных, а президент ассоциации пригласил ее на следующую же встречу. И, конечно же, решил, будто стоит упомянуть, что жена политика и сама дочь портного. Каро почти не сомневалась, что это ложь. Эти люди хоть твоей семьей назовутся, если это поможет им дорваться до власти. Ее раздражало, что придется тратить время и слушать, как гостья расхваливает своего мужа. Не за это она платит взносы ассоциации.
Каро подошла к корзине в углу своей швейной мастерской. Достала уведомление, порвала на клочки и отправилась во двор, чтобы пустить их по ветру. Она еще выскажет на следующем собрании ассоциации, что о них думает. Хотя все равно никто не послушает и не почешется. Все и так знали, что президент берет у политиков взятки за разрешения выступать на встречах. Ближе к выборам и членам ассоциации перепадет доля внезапной щедрости нескольких кандидатов. Их жены или сестры начнут ходить на собрания с мисками риса, бочонками масла, метрами и метрами анкары[1] с тиснеными портретами и логотипами кандидатов. Сами мужчины – а в основном это мужчины – никогда не приходят лично, чтобы ответить, что планируют делать на будущей должности.
Кое-кто из портных обвинял Каро в заносчивости, потому что она всегда отказывалась брать рис с маслом или шить платья из никчемной анкары. Но она не чувствовала себя лучше других – большинству в ассоциации, если не всем, надо кормить детей. К тому же они знали, что это верный способ избавиться от политиков еще на четыре года. Так почему бы не угоститься рисом и маслом, раз это единственный так называемый дивиденд демократии[2]? Каро понимала их логику, но легче от этого не становилось. Сколько раз представители тех политиков обещали, что если их кандидата изберут, то электричество починят? И разве вся ассоциация не зависит до сих пор от генераторов? Разве две недели назад одна из портных не скончалась во сне, надышавшись выхлопными газами генератора? Уже третья за столько же лет. Каро даже не смогла расплакаться, когда о ней узнала. Зато, хоть она даже почти не помнила лица покойной, в голове еще несколько дней стучало от злости.
Выборы ожидались где-то через год. В следующие месяцы начнут появляться плакаты, каждый забор и стену покроют лица мужчин, чьи улыбки уже доказывали, что им нельзя доверять. В последний раз ее стену от края до края заклеили плакатами какого-то сенатора, потому что ее двор выходит на улицу. Надо не забыть попросить кого-нибудь написать краской на стене: «Плакаты не клеить». Попросит кого-нибудь из подмастерьев. Может, Эниолу.
Часть I
Все будет хорошо
Подавленный гнев налетает как ветер, внезапный и незримый. Люди не боятся ветра, пока тот не повалит дерево. А тогда уже говорят, что он слишком сильный.
Сефи Атта. Все будет хорошо[3]
1
Эниола решил притвориться, что это просто вода. Тающая градинка. Туман или роса. А то и что-то хорошее – единственная капля с неба, одинокая предвестница ливня. А первые дожди года значат, что наконец-то можно полакомиться агбалумо. Продавщица фруктов с лотком у школы вчера уже выставляла корзину агбалумо, но Эниола ничего не купил и убедил сам себя, будто это из-за постоянных предупреждений мамы: если съесть агбалумо до первого дождя, заболит живот. Но раз вот эта жидкость – дождь, тогда уже через пару дней он слижет с пальцев сладкий и липкий сок, сжует волокнистую мякоть до жвачки, раскусит скорлупу и подарит сестре семена, чьи половинки она носит как сережки-наклейки. Он пытался притвориться, будто это просто дождь, вот только на воду это было не похоже.
Даже не поднимая глаз, он чувствовал, что десяток мужчин, столпившихся у газетного лотка, уставились на него. Все молчали, как камни. Как непослушные детишки, которых превращал в камни злой волшебник в одной из сказок отца.
В детстве, когда Эниола попадал в неприятности, он зажмуривался, думая, что если сам никого не видит, то никто не видит и его. Хоть теперь он знал, что закрыть глаза и надеяться, будто он исчезнет, так же глупо, как верить, что люди могут превратиться в камни, он все равно крепко зажмурился. И, конечно же, никуда не исчез. Не повезло. Шаткий лоток газетчика так и стоял перед ним, так близко, что края газет щекотали ногу. Сам продавец, кого Эниола называл Эгбон Эбби, стоял рядом, и рука, которую он положил Эниоле на плечо перед тем, как прочистить горло и смачно плюнуть ему в лицо, так никуда и не делась.
Эниола медленно повел пальцем по носу, приближаясь к сырой тяжести слюны. Онемев от такой неожиданности, нарушившей их распорядок дня, все мужчины – даже сам Эгбон Эбби – будто затаили дыхание и чего-то ждали. Никто не подкалывал фанатов «Челси» из-за того, как вчера вечером их команду разнес «Тоттенхэм». Никто не спорил об открытом письме журналиста-политика о других политиках, которые омываются человеческой кровью для защиты от злых духов. Все затихли, когда слюна газетчика попала в лицо мальчика. И теперь мужчины, собиравшиеся здесь каждое утро поспорить о заголовках, ждали, что сделает Эниола. Им хотелось, чтобы он ударил газетчика, орал оскорбления, расплакался или – еще лучше – прочистил горло, набрал харчу и сам плюнул в лицо Эгбону Эбби. Палец дошел до лба – но он опоздал. Слюна уже стекала по крылу носа, оставляла сырой и липкий след на щеке. Теперь так просто не смахнешь.
Что-то прижалось к его щеке. Он отшатнулся, ткнувшись в газетный лоток. Кое-кто вокруг забормотал извинения, когда он ухватился за край, чтобы не упасть. Это просто один из мужчин утирал его своим голубым платком.
– Hin ṣé[4], сэр, – сказал Эниола, взяв платок; он и правда был благодарен, хоть ткань уже была покрыта белыми линиями, раскрошившимися, когда он прижал платок к щеке.
Эниола окинул взглядом небольшую толпу, расправил плечи, увидев, что никого из школы нет. У лотка собрались только взрослые. Кое-кто, уже одевшись на работу, тянул за тугие узлы галстуков и поправлял плохо сидящие пиджаки. Многие стояли в выцветших свитерах или застегнутых до горла бомберах. Большинство из молодежи – к чьим именам он был обязан прибавлять «брат», иначе получит, – недавно выпустились из технических училищ или университетов. Они все утро слонялись у лотка Эгбона Эбби, читали и спорили, выписывали вакансии из газет в блокноты или на клочки бумаги. Время от времени помогали продавцу с мелочью на сдачу, но газету не покупал никто.
Эниола хотел вернуть платок, но мужчина отмахнулся и снова уткнулся в свою «Аларойе». Хотя бы никто не расскажет одноклассникам, как продавец добрую минуту сверлил его взглядом, а потом плюнул в лицо. Да так внезапно, что Эниола отдернулся, только уже почувствовав, как по носу расползается сырость, так внезапно, что затихли все мужчины, чьи голоса обычно слышались во всех окрестных домах. Хотя бы этого момента не видели Пол и Хаким, его одноклассники с этой улицы. Посмотрев старое видео Клинта да Дранка из «Вечера тысячи хохотов», Пол решил, что хочет быть как Клинт. С тех пор, если учитель не приходил на урок, Пол шатался по классу, натыкался на парты и стулья и заплетающимся языком поливал одноклассников оскорблениями.
Эниола коснулся щеки, чтобы втереть влагу в кожу и не оставлять следов. Если останется хотя бы намек на плевок, когда он пойдет мимо дома Пола по дороге домой, то очередное представление перед всем классом будет только о нем. Пол наговорит, что Эниола пускал слюну во сне, не помылся перед тем, как одеться в школьную форму, родом из семьи, которой не хватает даже на мыло. И будет смех. Он тоже смеялся, когда Пол издевался над другими. Шутки у него были так себе, но, надеясь, что Пол не станет отвлекаться от жертвы, которой не повезло в этот день, Эниола смеялся над любыми его словами. Если Пол отвлекался, то обычно на девочку, которая не смеялась над его шутками. Обычно. Все-таки был и тот жуткий день, когда Пол перестал говорить о рваной туфле одноклассницы и заявил, что лоб Эниолы похож на толстый конец манго. Эниола все еще смеялся над девочкой с рваными туфлями и, обнаружив, что класс уже разразился новым хохотом, который будет слышаться ему во сне месяцами, не мог закрыть рот. Он и хотел бы не смеяться, но не мог. Даже когда горло уже болело от слез и когда класс притих, потому что пришла с опозданием на несколько минут учительница химии. Смеялся, пока она не велела ему встать в угол на колени, лицом к стенке.
Без зеркала и не поймешь… нет. Нет. Он не станет кого-нибудь спрашивать, осталось ли что-то на лице. Не станет. Убрав руку от щеки, Эниола прищурился в сторону трехэтажного здания, где на втором этаже жила семья Пола. Они делили четыре комнаты с двумя другими семьями и старушкой без родственников. Сейчас перед домом стояла пожилая женщина и рассыпала зерно на песке, у ее ног квохтали куры. Пола не было. Может, уже ушел в школу. Но, с другой стороны, он может быть и в подъезде или коридоре, готовый выйти, когда Эниола будет проходить мимо дома.
Эниола прижал руку ко лбу там, где он нависал над переносицей, словно чтобы вдавить его обратно в череп. Может, лучше просто пробежать мимо дома. А виноват во всем отец. Во всем. И в том, что скажет Пол, и в том, как мужчины смотрели на его уже сжавшиеся кулаки, словно ждали, что он ударит газетчика, и в гневе газетчика. Особенно в гневе. Это отец задолжал ему тысячи найр, это отец месяцами брал «Дейли» по четвергам в кредит, чтобы просмотреть все вакансии, это отец утром потребовал, чтобы клянчить у продавца газету пошел Эниола. И это по лицу отца должна сползать вонючая слюна.
Он почувствовал руку на плече и узнал ее раньше, чем повернулся к газетчику. Тот был так близко, что Эниола ощущал его дыхание. А может, все еще запах на своем лице. Может, платок и стер сырость, но запах никуда не делался. Эгбон Эбби прокашлялся, и Эниола подобрался. На что еще готов газетчик? Ударить, чтобы он принес домой нестираемый след, синяк или сломанный нос, которые скажут его отцу о том, что тут произошло?
– Хочешь «Дейли», àbí[5]? Óyá[6], бери. – Газетчик шлепнул Эниолу по руке свернутой газетой. – Но если опять увижу тебя или твоего отца? Ты ему скажи. Своему отцу, ты так ему и скажи: если еще кого-нибудь из вас увижу, знаешь, какие чудеса я сотворю с вашими рожами? Если на вас посмотрят, подумают, вы попали под грузовик. Я предупреждаю, не напрашивайся на такое несчастье.
Эниоле хотелось открыть продавцу рот и запихать ему газету в глотку. Хотелось швырнуть ее на землю и топтать, пока не останутся одни клочки; хотелось хотя бы отвернуться от Эгбона Эбби и не взять ее. Ему вечно приходилось терпеть такое от взрослых, даже от родителей. Он знал, что не дождется извинений за вспышку гнева; газетчик лучше выпьет из лужи, чем признает, что был неправ. Извинением служила газета. Эниола представил, как взрослый – мать или отец – вдруг берут и за что-то перед ним извиняются, и чуть не рассмеялся.
– Что встал как истукан? – спросил Эбби, ткнув Эниоле в грудь газетой.
Но однажды у отца снова будут деньги, и Эниолу пошлют за «Дейли». И в тот день он дойдет до самой больницы Уэсли-Гилд и купит газету на лотке там. А назад пройдет мимо этого лотка, размахивая газетой, чтобы этот мерзавец видел. Но чтобы это случилось, отцу нужно найти подходящую вакансию. И поэтому Эниола взял газету и что-то пробормотал, что можно было спутать с благодарностью, – и сбежал. Прочь от продавца и его вонючего рта, мимо дома Пола, где старушка возилась с цыпленком, повязывая ему на перья красную ленточку. Все быстрее и быстрее, под холм, к дому.
Отец листал страницы «Дейли» самыми кончиками пальцев. Или даже одними ногтями – Эниола не видел от двери. И такие старания после того, как он уже дважды помыл руки и отказывался вытирать их чем угодно, даже кружевной блузкой, которую мать Эниолы нашла в особом сундуке с ее кружевами и ашо-оке[7]. Вместо этого он ходил по комнате во все стороны – от стены к кровати, от кровати к матрасу на полу, от матраса к буфету с кастрюлями, тарелками и чашками, – вытянув руки перед собой, чтобы испарилась влага. Даже постучал каждым пальцем себе по лбу, прежде чем взять «Дейли» у Эниолы. Когда они наберут десять номеров, их можно выменять на деньги или еду у женщин, торговавших земляными орехами, жареным ямсом и боли[8] на этой или соседней улице. Сам Эниола предпочитал еду – особенно у торговки боли, которая жарила плантаны именно так, как он любил: хрустящие снаружи и мягкие внутри. Но родители чаще меняли газеты на деньги, и чем чище газеты, тем больше за них давали.
Отец был еще молод для седины. Или так сказала мать, когда впервые сорвала волосок с головы Баами[9], уверяя, что если рвать их с корнем, то новые вырастут чернее прежнего. И все же в прошлом году все волосы Баами до единого поседели меньше чем за месяц. Седина разбежалась от виска, захватывая каждый сантиметр, и уже через пару недель Эниоле приходилось смотреть на его старые фотографии, чтобы вспомнить, как отец выглядел раньше.
На мятой и выцветшей фотографии Баами стоит рядом с дверью, так обжигая глазами, будто говорит, что будет с фотографом, если тот только попробует неудачно сфотографировать. Волосы черные и у виска, и везде. Пробор слева обнажает полоску поблескивающей кожи. На черной табличке на двери, у самого края кадра, написано золотым курсивом: «Заместитель директора». Ниже на прямоугольном листке бумаги, который будто только что прилепили к двери и вот-вот сорвут, – имя Баами: мистер Бусуйи Они. Баами стоит прямо, отведя плечи так далеко назад, что Эниола гадал, не потому ли он не улыбается, что лопатки уже ноют. За годы с тех пор, как сделали фотографию, Баами перестал смотреть на камеры или людей прямо. Только мама Эниолы еще требовала, чтобы он смотрел ей в глаза, когда говорит. А когда он обращался к Эниоле или его сестре, таращился на их ноги, и глаза его бегали, будто снова и снова пересчитывали их пальцы.
Баами сложил «Дейли» и прочистил горло.
– Дикие овощи, которые растут на заднем дворе, – может, продать их? Я помогу собрать…
– Нет-нет-нет, кто же их купит, Баба[10] Эниола. Смотри в газету, пожалуйста. Ты проверил от начала до конца? – спросила мама.
– Что-нибудь нашел? – спросил Эниола.
Отец, не отвечая, раскрыл газету. Эниоле хотелось выйти во двор и умыться, но он чувствовал себя обязанным оставаться с родителями. К тому же на сегодня мытье закончено, мама уже спрятала мыло в один из своих бессчетных тайников. Если попросить, она поинтересуется: зачем? И не уймется, пока он не объяснит, даже если передумает и скажет, что уже не надо. Она заставит признаться, что случилось, у нее это всегда получалось. А он знал, что стоит ему договорить, как она бросится к газетчику и будет плевать ему в лицо, пока во рту не пересохнет. Этого он не хотел. Да, он бы с удовольствием посмотрел, как газетчик будет спасаться от материного гнева, но тогда больше людей узнает, как его унизили этим утром. Просить мыло точно не хотелось. Может, лучше просто ополоснуть лицо, отскрести с губкой, как они обычно делали, когда мыло кончалось.
Он бы сразу пошел во двор, но в комнате не было Бусолы. Может, она метет двор, моет тарелки или отскабливает кастрюлю, в которой мама вчера вечером варила амалу[11]. Лучше дождаться, когда она вернется, потому что ему не хотелось оставлять отца наедине с газетой. Он не оставлял отца одного, когда мог. В комнате, конечно, была мама, но она себя вела как-то странно. Сидела на полу в ногах кровати и без конца складывала и расправляла блузку, которую предлагала Баами.
– Никто не покупает гбуре[12], – сказала она. – Ими зарос весь двор, но их никто не покупает. Сейчас даже собаки и козы не трогают гбуре во дворах.
Эниола прислонился к стене; да хоть бы гбуре полезли на каждом сантиметре двора и по всей комнате, даже у него на макушке и у родителей на лбу, – какая разница? Сколько бы мать за них выручила? Не хватит на учебу для него или Бусолы. Он это знал, потому что на каникулах сам продавал гбуре. Хоть он тогда добрался с подносом до самой больницы, пройдя весь рынок рядом с дворцом и перед самим дворцом, а потом обратно, пока не остановился у Апостольской церкви Христа рядом с Брюэри, все равно принес домой половину того, с чем выходил.
Отец закашлялся. Сперва казалось, он просто прочищает горло, но уже скоро плечи содрогались в попытках отдышаться. Мать бросила блузку на кровать и налила стакан до края, оставляя след из капель по пути к Баами, положила ему руку на плечо. Он выпил стакан одним долгим глотком, но кашель не унимался, пока он не сел на кровати, сжимая колени.
– Ты – когда ты идешь в школу? – спросила мать, потирая спину мужа, пока кашель сходил на нет.
– Я… я хотел узнать, найдет ли Баами что-нибудь в газете.
– Бери рюкзак и иди, jàre[13], – сказала мать.
Баами ткнул в сторону Эниолы пальцем.
– Не волнуйся, я уже подыскал кое-что интересное, очень интересное, Эниола. Сегодня же им напишу.
– Я могу отнести на почту, – сказал Эниола.
– Необязательно – мать отнесет, когда пойдет на рынок.
– Я думал, она не…
– Почему я еще вижу твою тень в доме? – Мама взмахнула рукой. – Скажи сестре бросать все дела и собираться в школу. Какой толк искать вам деньги на учебу, если вы будете опаздывать?
– Да, ма. – Эниола взял школьный рюкзак. – Пожалуйста, можно соль?
– Почему этот ребенок просит у меня соль, когда должен быть в школе? собираешься варить суп с утра пораньше, Эниола?
– Я… я еще не чистил зубы.
Мать прищурилась, словно только сейчас заметила, что на месте, где должна быть голова, у него все это время был большой кокос. Он не двигался, старался не отрывать от нее глаз, зная, что стоит отвернуться, как она заподозрит его во лжи. Но при этом старался смотреть так, чтобы не встречаться с ней взглядами. Если смотреть прямо в глаза, она воспримет это как неуважение, доказательство, что он отрастил крылья и стал дикой птицей, бьющейся ей в лицо, и поставит на место метким подзатыльником. Он и не замечал, что затаил дыхание, пока она не кивнула на буфет, где лежали кастрюли, тарелки и маленький мешочек соли.
Эниола отмерил в левую ладонь ложку с горкой и сжал кулак.
Когда он вышел во двор, Бусола как раз домывала кастрюлю. Она отдала кувшин с оставшейся водой, чтобы не пришлось набирать из колодца в углу. Харматан[14] жалил руки от локтей до кончиков пальцев, словно миллион иголок, покрывал лодыжки тонким слоем песка и растрескивал верхнюю губу. Эниола плеснул водой в лицо и втирал соль в нос, пока не показалось, что кожа слезет. Он ополаскивался снова и снова, пока не опустел кувшин. Но по-прежнему чувствовал ту сырую тяжесть. По-прежнему чувствовал запах испорченных лука, яиц и чего-то еще, что он не узнавал, но о чем будет гадать все утро.
2
Герниорафия – рот раззявился, усы дрожат от храпа. Восемнадцать часов после операции. Без осложнений. Вураола записала свои рекомендации. Его должны выписать этим утром. Она чуть повернула блокнот под свет из прохода – лампочки над койками всегда выключали намного раньше полуночи.
Аппендектомия – антисептик и снотворное. Его дочь, не находившая себе места после целого часа вопросов без ответа, почему он еще в ванной, взломала замок и обнаружила семидесятилетнего старика в полубессознательном состоянии в душе. Она тут же помчалась с ним в больницу, несмотря на его возражения – продолжавшиеся, даже когда его вкатили в операционную, – что боль не такая уж страшная, ему нужны только отдых и его горшок с травами. На вопрос при утреннем обходе, зачем он целыми днями терпел боль от перфоративного аппендицита и никому не говорил, он скрестил руки на груди и объявил хирургу: «Bóo ni hin ṣe a mọ̀ wí akọ ni mèrè? Akọ rà i ṣojo»[15]. И профессор Бабаджиде Кокер, хирург общей практики и нынешний председатель IEMPU – Прогрессивного союза элиты иджеши[16], кивнул так, будто понял его слова.
Профессор Кокер и отец Вураолы были хорошими друзьями. Собрания IEMPU часто проходили дома у ее семьи, и подростком она не раз подавала подносы с перчеными улитками или приносила бутылки виски, чтобы пополнить стаканы. Профессор Кокер, родившийся в Лагосе ровно за пять лет до независимости[17], сразу после начала собраний давал новым членам IEMPU знать, что он перешел из церкви Христа на Брод-стрит прямиком в Колледж Короля во времена, когда образование в этой стране еще было образованием. Частенько он вставлял и историю о том, как познакомился со своей женой в Колледже Королевы во время межвузовских дебатов, и завершал на том, что его учебу, разумеется, венчали годы в престижном университете. А где еще можно приобрести столь безупречное, фундаментальное понимание медицины? Где? Если присутствовали другие врачи, он пресекал на корню ответы об Ифе или Медилаге[18]. Тогда мужские голоса становились громче и перебивали друг друга, и уже скоро Вураола не могла разобрать, кто и что говорит. Ее отец, учившийся на юриста в Университете Лагоса, никогда не встревал во время гвалта, даже когда его просили замолвить слово о своей альма-матер врачи из Медилага или другие выпускники Университета Лагоса. Он молчал, дожидаясь, чтобы ему на ухо шепнула одна из горничных. Тогда он обычно постукивал вилкой по стакану, пока не становилось достаточно тихо, чтобы объявить – в основном для новеньких, – что скоро подают перечный суп, поэтому гостям пора сказать Вураоле и горничной, которая работала в тот день, какой они хотят суп – с козлятиной или зубаткой. Когда Вураола поступила в медвуз в Ифе, и ее стали втягивать в споры его выпускники. И хоть отец по-прежнему говорил пару хвалебных слов об Университете Лагоса перед тем, как все ненадолго замолкали над дымящимися тарелками перечного супа, его словно ничуть не волновало, что она-то опровергала его слова и критиковала его альма-матер. Вураола видела: он гордится тем, что теперь и ее можно привлечь к этому многолетнему спору. Он прятал улыбку за маленькими глотками, от которых содержимое его стакана не уменьшалось.
С тех пор как отца Вураолы на посту президента IEMPU сменил профессор Кокер, ее семья устраивала приемы, только если у жены профессора случались приступы аллергии, из-за которых она проводила в постели по многу дней.
Профессор Бабаджиде и профессор Корделия Кокер переехали в этот город больше двадцати лет назад, когда он еще входил в прежний штат Ойо. Тогда основатели IEMPU лоббировали, чтобы, когда из старого штата наконец выкроят новый, столицу сделали именно здесь. Ходили слухи, что в тот же вечер, когда объявили о создании штата Осун с новой столицей, профессор Кокер нанял себе учителя языка иджеша, планируя избираться в губернаторы, как только закончится то, что по-прежнему считалось лишь недолгим промежутком военной власти[19]. И все же после стольких лет жизни здесь и после всех уроков он из всего иджеша знал не больше чем «hìnlẹ́ àwé»[20], что и употреблял с уверенностью знатока, а затем, когда разговор заходил дальше первоначальных любезностей, неловко возвращался к йоруба или английскому. Все это не помешало ему кивать, будто он понимает старика, когда тот повторял: «Akọ i ṣojo àwé, akọ i ṣojo»[21]. Позже в тот день, инструктируя Вураолу для обхода его пациентов, профессор Кокер попросил ее объяснить, о чем говорил старик.
Вураола вздохнула, возвращая карту на место. Если пациент выкарабкается, может, он еще изменит свое мнение. То, что он про себя считал трусостью, и его бы избавило от неприятностей, и освободило бы койку в реанимации для кого-нибудь из тех, кому сегодня ночью придется отказать. У ее бедра завибрировал телефон, и она перешла к следующей койке.
Ректопексия – тут она задержалась. Пациент попытался перевернуться и скривился от того, как катетер напомнил телу, что для него возможно, а что еще какое-то время – нет.
Она достала из кармана халата телефон и открыла. Кунле. Захлопнула и сунула в задний карман джинсов, где он завибрировал снова, пока она брала следующую карту.
Панкреатэктомия – в отключке с полудня, может проснуться с минуты на минуту и тогда проведет всю ночь без сна. Но хотя бы – спасибо небольшому утешению морфина – без боли. Это была первая панкреатэктомия Вураолы с тех пор, как она пошла в хирургическую интернатуру. В ночь перед операцией она заснула только незадолго до рассвета, примостив голову на страницах «Клинической панкреатологии для практикующих гастроэнтерологов и хирургов». А в итоге на операции ей не дали даже прикоснуться к подносу с инструментами. В больнице больше месяца не было электричества, но на это уже мало кто обращал внимания. Истинной проблемой был дефицит топлива, длившийся уже с неделю из-за забастовки то ли водителей бензовозов, то ли нефтяников, то ли кого-то еще. Вураола часто слишком уставала, чтобы читать газеты дальше заголовков, но смогла понять, что какой-то профсоюз объявил забастовку, в результате возник топливный кризис и на больничной электростанции кончался дизель для генератора. После начала забастовки объявление с очередными правилами экономии энергии раскладывали по личным почтовым ящикам и прикалывали цветными кнопками к доскам. И если реанимационное отделение и отделение Харфорда[22] питались непрерывно, то другие отделения и операционные подключались, только когда того требовала процедура. Поэтому во время операции врачи работали молча и ничему не учили. Даже не просили интернов помочь. Двое хирургов будто решили, что если дефицит продолжится в том же духе, то терять лишнюю секунду на медленный разрез ординатора или неопытный шов интерна – значит лишить новорожденных электричества для работы вентилятора. Когда Вураоле наконец велели отвезти вместе с медсестрами пациента по темным больничным коридорам, она, ступив за дверь, засмеялась и не могла остановиться. Шесть лет обучения – и все, что от нее понадобилось за двенадцать часов операции, – это освещать дорогу медсестрам?
Операция прошла успешно. Но врачи уже знали, что это не спасет жизнь пациенту. Продлит? Да, на пару недель или месяцев, если повезет. Впрочем, везение ли это, если последние дни пройдут в мучениях или опиоидном тумане? Вураола не знала.
Каждый вечер приходил брат пациента и молился за него. Он уже не раз говорил Вураоле, что хирурги ошибаются, что пара месяцев растянется на годы, а потом и десятилетия, и после этих недолгих тягот пациенту суждено насладиться редким и прекрасным чудом – долгой и счастливой жизнью. И говорил так убедительно, что Вураола чувствовала себя жестокой, когда напоминала о прогнозе и повторяла то, что ему уже объясняли перед операцией. Панкреатэктомия на этой стадии рака – паллиативная мера.
Теперь брат стоял на коленях у койки пациента, прислонившись лбом к металлическому поручню, бормотал свои молитвы. Как обычно, прижимал к груди книгу в кожаном переплете. Медсестры делали ставки, Библия это или Коран, потому что во время часов посещения его в разных случаях и в равной мере сопровождали как женщины, которые садились у койки, скрестив ноги и поправляя хиджабы перед тем, как завести молитвы со своими тасбихами, так и женщины в белых одеяниях, трогавшие лоб пациента деревянными распятиями.
На прошлой неделе, перед тем как спросить, могут ли они приходить с ним или даже вместо него по ночам, он сказал Вураоле: «Доктор, вы, женщины, ближе к Богу, и мы все знаем – все знаем, – что молитвы лучше действуют после полуночи».
Вураола ответила, что приходить может только жена, дочь или мать пациента. Хотя бы двоюродная сестра, если закрыть на это глаза и согласятся дежурные медсестры, но все-таки обязательно родственница. Когда тот ответил, что его брат бездетен и не женат, их мать умерла много лет назад, а сестры живут за границей, Вураола чуть не попросила его соврать, что одна из тех женщин – сестра. Хоть его молитвы мешали и она уже представляла, что от двух или еще больше женщин после часов посещения будет только хуже, ее так и подмывало исполнить его желание. Пусть даже ради мимолетного утешения. Она почти не сомневалась, что после следующей гистологии набожному брату придется смириться с тем, что случится рано или поздно, несмотря на всю неколебимую веру.
Этот пациент поступил за месяц до хирургической интернатуры Вураолы. Когда медсестра впервые сказала, что его брат молился каждую ночь у койки, она преисполнилась восхищением. До сих пор она видела такое неколебимое упорство только в педиатрических отделениях. Там матери и изредка отцы часто неделями спали в коридоре. На деревянных скамьях или расстеленной на полу анкаре, подложив под голову сумочки или сложенные ладони. В ту первую неделю в хирургии она на каждом дежурстве задумывалась, стали бы брат или сестра в случае чего приходить к ней так же. Мотара в лучшем случае поселится в отеле недалеко от больницы, а Лайи пришлет деньги и будет навещать разве что пару раз в месяц. Он ненавидел больницы, хоть это он первый врач в семье – тот, чью фотографию с церемонии вручения диплома видишь сразу, входя в спальню их матери. Впрочем, Вураоле все равно было бы проще без них – только будут цапаться да действовать на нервы другим пациентам. А вот родители придут оба, тут никаких сомнений. Хотя если выбирать, кому с ней остаться, Вураола бы выбрала отца. В отличие от матери, чья нервозность обязательно проявится в бесконечных попытках учить врачей их работе, отец вел бы себя ненавязчиво. Поставил бы ей И.К. Даиро на своем «Дискмане», тихо подпевая под нос.
Молящийся клятвенно обещал не шуметь, но его бормотание неизбежно перерастало в стоны, слышные во всем отделении. И месяца не прошло, как восхищение Вураолы уже превратилось в раздражение. А теперь, когда снова завибрировал ее телефон, брат пациента вдруг издал такой гулкий стон, что у нее застучало в голове.
Столько лет и бесконечных часов учебы – а никто и не подумал предупредить, как часто придется общаться с родственниками и друзьями пациентов. Ничто не подготовило Вураолу к мужчине, который цеплялся за нее и пускал сопли ей на халат после выкидыша жены; к разъяренной женщине, которая дала ей пощечину, когда стало ясно, что ее сыну придется ампутировать ногу; к мужчине, который, узнав, что его друга уже увезли в морг, отказывался покинуть отделение, пока его не выволокла охрана. Никто не учил объяснять человеку, что его брат умирает от рака поджелудочной и он уже ничего не может с этим поделать.
Хотя, справедливости ради, какой-нибудь профессор мог об этом рассказывать, а она прослушала, потому что это было во время ее дежурства в психиатрии или работы на выезде. В предпоследний и последний годы медвуза все ее мысли были об интернатуре. Принимать роды, ассистировать на операции, оформлять пациента, составлять безупречный план лечения. Облегчение в часы за неустанными конспектами лекций во Второй медицинско-диагностической лаборатории дарили только подробные фантазии о будущих назначениях. О том, как она будет рада оставить эту многолюдную лабораторию и попасть в больницу. Гордо входить в отделения и операционные – даже в морг. Когда она сдала экзамены и пошла в интернатуру, начала фантазировать об ординатуре. Недавно она стала подозревать, что никогда не удовольствуется тем, что имеет. Может, она из тех, для кого счастье – только в будущем, вечно чуть-чуть вне досягаемости.
Она дотронулась до плеча молящегося. Он затих и припал к койке. Такой истощенный, чуть ли не труп. Он всегда был таким – или это просто потому, что сейчас его глаза без очков казались более запавшими, чем обычно? Она придвинулась ближе, пока он поднимался на ноги. Если при первой встрече он казался худосочным, то теперь его и сильный сквозняк сдул бы на другой конец палаты.
Не успела она открыть рот, как он ударился в обычные извинения.
– Дорогая, я не могу уйти. Я буду потише, эн. Шепотом. – Он понизил голос так, что его стало почти неслышно. – Теперь я буду шептать, эн, слышите?
Он отвернулся и положил руки на поручень, чтобы снова встать на колени.
Вураола сделала глубокий вдох.
– Мистер… мистер… вам надо уйти, сэр.
Он повернулся всем туловищем, вцепившись в поручень так, будто упадет, если отпустит.
– Дорогая, я не могу его оставить.
– Вам надо уйти. Сейчас же.
Он открыл рот, но ничего не сказал. Она пыталась поймать взгляд медбратьев, сидевших за стойкой у двери. Один крепко спал, а другой погрузился в большой учебник, поставленный на коленях под неудобным углом, – видимо, чтобы не уснуть. Если ситуация выйдет из-под контроля, всегда можно позвать его по имени или просто крикнуть «медбрат», потому что она слишком устала, чтобы еще помнить чьи-то имена, кроме своего.
– Я понимаю, что вы молитесь, – сказала она. – Но вы слишком шумите.
Она подождала, но он не стал возражать. Только неподвижно стоял. Не говорил ни слова, но и не закрыл рот. В его позе не было вызова, и ей стало ясно, что не будет ни споров, ни необходимости грозить охраной. Он не возражал – просто забыл, что делать с телом, когда не стоит на коленях.
– Я вас уже несколько раз предупреждала.
Шепотом, который она с трудом расслышала, молящийся сказал:
– Yèyé mi[23].
Вураола не знала, для нее ли предназначено это уважительное обращение или он взывает к своей покойной матери. Просит об утешении, которое она когда-то дарила, просит спасти его, брата или их обоих.
– Мне нужно думать и о других пациентах, – сказала Вураола.
Тот кивнул, отпустил койку и побрел на выход. Она проводила его взглядом до дверей, впервые заметив, что он прихрамывает на левую ногу.
Затем повернулась к пациенту. Пульс – восемьдесят ударов в минуту. Там, где его запястье, изборожденное морщинами, переходившими в линии жизни, было почти неотличимо от ладони, кожа была тонкой как бумага и шелушилась. Она поискала в кармане халата – жвачка, ручка, жвачка, запасная ручка, блокнот, еще жвачка, резинка для волос – вот! Она достала флакончик антисептика и выдавила каплю себе на ладонь. Растирая ее, заметила у ног пациента очки в серебристой оправе. Должно быть, его брат их снял, когда молился. Их линзы преломляли в ее сторону свет от ближайшей лампочки. Лучи били в лицо резко, как отповедь. Может, надо было разрешить ему остаться. Она представила, как он бредет по больничным коридорам, натыкаясь на стены, сбивая урны, падая в канаву по пути к парковке. Надо было разрешить остаться, но, поднимая очки и направляясь к двери, она все-таки подозревала, что он бы никогда не повысил голос громче шепота, если бы дежурным врачом был мужчина. Он бы не называл мужчину «дорогая». В этом она почти не сомневалась.
Спящий медбрат на посту уже проснулся и зевал.
– Я буду… – Вураола показала очками на дверь. – Вызовите, если…
Медбратья кивнули.
В коридоре было пусто, но до рассвета оставалась еще пара часов, и даже с очками он бы вряд ли ушел из больницы. В большинстве районов – по крайней мере, в таких, где, как она думала, он живет, – жители вводили комендантский час, который начинался после полуночи и кончался на рассвете. Передвигаться разрешалось только в случае медицинской необходимости. Сейчас многие улицы перекрыты, въезды охраняют от двух до полудюжины вооруженных людей. Некоторые заставляли нарушителей ползать по асфальту до рассвета. Но даже самые милосердные требовали дождаться завершения комендантского часа.
Она увидела его из конца коридора в отдалении, уже на улице, по дороге к больничной часовне. Она хотела его окликнуть: «Мистер? Мистер?» Потом подумала сказать просто «eskiss[24], сэр», но не смогла себя заставить. Она же знала, как его зовут, но как?
В медвузе, когда интерн впервые сказал ей проверить Хроническую Печеночную Недостаточность в мужском отделении, она поджала губы, гордясь тем, что помнит имена всех их пациентов наперечет. Но вот и года не прошло, а она бежит за тем, кого видит почти каждый день, и не помнит ни его имени, ни имени его больного брата.
Впрочем, она не спала почти трое суток. Дежурить три ночи подряд не полагается, но сейчас больница не могла себе позволить нанимать новых интернов. И вот позапрошлой ночью Вураола дежурила в мужском хирургическом отделении, прошлой ночью – в реанимации, а сегодня – опять в хирургии. В графике указывалась только ее интернатура в хирургии. Дежурство в реанимации должно было закончиться в полночь, так что это было не так уж плохо. Но вчера пациенты шли непрерывным потоком, а сменщик просто не пришел и не отвечал на звонки, и тогда она осталась до рассвета. Да, она проголодалась, устала и не помнит имени посетителя, зато все еще может поставить катетер. Она за весь день съела только пачку сухарей, зато знала, что если понадобится, то сможет провести трахеостомию и руки не будут трястись, – и, может, только это и важно. Что она сможет выиграть лишний час-другой для как-его-там, поддерживать жизнь, сколько возможно, пока его тело неизбежно не предаст само себя, на что обречены все тела.
Посетитель остановился перед церковью и какое-то время стоял, покачиваясь, на лужайке. Потом упал на колени, и Вураола замерла на месте, испугавшись, что сейчас случится что-то личное или стыдное. Может, он разрыдается или возопит на то божество, которому молился уже столько месяцев. Но он только лег на спину в траву, глядя в безлунное небо.
– Мистер… Прошу прощения, сэр, извините, я забыла, как вас зовут. Вы забыли свои очки.
Тот не ответил и не потянулся за очками.
– Сэр?
Вураола приблизилась и присела, инстинктивно потянувшись к запястью. Он захрапел раньше, чем она его коснулась, и она выдохнула. Рядом лежала его книга в кожаном переплете – названием вниз. Стараясь не шуметь, она положила очки в серебристой оправе на книгу. По дороге обратно в отделение она достала телефон.
Кунле звонил девять раз.
3
Ничего не изменится, даже если Эниола напомнит, что у них классы в разных зданиях. Мать все равно попросит дождаться Бусолу перед уходом из дома. Она хотела, чтобы каждый день они вместе ходили в общеобразовательную среднюю школу Великой Судьбы и обратно и даже заставила Эниолу пообещать, что он всегда будет провожать младшую сестру до парты перед тем, как пойти к себе в класс.
Чаще всего, когда они подходили к первому зданию – в белых носках, уже покрасневших от пыли после дороги, которая не занимала и десяти минут, – Эниола часто вспоминал о школе, куда отец обещал его зачислить. По дороге к ней наверняка нет красного песка. Там-то от общежитий к лабораториям и классам наверняка проложены тротуары, дорожки и травянистые тропинки.
Эниоле было девять, когда отец дал то обещание. Тогда он и представить себе не мог, что окажется в этой дурацкой школе Великой Судьбы. Тогда он учился в пятом классе и все его одноклассники готовились к общим вступительным экзаменам. Но его отец настаивал, что, раз начальная школа длится до шестого класса, Эниола должен перейти в него, а не в среднюю школу вместе со всеми.
Эниола неделями размышлял, как убедить родителей, что он уже готов к средней школе. Он был выше многих из JSS1[25], кого встречал по пути в началку, и оценки на контрольных и экзаменах у него всегда были лучше, чем как минимум у половины одноклассников. Он заучил все меры измерения и таблицы на задней стороне сборника упражнений «Олимпик» и мог рассказать таблицу умножения от «один на один равно один» до «двенадцать на двенадцать равно сто сорок четыре» и «четырнадцать на четырнадцать равно сто девяносто шесть». В недели перед девятым днем рождения Эниола подметал по утрам гостиную перед тем, как туда входила мать, перестал жаловаться, что его не пускают гулять и играть в футбол с соседскими детьми, потому что кому-то надо присмотреть за Бусолой, а из-за того, что был слишком мал, чтобы помыть отцовский синий «Фольксваген-жук» целиком, по утрам субботы отскребал хотя бы шины. Переживая, что его примерное поведение останется незамеченным, хоть, по его подозрениям, он вплотную приблизился к святости, однажды в воскресенье по пути на службу Эниола объявил, что хочет стать алтарным служкой. Когда мама ему не разрешила, потому что это будет отвлекать от учебы, он выдохнул с облегчением. Всю ту неделю он часто врал про то, что хочет стать служкой, и производил хорошее впечатление на отца, считавшего, что такое горячее желание показывает богобоязненность сына.
Тогда их дом был недалеко от яслей и начальной школы Кристал, и чаще всего Эниола ходил туда с соседскими детьми. В день, когда ему исполнилось девять, отец подвез его до школы. Он дулся, сидя рядом с отцом, пока праздничный торт – как он и просил, с белой, синей и желтой глазурью, – вместе с пачками печенья «Оксфорд Кэбин» и большой термосумкой с ледяным зобо[26] подскакивал на заднем сиденье. Даже при аккуратном вождении отца машину подбрасывало на рытвинах. Когда они подъехали к школе, Эниола было заговорил, но выдавил только: «Я единственный, у кого не будет Уго К. Уго в моем классе. У всех есть учебник. Разве это честно?» – и расплакался. «Разве это честно?» – ныл он снова и снова с усиливающимися всхлипами. Отец поглаживал его по спине, безуспешно пытаясь успокоить. Наконец он затих самостоятельно, увидев, что на него в опущенное окно глазеют одноклассники, проходившие мимо машины.
– Такое поведение… Слушай, мне нельзя опаздывать на работу. Лучше все обсудим вечером, – сказал отец, барабаня пальцами по рулю. – Ну, давай, занесем все в класс.
Эниола остался в машине, пока отец разгружал угощения с заднего сиденья. У машины собрались помочь дети, кричали Эниоле: «С днем рождения!» Он не отвечал. Не мог поверить в собственную глупость. Как он мог потратить столько часов перед зеркалом в ванной, готовясь к моменту после ужина, когда должен был обратиться к родителям со взвешенной речью? Он сидел молча, уставившись на свои сандалии «Кито» и борясь с желанием играться с ремешком на липучке. И где все те доводы, что он придумал, все рассудительные слова, которые он мог бы сказать вместо того, чтобы прохныкать «Разве это честно?», как маленький, кем его по-прежнему считают родители? Почему они все провалились в горло вместо того, чтобы сорваться с губ, как он хотел? Он снова заплакал, теперь уже тише, шмыгая, а не всхлипывая.
Он не заметил, что отец вернулся в машину, пока она не содрогнулась и не завелась со скрежетом. Эниола потянулся к двери. Отец взял его за запястье.
– Брось, сперва вытри щеки. Никому не показывай, что ты плакал.
Тем вечером отец подарил Эниоле новенькую книгу Уго К. Уго – сборник вопросов к общим вступительным экзаменам. Недолго он верил, что наконец убедил родителей, но счастье продлилось только до момента, когда заговорил отец.
– Слушай, теперь, если хочешь, можешь сдавать экзамены, но… – он поднял палец, – но только если выждешь год и доучишься в шестом классе начальной школы, который, как я тебе уже повторял без счета, – важная часть системы образования, очень важная, говорю тебе. Хоть в наше время большинство школ и делают, как захотят. Если ты сделаешь правильный выбор и проучишься шестой класс, поступишь в государственную школу в Икируне. Выбор за тобой.
Эниола мечтал о школе Федерального Единства в Икируне с тех пор, как Коллинз, сын соседей сверху, поступил туда три года назад и возвращался каждые каникулы с такими историями о веселье и свободе, какие, знал Эниола, невозможны в школе поблизости с домом. Когда бы он об этом ни заговаривал, мама всегда отвечала, что не разрешит уехать ни в этот, ни в любой другой пансион. Она без конца рассуждала, что он еще маленький, старшие будут над ним издеваться, он может вступить в банду и уж обязательно вернется домой без всяких манер или здравого смысла. А теперь, когда отец каким-то чудом уговорил мать отпустить его в школу Федерального Единства, Эниола долго не раздумывал и согласился доучиться в началке еще год.
После такого обещания ему было легче слушать, как одноклассники хвастаются своей средней школой. Он тоже мог им порассказать, как будет учиться в школе Единства. Только через год, да. Но кто-нибудь из них учится в пансионе? В школе Единства? Эниола находил, как ввернуть ее в разговор, чуть ли не каждый день, пересказывал истории Коллинза, пока не увидел, что кое-кто из друзей начал завидовать. Их зависть служила утешением, когда они сдали общий экзамен и поступили в разные школы, а он остался в шестом классе с двумя мальчиками, провалившими все общие экзамены. Скоро он будет как Коллинз. Тоже будет возвращаться домой три раза в год, а остальные парни в районе будут собираться и слушать, чем он занимался вдали от родителей. Он думал об этом каждый день по дороге в школу и домой. Ходил он один, потому что его друзья уже не были его одноклассниками, и, хоть он скучал, это было не так важно. Скоро он будет как Коллинз. А это искупит все; надо только подождать.
А потом, в конце первого семестра шестого класса, всего за пару недель до Рождества, его отца и больше четырех тысяч учителей штата уволили. Сначала дома все шло как обычно. Отец продолжал уходить по будням в семь утра – галстук завязан, волосы блестят там, где не до конца расчесана помада «Морган», боковой пробор на месте. Эниола по-прежнему верил, что поступит в школу Единства в Икируне, как и планировалось. В конце концов, это только вопрос времени, когда губернатор поймет, что губит общественные школы, восстановит всех учителей и лично извинится перед каждым. По меньшей мере восстановит хоть кого-то, и отец Эниолы с его опытом и квалификацией обязательно будет среди тех, кого позовут обратно. Это скоро случится. Ну как продолжать школьную программу без истории? Как? Ночь за ночью Эниола засыпал на диване рядом с Бусолой, пока их родители повторяли этот разговор вместо вечерних молитв.
По радио один из помощников губернатора объяснил, что большинство сокращенных учителей вели такие предметы – изобразительное искусство, язык йоруба, правильное питание, исламская и христианская религии, – которые никак не помогут развитию страны.
– Зачем нашим детям в современности йоруба? Зачем? Понимаете, сейчас нам нужны технологии – наука и технологии. А какой тут толк от акварели? Разве не этому их учат на изо? Акварели.
И человек по радио рассмеялся.
Рождество пришло и ушло. Наступил первый день нового года, и на ужин пришли друзья родителей, многие из которых тоже остались без работы. Пока тот человек смеялся, Эниола обнаружил, что, хотя в тарелке перед ним перечный суп, он больше не чувствует остроты перца или вкуса мяса. Он будто пил из ложки воду. Вернувшись в школу, среди новых слов, выученных за рождественские каникулы, он записал «восстановление» и «сокращение».
Через несколько месяцев, по дороге домой из школы, перед ним пронесся голубой «жук» его отца. За рулем сидел какой-то лысый незнакомец. Когда он вернулся, мать ответила о машине требованием, чтобы он сперва сделал домашнюю работу, а не задавал дурацкие вопросы, убрался на кухне, а не тревожил ее покой, подмел передний двор метлой, а не портил ей жизнь. Только через неделю она сказала, что машину продали. К тому времени отец уже перестал выходить из дома в семь утра, больше не садился за ужин с семьей и почти весь день не появлялся из комнаты. Утреннюю молитву «Преданность драгоценной крови Иисуса Христа» стала начинать мать, запинаясь на словах, которые Эниола произнес бы даже во сне.
Скоро пришлось съехать из трехкомнатной квартиры, где они жили до увольнения отца. Когда семья перебралась в нынешний дом – по соседству, но будто почти в другом веке, – Эниола думал, что это только временно. Верил, что самое большее через несколько месяцев они снова заживут в доме, где есть водопровод и хотя бы один туалет. Надо было понимать, уже когда они съезжали из дома, где была кухня и жалюзи, – после того, как продали телевизор, кровати и диваны; перед тем, как отец пытался продать и видеоплеер, но никто не покупал, потому что даже видеоклубы теперь давали напрокат только компакт-диски, – надо было понимать уже тогда, что родители теперь не смогут оплатить учебу в школе Единства в Икируне. Но ведь отец преподавал историю. Отец преподавал историю, а тот смеющийся человек по радио не назвал историю в списке бесполезных в современности предметов. История еще что-то значила. Так сказал его отец.
В новом доме отец будто застыл. Часами не поднимался из постели, спиной к комнате, лицом к стене, часто отказывался есть. Когда Эниола спросил, сможет ли он еще поступить в школу Федерального Единства, тот как будто не услышал.
Мать Эниолы распродала все свои драгоценности, и им хватило на зачисление и первый семестр в общеобразовательной средней школе Великой Судьбы. Школа Федерального Единства была слишком дорогой, но и сдавать сына в какую-нибудь бесплатную государственную она не собиралась.
– Говорят, это бесплатное образование. Бесплатное-то бесплатно, но половины учителей нет, – сказала она, пряча шкатулку с драгоценностями в сумку, чтобы отнести малламу[27], который что-то купит. – Это как обещать бесплатный обед и потом кормить вареными палками. Начни пока в Великой Судьбе, а потом переведем тебя куда получше, не волнуйся.
Школа Великой Судьбы находилась в бывшем трехэтажном доме зажиточного торговца. В дни рождения или на церемониях присвоения имени было обычным делом слышать о нем от священников или имамов, когда они молились: «Пусть богатство придет к вам из фермы в дом, как пришло к Аденреле Арему Макинве».
Говорили, что дети торговца после его смерти, уверенные, что их доли хватит на любые расходы, целую неделю забивали по дюжине коров каждый день, угощая званых и незваных гостей, которые ели, пили и плясали под пологами, накрывавшими половину улицы. На одном таком празднике Эниола побывал с отцом. Ему тогда, должно быть, было шесть лет. Мама была беременна Бусолой, они еще жили на той же улице в доме с жалюзи и туалетами. Теперь, возвращаясь из школы домой, он иногда вспоминал тот день десять лет назад. Как шел по этой самой улице на поминки, и люди останавливались, чтобы пожать отцу руку, не обижаясь, что он протягивает левую, потому что правой держал за руку Эниолу. И как перед возвращением домой Эниола с отцом не взяли со стола ничего, кроме пластмассовых вееров с тисненым лицом покойного, – хотя мать не смогла пойти с ними, а еды хватало на черный полиэтиленовый пакет, который она сейчас прятала в сумочке, когда ходила на приемы без приглашения. Тогда дома всегда была еда – и не приходилось притворяться, что им еще ничего не подали, чтобы получить лишние тарелки джолофа[28], который мать ссыпала в пакет и прятала в сумочке, пока никто не видит.
Эниоле нравилось вспоминать похороны, как в тот день он шел по улице вприпрыжку и держал за руку мужчину, которого останавливали и приветствовали другие. Иногда эти воспоминания помогали забыть, что теперь отец выходил из дома по ночам, потому что в темноте его не узнавали кредиторы.
Когда госпожа Сулейман, учительница начальной школы на пенсии и хозяйка школы Великой Судьбы, купила здание у детей Макинвы – за несколько месяцев до того, как открыть там школу для десятка учеников, – она приходила домой к Эниоле и предлагала его отцу должность директора. Эниола, доедая ужин, смотрел из-за стола, как тот откинулся на мягком кресле, которое продаст пару лет спустя, и рассмеялся. Тем же высоким голосом, каким он часто упрекал детей, отец сказал госпоже Сулейман, что из ее школы выйдут только «недоделанные выпускники» и что он ни за что не бросит государственную школьную систему, чтобы участвовать в «халтурном проекте», у которого нет государственной лицензии. Поэтому, даже сдав экзамены и продолжив младшее среднее образование в школе Великой Судьбы, Эниола еще верил, что ни в коем случае не проведет здесь все шесть лет учебы. В будущем, причем ближайшем, ждала школа Единства в Икируне.
Весь первый семестр в Великой Судьбе Эниола частенько говорил одноклассникам, что уже на следующий год будет учиться в настоящей школе, с настоящими классами, где стулья не упираются в шкафы. Там ученикам не приходится визжать, когда урок социологии посещает семейство крыс, живущее в одном из шкафов.
За долгие каникулы в конце его первого года, в один дождливый день в середине августа, пропали три сумки в стиле «Гана должна уйти»[29], куда перед переездом из старого дома сложили отцовские книги. Теперь ему не надо было спрашивать, что случилось, как он спрашивал о машине, мебели, телевизоре, радио, холодильнике. И все-таки он спросил и, когда мамин ответ потерялся в шуме грома и дождя, понял, что в середине сентября вернется на второй год в тот рассыпающийся трехэтажный дом. Спасения не будет.
После того как пропали книги отца, Эниола старался забыть о школе Единства. Но одноклассники – особенно мальчишки, которых он спрашивал, почему родители не зачислят их в школу, где не приходится делить столовую с крысами, ящерицами и время от времени змеей, – забыть не давали. В начале каждого школьного года – JSS2, JSS3, SS1 и вот теперь в SS2 – они интересовались, почему он вернулся в Великую Судьбу. Что такое, дороги в Икирун перекрыли? Школа Единства больше не набирает учеников? Закрылась? Сгорела? Затоплена? Незадолго до окончания JSS3 несколько ребят в классе стали звать его Единством, а не Эниолой, а когда он перешел в старшую среднюю школу, Единством его звали уже почти все, даже девочки. Так его окликнули и теперь, когда он подходил к дому с Бусолой. Он поднял взгляд и широко улыбнулся, будто ему нравится прозвище. Никому не показывать, что ты плачешь.
– Иди к своим друзьям, – сказала Бусола. – Не надо провожать меня до класса.
– Он не мой друг.
В прошлом году администрация перевела все младшие классы в новое здание посреди густого леса, в который когда-то упиралась улица. С тех пор к новому корпусу Великой Судьбы протоптали тропинку. Она опускалась в овраг и пересекала ручей, затем забиралась обратно, и приходилось карабкаться к некрашеной коробке с классами посреди поляны – острову, окруженному со всех сторон зарослями и высокими деревьями. Эниола ходил туда каждое утро, хотя его класс находился в старом трехэтажном доме. Провожал Бусолу, пока они не выходили на край поляны и ей не оставалась пара шагов. Всю дорогу от дома она твердила, что ее не нужно провожать.
Она уже взрослая и может ходить в школу сама, он что, не понимает?
Она не расскажет маме, если он отпустит ее одну, всего разок, только сейчас.
И кто провожал в школу его в ее возрасте? Разве он не ходил сам? Почему надо провожать ее? Потому что она девочка?
Эниола научился не обращать на нее внимания, натренировался уходить в свои мысли, так что слышал голос как будто издалека, не разбирая слов. Его дело – довести ее до школы, и, если, как говорит мать, его присутствие сделает дорогу Бусолы безопасней, пусть сестра говорит что угодно – он не передумает. Он дал слово матери.
Часто Бусола повышала голос, когда они проходили мимо трехэтажного дома, будто громкость убедит его повернуть направо и подняться в свой класс. Но у ручья Бусола смирялась с его присутствием.
– Теми нашла вчера за школой кешью и говорит, что орехи созрели, – сказала она теперь, наступив правой ногой на один из камней, служивших мостиком через мелкий ручей. – Мы пойдем туда на переменке.
– Это та же Теми, которую ты на прошлой неделе назвала врушкой?
Бусола раскинула руки, переходя по камням и покачиваясь из стороны в сторону. Эниола шел рядом, наклоняясь вслед за ней, чтобы поймать, если не удержится. Всегда, когда они переходили ручьи, Бусола вскидывала руки, как птица, словно того гляди взлетит. Она так делала с детства, даже когда была такой маленькой, что ее носили на руках.
– Не ходи за Теми в буш на переменке, Бусола, вдруг за школой водятся змеи.
– Я ничего не боюсь. – Она стряхнула с юбки пыльцу, налипшую на подол, пока они шли по траве.
– И тараканов больше не боишься, эн?
– Иди уже, хватит за мной ходить. Хочешь, чтобы все считали меня маленькой? – спросила Бусола, сверкнув глазами, когда они подошли к зданию.
– От незрелых кешью будет болеть живот.
– Это sha не твой живот. Иди, jàre. Опоздаешь на линейку.
Эниола отвернулся и направился к тропинке. Ступив на нее, оглянулся на школу, чтобы проверить, что Бусола ушла и не видит его. И тогда побежал. Он боялся многого. Боялся бушей и лесов, даже травы ростом по колено. Когда он шел на тропинке до и после ручья, проложенной в слоновой траве выше человеческого роста, то не мог избавиться от ощущения, что в зелени прячутся ивины, которыми мать пугала его в детстве. Конечно, теперь-то он знал, что она просто не хотела, чтобы он играл в буше, но все-таки. Все-таки он чувствовал давящее присутствие, оказываясь один в такой чаще. Это потом можно будет думать, что присутствие – всего лишь его собственный страх, разросшийся больше тела, излившийся в виде второй тени, что кралась за ним в траве. Но сейчас каждый раз, как ноги касались земли, он представлял себе змею – зеленую, сливающуюся с зарослями, и то, как она сворачивается на его лодыжках и впивается ядовитыми клыками в кожу. Он бежал быстрее и быстрее, остановившись только на той стороне, где долго стоял, упершись руками в коленки, чтобы отдышаться.
Он поднял взгляд к балкону верхнего этажа и увидел, что там выстроились ряды учеников. Утренняя линейка уже началась. Он опаздывал, но не настолько, чтобы его наказали. Или так он надеялся, шагая к зданию как можно быстрее, несмотря на боль в левой лодыжке. Сбоку здания была лестница, которую пристроили, когда первый этаж затопило во время дождей. Он бросился по ней, не встречая других учеников, и вылетел на балкон третьего этажа. Там он попытался слиться с собравшимися, не привлекая взгляда учителя, и проскользнул в конец ближайшего ряда, не проверяя, к своему ли классу попал.
Мистер Бисаде, единственный учитель математики в школе, а также ее директор, произносил речь. В одной руке он держал трофей с кисточками, а в другой – кнут. Рядом стоял Хаким – лучший ученик в классе Эниолы уже с самого JSS1. Улыбаясь и поднимая приз над головой, директор нудел о том, что Хаким заработал для школы очередную награду на очередной межшкольной олимпиаде. Хаким – с глубоко посаженными глазами и таким торчащим лбом, будто его приделали к нему под конец, чуть не забыв, – был не только единственным в классе Эниолы, кто получал награды за межшкольные олимпиады или дебаты: он единственный во всей школе возвращался с соревнований хоть с каким-то признанием.
– Мы тобой очень гордимся, – сказал мистер Бисаде, вручая приз Хакиму.
Тот поклонился так, будто сейчас падет ниц, но мистер Бисаде схватил его за плечи и крепко обнял.
– Óyá, похлопайте Хакиму. Вас еще просить надо? – сказал мистер Бисаде, щелкнув кнутом. – Громче, громче, громче!
Аплодисменты заглушили голос директора.
Хаким вернулся с призом на свое место в конце, протиснувшись между рядами. Когда он проходил мимо, Эниола протянул руку для рукопожатия, но Хаким сжимал приз обеими руками и не расстался бы с ним даже на пару секунд.
Мистер Бисаде стоял перед учениками подбоченясь, говорил что-то, что никто не слышал, и улыбался так, будто хлопали ему. Когда начались одобрительные выкрики, он прищелкнул кнутом – и овации прекратились.
– Сегодняшнее наставление, – начал мистер Бисаде зычным голосом, который приберегал для ежедневных отрывков из Библии или Корана, – будет из Библии. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду»[30]. Далее: администрация просила передать, что вы должны заплатить за учебу до следующего понедельника. Видите, как великодушно, эн? Вам дают целую неделю. Если вы уже заплатили, скажите школьному бухгалтеру – и вам выпишут чек. Если не заплатите к началу следующей недели, можете вообще не приходить. Всех должников?..
– Выпорют и отправят домой, – ответили несколько учеников.
– Должников?
– Выпорют и отправят домой.
В этот раз хор был громче. Такой громогласный, что отдался в груди Эниолы. Или это его сердце снова застучало так, будто он еще бежит? Скоро придется сказать об этом родителям – может, и сегодня вечером. Он почти не помнил слов, пока они пели школьный гимн, и правая рука дрожала, когда он положил ее на сердце во время присяги на верность стране.
Соседское радио работало слишком громко. Если бы отец Эниолы обращал внимание, слышал бы даже вдохи диктора между предложениями. Он думал, что радио слышно и в домах вокруг, но все-таки никогда не жаловался соседке. Да и как тут пожалуешься – он еще не вернул ей три тысячи найр. А что важнее, Баба Эниола, оставаясь дом один, был благодарен любому звуку, который отвлечет от тьмы, что ползала в его мыслях.
Тьма была с ним, сколько он помнил, глодала края его разума. К подростковому возрасту он к ней уже привык. К тому, как она приходила и уходила, словно сезонная простуда. Он замыкался в себе, дожидаясь, пока отчаяние развеется, пропускал встречи с друзьями или официальные мероприятия, не находил утешения или удовольствия во всем том, к чему обычно обращался в припадках печали. Он понимал, что тьма вернулась, когда на целые дни пропадал аппетит, когда его больше не захватывали любимые книги. Взрослым он уже усвоил режим этой тьмы, всегда мог рассчитывать, что она пройдет через дни или недели. До сих пор.
Диктор попрощался. Закончились дневные новости; Эниола и Бусола вернутся через час. Перед уходом жена сказала ему, чтобы дети обедали гарри[31]. Он встал с постели и подошел к буфету. Если он не может заставить себя выйти из комнаты, хотя бы приготовит им обед. Он отмерил гарри. Всего один стакан – даже не достает до края. И это все, что смогла наскрести жена.
Сейчас она снова ушла – наверное, копается на свалках в поисках выброшенной пластмассы и бутылок, чтобы перепродать. И он должен быть там, с ней, искать работу, стирать чужую одежду или мыть туалеты, искать бутылки на свалках или таскать мешки цемента на стройке. И ведь всего несколько месяцев назад он еще мог. А потом они однажды пришли на свалку, и он сам не заметил, как заплакал, пока его не приобняла жена. Он не заметил, что его трясет, пока не двинулся с места, когда она повела его домой.
Что вызвало слезы? Понимание, что все его образование было впустую и все решения – ошибочными, если привели к моменту, когда его жена перебирает чужой мусор? Знание, что, если им попадется старая футболка, ее отстирают, чтобы Эниоле было что надеть?
Эниола вымахал за пару лет, теперь уж выше отца. Бабу Эниолу потрясала мысль, что сын все растет, живет без стольких нужных вещей. Он многое надеялся предложить своему сыну, но с каждым годом почти все теряло смысл. Время неумолимо, оно не останавливается, даже чтобы дать людям шанс отскрести себя с пола, когда их размажет. И вот сын продолжал расти, хоть они не могли позволить себе его одевать. Баба Эниола потерял дар речи от гордости, когда сын так быстро перерос своих сверстников. Но теперь штанины несчастного мальчика поднимались все выше и выше над его пепельно-серыми лодыжками.
Диктор объявил время – два часа. Время новостей. Баба Эниола поднял жестянку с гарри. На двоих детей не хватит. Он спросил себя: неужели и сегодня Бусола будет топать по комнате и возмущаться из-за своей порции? Она была не из тех, кто сносит страдания молча. Баба Эниола предпочитал это молчанию своего сына. Хотя бы понятно, что у нее на уме. А что кроется за тишиной Эниолы, он никогда не мог понять. Отчаяние? Обида? Презрение к отцу, который подвел семью?
Диктор объявлял, что в штате открыта регистрация избирателей для выборов в следующем году. Баба Эниола взглянул на свой шрам, бегущий от запястья к локтю. Он не мог думать о выборах, не вспомнив время в Акуре после августа восемьдесят третьего[32]. Он тогда навещал в Акуре дальнего родственника, местного политика. Через несколько дней после его приезда на Методист-Черч-стрит нагрянули бандиты и окружили дом его родственника. Баба Эниола и несколько кузенов смогли сбежать через забор с детьми политика. Большинство остались невредимы, но Бабе Эниоле бандит успел порезать руку, когда тот перелезал через забор. Политику повезло меньше. Его поймали, протащили по улицам и сожгли заживо.
Баба Эниола вздохнул. Налил большую миску воды и засыпал гарри, надеясь, что оно окажется из того, что хорошо разбухает. Через считаные минуты крошечные шарики заполнили миску. Баба Эниола сел на кровать с облегчением и спокойствием от слабого чувства, что чего-то достиг. Теперь оба ребенка наедятся.
Первой ворвалась Бусола, что-то напевая про себя. Вместо приветствия она протянула ему листок.
– Смотри, Баами, сегодня внезапно провели контрольную, и я получила десять из десяти.
Баба Эниола взял листок. Ее учитель приписал красной ручкой под оценкой: «Превосходно».
– Добрый день, сэр, – сказал Эниола, войдя в дом.
– Во всем классе никто не получил больше шести, – лучилась от счастья Бусола. – А у меня – десять из десяти.
Баба Эниола просмотрел задачки. Хорошо. Тема касалась физики. Этот ребенок не повторит его ошибок. Вырастет доктором или инженером. В худшем случае – бухгалтером. Он не допустит, чтобы она растратила свои таланты на то, что не ведет к богатству. Она даже умнее его – так зачем разрешать ей идти в ботанику или что еще она там недавно плела?
Он часто узнавал в дочери себя. Когда видел, как она вдыхает запах книги перед тем, как открыть, он понимал ее радость. Его ранило, что он не может отвести ее в книжный магазин и смотреть, как она бродит в восторге, который когда-то знал он. Видел он в ней и свою наивность. Вот откуда ее заявления о ботанике. В начале учебы у него был выбор. Он мог бы склониться к науке – к тому, что его родители считали практичнее и полезнее, – но нет, он выбрал то, что любил. Историю.
Потом, когда кое-кто из друзей-учителей ушел в бизнес и сосредоточился больше на своих магазинах, чем на учениках, Баба Эниола посвятил себя преподаванию. Его всего поглощала программа, которую он хотел отпечатать на мозгах учеников. Что он там нес в начале семестра? Понимание прошлого подготовит их к будущему… или еще какую-то ерунду. Тогда его упорство казалось чем-то благородным и почетным. И вот к чему оно его привело.
– Ты ничего не говоришь, – сказала Бусола.
– Что?
– Просто смотришь на контрольную и не хвалишь меня.
Баба Эниола вернул ей листок. Он был ей благодарен – она все еще что-то от него требовала. Думала, что он способен не только на раздумья, в которые он так часто погружался, не только слоняться по дому день напролет. Время от времени ее веры хватало, чтобы развеять тьму.
– Молодец, – сказал он. – Молодец.
Она разулыбалась и кивнула.
– Есть что на обед? – Эниола переодевался из школьной рубашки.
– Да. – Баба Эниола показал на миску гарри.
Бусола схватила ложку и принялась за дело.
– Уже все размякло. Зачем налил так много воды?
– Не жалуйся, – сказал Эниола.
– Зачем так размачивать, если нет ни сахара, ни земляных орехов?
Эниола взял ложку.
– Чтобы хватило нам обоим.
– Я не с тобой разговариваю. – Бусола бросила ложку на стол. – Я не могу это есть. Баами, тебе отвечали с работ, куда ты писал?
Бусола ждала объяснения, которого он дать не мог. Баба Эниола спрятал от нее глаза. Боялся, что если заговорит, то разрыдается. Лег на кровать и почувствовал, как вся энергия отливает и сменяется отчаянием. Даже приготовить обед детям не получилось. Бусола повторяла вопросы, на которые он не мог ответить, не погрузившись во тьму. Никому не нужен учитель истории. Даже жалким частным школам, которые он когда-то презирал. Они уже не включали историю в список предметов. Если он скажет об этом Бусоле и снова расплачется, чего теперь иногда даже не замечал, не раздавит ли его тьма?
Баба Эниола отвернулся к стене. Бусола продолжала спрашивать. Эниола прощался, говорил, что идет в мастерскую тети Каро. Голоса детей доносились слабым эхом, и этого не хватало даже для того, чтобы поднять голову или попрощаться с Эниолой.
Перед бунгало тети Каро стояли две таблички. Одна – черная и высотой по колено, с надписью: «ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ КАРО». Она была там задолго до того, как Эниола устроился к ней в подмастерья год назад, и буквы почти выцвели. Другая табличка – куда больше, выше самого дома – появилась всего через несколько месяцев после начала его учебы. Эту табличку и новую швейную машинку тетя Каро подарила самой себе на пятидесятилетие. Блестящие черные буквы на белом фоне гласили:
«ПЕРВЫЙ КЛАСС»
МЕЖДУНАРОДНОЕ МОДНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОТЕЛЬЕ
Обращайтесь к нам, если нужны деловые костюмы, ашо-эби и
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ.
Мы работаем с кружевами, парчой гини, анкарой и адире.
Только женская одежда. Не мужская.
Иначе вас приговорит суд[33]
Тетя Каро была тощей как швабра и выше многих мужчин. Эниола знал только двух человек выше себя, и одной из них была тетя Каро. В основном она ходила в бубу[34] до лодыжек, одного стиля – вырез в виде V, фасон в виде А, всегда расшитые вдоль подола золотыми или серебряными нитками. Сейчас она стояла на улице и держала на весу полотно адире[35], разрезая его ножницами напополам.
Ее двор был приподнятой над улицей бетонной плитой с тремя ступеньками.
– Hin kúrọ̀lẹ́[36], тетя Каро, – приветствовал ее с последней ступеньки Эниола.
Она взглянула на него и что-то сказала, но он не расслышал из-за рычания черно-желтого генератора в углу двора.
Эниола взял один конец ткани и отходил, пока она не натянулась. Хмурясь, тетя Каро приближалась к нему щелчок за щелчком, пока они не встретились. Она дважды хлопнула его по плечу в благодарность. Один раз – это предупреждение, два – «спасибо». Три – уже сложнее, это могло значить как «молодец», так и «прекрати», в зависимости от скорости.
Тетя Каро отдала адире ему и подошла к генератору – возиться с проводом. Он подошел вместе с ней, почему-то чувствуя, что должен смотреть, что проверяет и чинит она, хоть сам ничего и не понимал в генераторах. Отца уволили до того, как во дворе или коридоре чуть ли не каждого дома на их улице стало содрогаться одно из этих чудищ. Их выставляли во дворы на день и прятали в коридорах на ночь. К этому порядку пришли, когда один генератор украли, и его хозяин до утра выкрикивал проклятия и обещал вору, что не пройдет и трех дней, как его сердце пронзят духовные стрелы. Они божились, что генератор украл его сосед, но, хоть вскоре после происшествия подозреваемый и начал прихрамывать, он остался жив и через три дня, и через три года. Вообще-то как минимум еще год на улице никто не умирал – даже настолько больная старушка, что ее дети уже дважды перекрашивали ее дом в подготовке к грандиозным похоронам. Скоро зашептались и о том, у кого украли генератор, – будто он сам состоял в вооруженной банде грабителей и его просто настиг эсан[37]. Но главное, после того происшествия никто не оставлял генератор на улице на ночь. В основном они были черно-синими – или черно-желтыми, прозванными «Я круче соседа». Достаточно дешевые, чтобы многие жители могли себе позволить новенький или бэушный, и достаточно маленькие, чтобы на ночь их мог занести в дом даже подросток. Эниола знал: если бы у его семьи был «Я круче соседа», отец бы его научил, как правильно дергать за стартер, чтобы завести. Сейчас бы генератор уже поручили Эниоле, и он бы каждую неделю его заправлял и все такое.
Тетя Каро относилась к генератору как к своей новенькой швейной машинке. К нему не разрешалось прикасаться никому из подмастерьев – даже кончиком ногтя. Теперь, когда его рычание стало громче, а вибрация такой сильной, что он заплясал на месте, тетя Каро выпрямилась и вытерла руки о бубу. Забрала у Эниолы адире, накинула через плечо и двинулась к дверям. Он последовал за ней в коридор, деливший дом на две квартиры. Иногда, обращаясь к подмастерью, закончившему год учебы, тетя Каро могла рассказать, что никогда в жизни не жила в другом доме. Этот построили из глины еще до ее рождения, а когда он перешел ей от родителей, она заштукатурила стены и покрасила в ярко-голубой цвет. Это еще до «Первого класса», в двадцать лет, на деньги, заработанные эджиканисообу[38], когда она таскала свой первый «Зингер» на плече с улицы на улицу. От Кока-Кола-стрит до Исале-Дженерал, от Илери до Айесо, зашивая и латая от дома к дому. Она копила годами, растягивала ремонт, переходя к следующему этапу, только когда хватало на мешок цемента или на ведро краски.
Эниоле ее дом казался странным – он не понимал, почему она не снесла этот и просто не построила взамен новый. Маленький и старый, неровно покрашенный, шелушившийся, если притронешься к стене. Но тетя Каро гордилась своей работой и, когда ученики прощались с ней, продолжала приводить дом в пример того, чего можно достигнуть швейным мастерством.
Когда ее родители были живы, вся семья жила в одной квартире, а вторую сдавала. Теперь в одной квартире жила тетя Каро, а вторую и коридор она переделала в «Первый класс». То, что раньше было спальней, стало лавкой с полками, где лежали метры анкары и отрезы атласа на продажу. В бывшей гостиной стояли шесть швейных машинок и два длинных стола: один – для ткани, второй – с законченными нарядами, которые надо было погладить. В коридоре стояли две скамейки для посетителей, но если приходила особенно богатая или ценная гостья, то тетя Каро провожала ее через коридор в собственную гостиную. Иногда она разрешала посидеть там и Эниоле, примостившись в мягком кресле, с тетрадкой на коленях, чтобы доделать домашнюю работу. Время от времени она заходила и, деловито подбоченясь, заглядывала ему через плечо, прищуренно наблюдая, как ручка движется по странице, хоть они оба знали, что она не может прочитать то, что он пишет.
В первый месяц ученичества тетя Каро научила Эниолу отмерять и отрезать. Доверила ему швейную машинку рядом с собой и показала, как делать швы. Но когда настал последний день месяца и его родители не заплатили за ученичество, она позвала его в сторонку и сказала, что больше не может его обучать. Она понимала, что его отец безработный, но и ей нитки и иголки не достаются бесплатно. Он же ее понимает, эн? Он по-прежнему может ходить в «Первый класс» после школы и смотреть, как тут работают, но она не будет обучать его на швейной машинке, пока родители не заплатят.
У нее были три ученицы, которые платили. Функе, самая старшая и уважаемая, проучилась у тети Каро уже два года – ей оставался год до свободы. С рекомендацией тети Каро она бы без труда вступила в Союз портных и открыла свою мастерскую.
Мария и Сейи поступили всего за несколько месяцев до Эниолы, но раз они платили, то и знали уже намного больше него. Теперь они умели шить юбки, иро, буба[39] и даже бубу от начала до конца, не спрашивая тетю Каро. А это значило, что он был для них мальчиком на побегушках – ведь его дела могли подождать, а они занимались тем, что в конце концов наденет клиент. Иногда он притворялся, будто не слышит, когда его посылали за холодными напитками и чипсами. В отличие от тети Каро и Функе, они никогда не оставляли ему глоток колы или фанты в бутылке. Сейи и Мария выпивали все до последней капли, а потом еще просили отнести обратно пустые бутылки и принести сдачу – та удерживалась, пока не вернут бутылки. Они его гоняли, даже когда не работали, будто он им какой-то слуга. Сейи была даже не старше его. До JSS3 они вместе учились, но потом она забеременела и ее исключили из школы, потому что, как заявил на линейке мистер Бисаде, ее присутствие вредит школьной нравственности. И хоть мистер Бисаде об этом не упомянул, все знали, что забеременела Сейи от Ахмеда – другого ученика. На церемонию присвоения имени Сейи и Ахмед надели костюмы из одинаковой кружевной ткани, Ахмед прочитал вслух имена ребенка[40]. Сейчас он учился в SS3.
Эниола еще терпел, если его посылала Мария, но Сейи? Он ненавидел ее за непринужденную легкость, с которой она его гоняла, будто они не сверстники, и за непосредственность, с которой она доставала найры из лифчика так, что он на кратчайший миг все видел. И до самого магазина чувствовал на купюрах тепло ее кожи – и всегда, всегда испытывал желание поднести их к носу, к губам. Два раза, когда ему хватало своих денег, он еще несколько дней хранил купюры Сейи, прижимал к щекам с закрытыми глазами, представлял, как они касались ее груди. Как мог бы прижиматься к ней и он.
Эниола сидел напротив швейной машинки Сейи, за столом с метрами кружев и журналами «Овейшен». Ему нравилось при случае полистать журнал, погрузиться в другой мир на глянцевых страницах. От этого возникало ощущение, будто он готовится к жизни, которая его ждет – когда-нибудь, как-нибудь. Тетя Каро хранила старую подшивку, чтобы клиенты могли выбрать стиль из бесчисленных вариантов у женщин, которых фотографировали на какой-нибудь большой вечеринке в Лагосе, Лондоне, Абудже, Париже, на каком-нибудь острове, чье название Эниола произносил одними губами, но не смел сказать вслух. Он разглядывал мужчин, таких цветущих в ашо-оке агбада, с высокими горами складок на плечах, таких царственных в халатах Джорджа[41] и в рубашках белых, будто отражающих солнце. Он разглядывал их наручные часы, фотозоны с логотипами, на фоне которых они позировали, позолоченные кресла, где они сидели, коралловые бусы на их шеях – из множества ниток или из одной, до самого живота. Как они хмурились или улыбались камере, положив руку на плечо сидящей жены или на свой большой живот, говоривший о хорошей жизни.
– Ты сюда «Овейшен» пришел читать? – спросила Сейи раньше, чем он перелистнул первую страницу. – А, или там про твоих родных пишут, àbí?
Мария рассмеялась. Смех хлестнул Эниолу как пощечина. Его родные не могли даже купить журнал.
Сейи протянула ему голубой халат.
– Сама не можешь сложить? – спросил он, возвращая «Овейшен» на стол.
– А кто тогда будет шить бубу? – Сейи подняла руки и посмотрела налево и направо: на Функе, которая пришивала пуговицы на розовый пиджак, и на Марию, размечавшую ткань мелом.
Он взял халат и отвернулся от Сейи, чтобы смотреть в окно, а не на ее торжествующую улыбку. Халат, пока он его складывал, хрустел от крахмала. Цвет неба темнел от лазури до индиго, деревянные створки окон болтались от порывов ветра, а за спиной стрекотала педаль Сейи, пока она работала над бубу.
Перед мастерской остановился красный «мерседес» М-класса.
– Йейе приехала, – объявил Эниола, глядя, как выходит водитель и открывает дверь для женщины пятидесяти лет. Она воззрилась на канаву, отделявшую дорогу от двора тети Каро, будто лучше бы уехала вместо того, чтобы пройти по узкой доске, перекинутой вместо мостика.
– Функе, поможешь что-нибудь заварить для Йейе, – сказала тетя Каро. – Нет, погоди, ты куда? Ты же не знаешь, что она попросит, дождись ее.
– Да, ма, – ответила Функе, растягивая по своей привычке каждый слог, чтобы ее заикание походило на дрожь в голосе.
Пока Йейе перебегала по доске, с каждым движением поблескивали золотые нити вдоль выреза ее платья в пол. Эниола помнил этот костюм – во время работы над ним тетя Каро не разрешала никому в мастерской даже прикасаться к ткани. Однажды, когда Эниола поднял упавший на пол лоскуток и добавил в горку обрезков, из которых надеялся когда-нибудь сшить блузку Бусоле, тетя Каро щелкнула пальцами и сказала: «Верни, за один метр этих кружев можно купить и тебя, и всю твою семью, не приноси мне в жизнь неприятности, пожалуйста».
Раньше чем вошла Йейе, мастерскую наполнил фруктовый аромат ее духов.
– Каро! Каро, torí Ọlọ́hun[42], найди деньги и сейчас же зацементируй эту канаву. Просто сделай мостик. Та дощечка узкая, как карандаш. Однажды сломается – и тебе же будет хуже. А если кто-нибудь провалится, Каро? А если провалишься ты? Я тебя предупреждаю, Каро.
– Я тебя слышу, ма, я что-нибудь сделаю. – Тетя Каро забрала у Йейе сумки. – Доброе утро, Йейе, пойдем в мою гостиную.
– Нет-нет, и здесь хорошо. Я уже скоро ухожу.
Тетя Каро подвела гостью к единственному двухместному дивану в мастерской, сдвинула наваленную на него гору ткани, расчищая место.
– Что тебе принести? – спросила она, когда Йейе уселась. – Колу или фанту? Àbí, зобо?
– И хотелось бы чего-нибудь, но Вураола говорит, мне надо перестать пить сладкое. Из-за сахара в крови kiníkan sha[43]. – Йейе вздохнула. – В нашей короткой жизни врачи не разрешают нам даже маленьких радостей.
– Одна бутылка тебя не убьет, – сказала тетя Каро.
– Àbí? Но, знаешь, я всегда говорю ее отцу о, раз это мы отправили Вураолу учиться, то нам и страдать от ее знаний. Мы наслаждаемся деньгами, которые потратили.
Тетя Каро усмехнулась.
– Как наша молодая доктор? Мы здесь много месяцев не видели даже ее тени.
– Кое-кому не хватает времени на себя. Она в порядке, и, собственно, из-за нее… – Йейе прервалась на полуслове. – Добрый вечер о, заговорилась и забыла со всеми поздороваться. Мария? Сейи? Эниола, àbí? И… Функе? Добрый вечер, все, gbogbo riín ni mo kí o[44].
Все ответили хором, и их голоса смешались с ее, пока она говорила с тетей Каро.
– Ehen[45], так вот, собственно, из-за Вураолы я и пришла. Можешь себе представить – эта девчонка ничего не сделала с кружевами, которые мы выбрали на мой день рождения? Мы уже три месяца как выбрали ткань – можно подумать, моя дочь за это время придумала бы хороший фасон. Ótí[46] о, может, она ждет, пока до церемонии останется два дня, не знаю. Но я принесла… – Йейе наклонилась за пакетом из золотой бумаги, который бросила рядом с собой на диван. На одной его стороне красовалась большая фотография с улыбающейся Йейе, а на других – фотографии поменьше, на которых она сидела, стояла и танцевала. Под самой большой было вытиснено жирными зелеными буквами:
ВОЖДЬ (М – С) КРИСТИАНА АЛАКЕ МАКИНВА.
ЙЕЙЕ БОБАДЖИРО, ИДЖЕШАЛЕНД, 50
Йейе отдала пакет тете Каро, и та достала сверток зеленых кружев, после чего поставила пакет у ног Йейе.
– Пакет можешь оставить, – сказала та. – Это сувенир, который мы раздаем с ашо-эби. Я давно хотела тебе занести, но все забываю.
– И он очень хороший. – Тетя Каро подняла и рассмотрела пакет.
– Àbí, Лайи заказал их в Акуре. Много, где-то тысячу о, и привез как раз вовремя, чтобы я упаковала ашо-эби. Очень заботливый мальчик. Мне нравится картинка, очень красивая.
– Как же иначе, если ты такая красивая?
– Каро, на ней же мое морщинистое лицо.
– Твое лицо и делает ее красивой, Йейе, ты все еще как sisí[47].
Пухлое лицо Йейе расплылось в улыбке.
– Доктор прислала фасон для ткани?
– Вураола? Фасон kẹ̀; она сказала, что позвонит завтра, но, пожалуйста, если не позвонит, помоги мне ей напомнить. У тебя есть ее номер? Хорошо. Проследи, пожалуйста, чтобы она не выбрала что-нибудь деревенское, помоги найти что-то модное. Сшей, что нынче носят красивые девочки. Ты же знаешь, мы молим Бога, чтобы скорее справить ее свадьбу. Но вера не исключает усилия, àbí, Каро? На моем празднике она должна быть красивой. Сшей что-нибудь с хорошим фасоном.
– Не волнуйся, Йейе. Я позвоню ей завтра и напомню.
Йейе встала.
– У тебя еще остались размеры Вураолы, àbí? Это хорошо. Она немного похудела с тех пор, как вернулась на работу, но не сильно. Просто сшей и сперва покажи, потом поправим. Когда будет готово, Каро?
– Дай мне две недели.
– Для чего? Нет о, я хочу уже на следующей неделе. Тогда она сможет его примерить для правок.
– Йейе, у меня и так много работы, но я постараюсь успеть к следующей субботе, раньше двух недель.
– К субботе?
– Я привезу его сама.
– Каро, давай не будем опять ссориться о. Не разочаруй меня в этот раз.
– Йейе, прости за прошлый месяц. У меня сломался генератор, ni.
– У тебя каждый день ломается генератор, Каро. Sha, не разочаруй меня в этот раз, если не хочешь, чтобы тебя разочаровал Бог.
– Пусть Бог не разочарует никого, – сказала тетя Каро.
Йейе взяла свою сумочку.
– Àmín[48] o, теперь пойду, я еще хочу зайти на рынок по дороге домой.
– А как же одежда, которую ты просила поправить в прошлый раз?
– А, знаешь, я и забыла. Óyá, давай. – Йейе протянула руку.
– Нет, я помогу донести до машины. – Тетя Каро пропала в другой комнате, служившей складом.
– Ótí o, это необязательно.
Тетя Каро вернулась с толстым черным полиэтиленовым пакетом. Йейе протянула руку, но портниха отступила, и та схватила только воздух. Обе рассмеялись.
– Каро, окей, пусть отнесет кто-нибудь из твоих. Возвращайся к работе. Как, еще раз, зовут мальчика?
– Эниола. Эниола, óyá, подойди.
Он подошел, забрал пакет у тети Каро и последовал за Йейе на выход.
Водитель стоял у двери машины и потягивался. Пока он открывал ей дверцу, Йейе кивнула, чтобы Эниола передал ему сумку.
– Баба, – сказала она водителю, – сдача с заправки? Помоги мне дать мальчику двести найр.
Водитель достал из нагрудного кармана мятую купюру и протянул Эниоле.
– Спасибо, ма. Благослови вас Бог, ма. Спасибо, ма. – Эниола поклонился Йейе, которая кивнула и ничего не сказала.
Перед тем как сесть, она подняла взгляд, и Эниола проследил за ним. По небу куда-то торопились темные тучи.
Ушел Эниола из «Первого класса» уже в темноте.
По дороге домой он снова и снова лез в правый карман, чтобы пощупать двести найр. Его двести найр.
Можно купить новые носки – две хорошие пары без дырок, чтобы дурацкие одноклассники не издевались на утренней линейке. Нет, лучше рюкзак. Обе лямки нынешнего протерлись, а когда они лопнут, мать, знал он, скажет терпеть до конца семестра. Если купить окрика[49], на нем может даже быть логотип фирмы. «Найки», «Пума», а может, FUBU. В комиссионках всегда были хорошие вещи, которые даже лучше новых. Мать это все время повторяла. Но хватит ли двести найр на рюкзак? Может, лучше поберечь деньги, пока он не поднакопит и не купит сразу и рюкзак, и носки. Он не знал, где заработает еще, но щедрость Йейе уже казалась новым началом. Она выделила его из всех подмастерьев; может, теперь он везучий и богатые клиенты будут осыпать его деньгами. Можно копить, пока не будет тысяча или две. Может, лучше спросить тетю Каро, сколько нужно заплатить за обучение; если научиться у нее, он сможет заработать себе на университет. Она так и сказала в самом начале его ученичества. Единственная причина, почему она сама не поступила, – ей не хватило мозгов окончить даже один год средней школы. А он уже на пятом – скоро окончит. Если усердно трудиться и читать по ночам, в следующем году он сможет сдать экзамены. Но сегодня учиться до ночи не получится.
На улице уже неделями не было электричества, хотя, чтобы добраться до дома, фонари ему были не нужны. Он мог пройти с завязанными глазами и все равно назвать, где стоит каждый дом. Может, лучше потратить скопленные деньги на лампу, чтобы читать по ночам. Тетя Каро разрешит заряжать ее у нее в мастерской.
Он проходил мимо развалин клиники, где когда-то родился, когда услышал, как его окликнули. Он глянул налево, в боковую улочку, и увидел, что к нему идет Хаким.
– Ты не пришел сегодня вечером смотреть футбол, – сказал Хаким, шагая рядом с Эниолой.
– Я был у тети Каро.
– Надо было прийти.
Эниола пожал плечами. Что бы Хаким ни делал, ему будто все давалось без труда. А если Эниола ходил к футбольному полю после школы, то так и слышал в голове слова матери: «Не заиграйся, а то проиграешь все свое будущее». Хаким играл почти каждый день, но все равно учился лучше всех в классе. Может, он читал по ночам. Но вряд ли; он просто из везучих, как Йейе, родился в рубашке. Эниола снова коснулся двухсот найр; может, теперь и он такой же.
– Я забил три гола, – сказал Хаким.
Ну конечно. Эниола даже в темноте видел блеск ухмылки Хакима.
– Хет-трик, слышал? Всех ошеломил.
Эниола улыбнулся и издал какой-то звук, чтобы обозначить свое восхищение.
– Изумительно, сам знаю.
Зубы Хакима просияли в темноте, когда он снова сверкнул улыбкой. С такой улыбкой Эниола был хорошо знаком, потому что видел чуть ли не каждый день у сестры. Это счастье человека, привыкшего, что он первый по успеваемости в классе, получает призы, лучше всех почти что во всем.
– А ты откуда? – спросил Эниола раньше, чем Хаким пустился расписывать свой хет-трик в красках.
Хаким поднял две белые свечи.
– Мама послала купить. Лампа разрядилась, а керосина она теперь боится из-за взрывов.
Навстречу бежала, толкая палкой старое велосипедное колесо и визжа от удовольствия, маленькая девочка. Хаким обернулся ей вслед.
В отдалении появился мотоцикл и словно мгновенно оказался рядом. Эниола отскочил с его дороги. Оглянулся и увидел, что Хаким, стоя спиной к приближающемуся мотоциклу, все еще смотрит на девочку. Эниола без раздумий отдернул его с пути мотоцикла, проревевшего мимо так близко, что водитель зацепил Эниолу локтем за лицо.
– Orí riín dàrú, hin ti fẹ́ kú![50] – гаркнул мотоциклист.
– Умереть захотел? – Эниола сунул дрожащие руки в карманы. – На что уставился?
– У нее была только одна туфля, – сказал Хаким. – Не видел? Левая нога босая.
– Ну и что? – Эниола двинулся дальше.
Хаким его догнал, но оба молчали до огороженного дома, где жила семья Эниолы в те времена, когда у его отца еще была работа. Дома, куда сразу после того, как они съехали, заселилась семья Хакима.
– Спокойной ночи, – сказал тот и постучал кулаком в калитку. Скоро она со скрипом впустила его в потерянный рай Эниолы.
Он молча зашагал быстрее.
Уже почти дошел до дома, как почувствовал, как его хлопают по плечу. Вздрогнув, он оглянулся и снова увидел Хакима.
– Чего?
– Забыл выразить искреннюю благодарность, – сказал Хаким. – Ты спас мне жизнь.
– Это вряд ли.
– Не прибедняйся. Спасибо, Эниола, – сказал Хаким и направился обратно домой.
Провожая его взглядом до голубого дома, Эниола вдруг понял, что Хаким единственный в классе еще зовет его по имени. Единственный, кто не дразнит каждый день напоминанием о жизни, которую он мог бы иметь, если бы ему повезло поступить в школу Единства.
4
Кунле – в своем черном блейзере, который он так обожал, – ждал у ее хетчбэка. Он словно не чувствовал, как старательно солнце выжгло прохладу харматана.
– Ты еще в этом не сварился? – спросила Вураола.
– А где «Доброе утро, любовь моя» или «Как рада тебя видеть»? А то и «Очень мило, что заехал», или еще лучше: «Я как раз собиралась перезвонить», – сказал Кунле, отсчитывая фразы на пальцах левой руки.
– И это тоже, но пиджак – тебе не жарко?
– Ты не отвечаешь на мои звонки.
– Я не отвечаю на звонки кого угодно.
– А я теперь для тебя «кто угодно». – Он изобразил кавычки на словах «кто угодно», и она наблюдала за его пальцами. Эти пальцы. Она думала о них, когда не спала: о том, как эти длинные пальцы сужались к ногтям, какими они были невозможно проворными внутри нее.
– Я, значит, просто случайный человек, который тебе названивает, эн?
Вураола поискала в своей сумочке ключи от машины.
– Успокойся, пожалуйста, ты меня прекрасно понял. Мне даже мать названивала из-за платья на ее день рождения, а я не могла… Куда я дела ключи, sef[51]? У меня еще и минуты на себя не было.
– Мы едем на моей. – Кунле показал на голубую «сентру» на другом конце парковки.
– Мне надо кое-что положить к себе. – Вураола поболтала своими ключами перед носом Кунле. – И кто тебе сказал, что я с тобой куда-то поеду?
Он рассмеялся и прислонился к ее машине, опершись на дверь водителя.
– Отодвинься, дай открыть.
– Ты не отвечала на мои звонки.
Часто казалось, что Кунле нравится спорить. Он называл это спаррингом и говорил, что считает зарядкой для мозгов. По крайней мере, Вураола не имела ничего против примирительного секса после этих, как она думала, ссор понарошку. Она подыгрывала, изображала воинственность, чтобы потом он хвастался, как она оттаяла у него в руках. Но ее беспокоила хрупкость этого игривого настроения: так называемый спарринг после всего лишь паузы между парой слов мог перерасти в сражение.
Она взяла его за руку и попыталась отодвинуть с дороги, но он не поддался и не улыбнулся. Сражение. Хоть она и вложила все силы, он остался на месте. Может, сейчас это вовсе не понарошку – иногда его было трудно понять.
– И ты даже не потрудилась перезвонить или написать.
Она ненадолго закрыла глаза. Его голос и правда повышается с каждым словом?
– Ты сейчас на меня кричишь? – спросила она.
– Хочешь сказать, у меня нет причин обижаться?
– Я серьезно спрашиваю, кричишь ты на меня или нет.
– Ну и что это значит? Значит, если ты не отвечаешь на мои звонки, мне не надо реагировать? На это ты намекаешь?
Вураола окинула взглядом парковку. В субботу здесь было меньше машин и людей – это значило, что его голос разносится далеко. Справа пара человек перестала загружать пустые носилки в карету скорой помощи и уставились на них. Да, это не ее изнуренный мозг усиливает звуки – это Кунле кричит.
– Ты можешь просто отойти? – Ее голос оставался тихим и размеренным. Она не собиралась устраивать дурацкие сцены на людях.
– Да что такого важного тебе надо убрать в машину? Ты думаешь, это нормально – пропускать мимо ушей мои вопросы?
– Кунле, просто дай положить учебник. Поговорим, когда поедем. Отойди.
– А если нет?
Вураола наклонила голову к плечу.
– Ты серьезно?
Он пожал плечами и сложил руки на груди. В этом жесте проглянул тот, кем он был в детстве, когда они еще учились в одной начальной школе, до того, как их отправили в разные пансионы. Кунле часто приходил с отцом на встречи IEMPU, потому что их родители думали, что он дружит с Лайи. Но хотя мальчики и учились в одном классе – на два года старше Вураолы, – круг друзей ее брата сформировался еще в началке, до переезда семьи Кунле, и так и не распространился на него. Тогда Вураола и Лайи над ним посмеивались, изображали, как он пожимает плечами и складывает руки на груди. Обычно он так делал перед тем, как наябедничать на них взрослым за то, что они издеваются и передразнивают его: «Я расскажу своему папе и твоей маме». Он сейчас даже губы поджал – осталось только ножкой притопнуть. Вураола чуть не рассмеялась, но удержалась.
Она обошла машину, открыла с другой стороны и забросила на заднее сиденье «Клиническую нейроанатомию». На этой неделе она сунула ее в сумочку, надеясь – глупо, как очевидно теперь, – что успеет хотя бы пролистать. Ни к чему, чтобы врачи-консультанты приняли ее за феерическую идиотку, когда она перейдет в нейроанатомию. В нейроанатомии все поначалу выглядят идиотами; ее целью было сойти за идиотку умеренную. И за всю неделю руки так и не дошли открыть книгу, зато из-за того, что она таскала ее с собой, протерлась лямка сумочки. Пора переходить на сумку для ноутбука. Она села на пассажирское сиденье, наклонилась к водительскому и завела двигатель.
Вураола дала поработать ему минуту, потом включила кондиционер. Заперла двери и откинула сиденье до конца. Ее окутал холодный порыв воздуха, и она улыбнулась Кунле. Он стоял снаружи и прожигал ее взглядом. Она сохранила на лице улыбку, уверенная и вполне довольная тем, что это его раздражает. На миг она задумалась, не уйдет ли он теперь к своей машине. Если бы ушел, она бы пошла за ним. Этим утром глупо было бы самой садиться за руль. Когда она несколько минут назад вышла из отделения, ее руки уже тряслись, а ночь она протянула только благодаря банке энергетического напитка, которой ее угостил другой интерн. Кунле постучал по стеклу и показал жестом, чтобы она открыла дверь. Она опустила окно настолько, чтобы он мог просунуть палец.
– Извинись за то, что накричал, – сказала она.
Он скривился.
– А ты извинилась за то, что не отвечала на звонки?
– Я работала.
– А написать не могла?
– Ты правда не представляешь, чем занимаются дежурные врачи?
– Какая же ты самодовольная.
– Ну и хорошо. Пожалуйста, убери палец, я задвину.
– Вура, просто открой дверь, abeg[52].
«Abeg» – это не извинение. По крайней мере, не в таком тоне – но что делать? Она слишком устала и проголодалась для драм. Если они помирятся и поедут, скоро она поест. Она впустила его и приготовилась к долгой нотации. Кунле не говорил ничего, но сдал назад так резко, что встряхнул ее.
– Я думала, мы поедем на твоей. – Она подняла кресло и застегнула ремень. – Можем купить поесть? Я проголодалась.
Кунле не ответил.
– Можем остановиться в «Кэптейн Куке» перед тем, как ехать к тебе? Хотя бы взять мясной пирожок для начала? Что скажешь? Ну и пожалуйста, играй в молчанку. Просто больше так со мной не разговаривай. Я тебя предупреждаю. Зачем ты кричал на меня при всех из-за какой-то глупости?
У больничных ворот он замедлился. Где-то между средней школой и университетом угрюмый нытик Кунле превратился в человека, который теперь опускает окно, чтобы поздороваться с охраной с таким изобилием «Ẹ kú iṣẹ́, Major»[53] и «Молодцы, офицеры», что его пропустили, даже не подумав попросить открыть багажник для досмотра. Его маневр сократил пропасть между устремлениями и реальностью всего двумя словами: «Major», «офицеры». Мужчины и женщины в будке были не больше чем охранниками. Дальше не бывает от армии, куда они, как выдали улыбчивые ответы на лесть Кунле, когда-то стремились. Они работали в больнице, но ходили слухи, что скоро вместо них наймут частную фирму. Она не знала, искренняя или корыстная эта привычка Кунле втираться к другим в доверие. Возможно, как это часто бывает с щедростью, – и то и другое. Когда они выехали из больницы, она отвернулась и смотрела на проносившиеся мимо лотки и дома, пока все они не слились в сон.
Шел дождь. Она была посреди шоссе, на коленях над младенцем, чей плач перекрывал удары грома, и слушала его сердцебиение. Где-то пробили полночь напольные часы. Она слышала рев мчащихся грузовиков и бензовозов, визг шин по мокрому асфальту, крик стервятника на своем левом плече. Но не слышала сердцебиения младенца. Не слышала, даже когда опустело шоссе, прекратился дождь и вышло солнце. Когда вопль стервятника слился с младенческим в один сплошной крик, Вураола хотела бросить ребенка, но обнаружила, что он приклеился к ее рукам.
Проснулась она под стук, и он стал утешением. В этот раз сон прервался до того, как на голову сел второй стервятник. Уже неделями после смерти в ее смену младенец снился почти каждый день, и она вскакивала, гадая, что еще могла тогда для него сделать. Теперь стало получше – в эти дни он снился только в урывках сна, перепадавших на дежурстве или сразу после.
«Пий: 2,2 кг, вагинальные роды на 29-й неделе. Оценка по шкале Апгар – 5 и 6 на 1-й и 5-й минуте».
Вураола попыталась сосредоточиться на его близняшке Присцилле, которая выжила.
– Ты еще помнишь свой сон? – спросил Кунле.
– Что?
– Ты издавала такой странный звук, будто плакала. Я решил, тебе что-то снилось.
Вураола думала о Присцилле, о том, как ровно в мгновение, когда затихло дыхание Пия, Присцилла, обладательница здоровых легких, проснулась с пронзительным воплем, который не могли заглушить стенки ее инкубатора.
– Помнишь свой сон?
– Нет, – ответила Вураола. Она рассказывала Кунле о Пие через несколько дней после его смерти, но о снах не говорила никому.
– Надо доехать раньше, чем съедят весь толченый ямс, – сказал Кунле, включая двигатель.
Они находились в Олохунве, через реку от района, где построили дом родители Кунле. Говорили, Кокеры решили построиться так близко к столице штата, потому что отец Кунле по-прежнему планировал баллотироваться в губернаторы. Когда она спросила об этом Кунле, он ответил, что это просто удачное совпадение. Его мать унаследовала эти участки от бабушки.
Кунле работал новостным диктором на нигерийском телевидении в столице штата и сейчас пытался перевестись в Лагос или Абуджу. Он верил, что письмо придет со дня на день, поэтому не искал себе квартиру. Просто переделал дом мальчиков в поместье родителей и каждый день ездил оттуда на работу.
Вураола зевнула. Хотелось заползти в кровать.
– Может, купим поесть и поедем к тебе?
– Мои родители еще дома, – сказал он и оставил ее в машине.
Его родители как будто ожидали, что, приезжая, она будет проводить все время в гостиной, будто она все еще маленькая девочка, которую приводила мама на встречи Союза матерей, когда их устраивала профессор Корделия Кокер. Часто, когда мать Кунле встречала Вураолу у них дома, удостаивала тонкой улыбки, заставлявшей задуматься, не доносятся ли звериные звуки, с которыми кончал Кунле, через плиточный дворик в дуплекс его родителей. Когда родители были дома, проще было там не появляться.
Она вышла из машины и направилась в buka[54]. Снаружи мужчины и женщины толкли в широких ступах ямс – со звуком то приглушенным, то резким, когда пестики то входили в белое месиво, то доставали до дна. По-ки-по. Кунле был уже внутри. Она села на скамейку рядом с ним и потянулась за пивом, которое он заказал.
Он рассмеялся.
– Какая же ты упрямая.
– Ты не извинился за то, что накричал, а упрямая – я?
Она сделала большой глоток его стаута. Он положил руку ей на плечо и прижал к себе.
– А разве твои родители не на похоронах в соборе? – спросила Вураола.
Кунле посмотрел на часы.
– Да, и должны закончить через час. Можем взять еду с собой, если так не терпится с ними пообщаться.
– Шути-шути, а я вот буду весь день девушкой их мечты, тогда посмотрим, как ты запоешь.
– Я по тебе скучал, – произнес он в ее волосы.
Тут пришла официантка, и они заказали все то же, что заказывали здесь всегда. Толченый ямс с эфо риро[55]. Ей – с козлятиной, ему – с дичью из буша.
До этого утра они не виделись уже две – нет, три недели, – и боже, как же ей всего этого не хватало. Как он обнимает ее всем телом после секса, как его дыхание разбегается по ее виску, и веса руки, которую он всегда клал ей на живот, и его успокаивающего тепла. Удовольствие было для нее самым простым. Его можно узнать и понять. Воспарить в эйфории на крыльях адреналина и дофамина. И теперь – окситоцин на спуске. А вот любовь – что ж, это уже туманно. Так же зыбко и непознаваемо, как перепады настроений Кунле. После того как поели, они молча ехали по дороге к нему, и он снова спросил о телефонных звонках. Но уже сразу, как они вошли, он тянулся к ее груди и обнимал теперь так, будто все забыто, если и не прощено. Когда он захрапел с открытым ртом, она высвободилась и пошла в душ.
У него не было лосьона – только большая банка вазелина, которой ему, наверное, хватит еще на год. Она обошлась своим кремом для рук и натянула одну из его рубашек, потом пошла в гостиную. Прилегла на диван, надеясь, что душ навеет сон. Этот диван стоял тут еще с детства Кунле, и она помнила, как сидела здесь и пыталась выудить конфету, завалившуюся между подушками. И нашла раньше, чем заметила мама, но стоило сунуть ее в рот, как Лайи крикнул: «Грязная девчонка!» Она чуть не подавилась, а мать и профессор Корделия прервали свой разговор и уставились на нее. Лайи тут же наябедничал. Тогда мамы рассмеялись и продолжили свою беседу. Но вечером, дома, Вураола сидела за обеденным столом с пустой тарелкой, пока вся семья ужинала. По словам ее родителей, она публично опозорила семью Макинва и не заслуживала еды до конца дня. Позже тем вечером Лайи прокрался к ней в комнату с двумя кусочками хлеба и извинением.
Вураола все ворочалась и ворочалась, но никак не могла найти удобную позу. На кровати было бы лучше, но туда не тянуло. В очередной раз переложив подушки, Вураола взяла пульт от телевизора и начала щелкать. Остановилась на «Канале О», потому что там крутили African Queen.
Кунле подарил ей диск, когда впервые приезжал к ней в Ифе. Тот диск жил в ее прикроватном плеере месяцами, не сменяясь. Потом она уже сама купила второй и слушала его в машине, пока не заездила так, что он проигрывал только один трек. За неделю до выпускных экзаменов, когда она отрывалась от учебы, только когда ехала в хостел быстренько принять душ, ее утешал Keep on Rocking. Друзья орали на нее с заднего сиденья: она отрывала руку от руля и тыкала в крышу, когда 2Face призывал «достать потолок». Распускала косы, уложенные в круг на голове, и радостно ими мотала под воркование 2Face. И конечно, «шалить на плантации» – тут уж надо было отпустить руль обеими руками и месить кулаками воздух. Грейс, первая подруга Вураолы в медвузе, обычно сидела рядом на пассажирском и умудрялась все это проспать. Диск перестал включаться еще до конца экзаменов, но руки так и не дошли купить новый.
Вураолу всегда завораживала вторая девушка, которая появлялась в клипе African Queen. Подстриженная так коротко, что спереди слева – бритая наголо. Иногда Вураола мечтала освободиться от своих кос, но как много всего надо учитывать. Ее слишком большие уши оттопырятся, как кроличьи. И вдруг она будет похожа на ощипанного цыпленка. И мама будет буравить взглядом в духе «поверить не могу, что потратила на тебя девять месяцев своей жизни» еще как минимум десятилетие или пока одна из них не умрет. И все-таки каждый раз, как в кадре появлялась бритая танцовщица, Вураола придвигалась и выискивала сходства в лице – показатели, насколько удачным будет смена стиля. Истории известны люди, пережившие испепеляющий взгляд ее мамы. Лайи все еще дышал спустя два года после того, как бросил медицину. Она тоже могла бы рискнуть.
Кто-то постучал, и, не успела она подняться с дивана, вошел отец Кунле. Бесконечный миг таращился, осмысляя рубашку Кунле на ней. Она села, подобрав под себя ноги, приветствовала его, но не знала, куда деть себя – встать или сидеть. Все-таки встала, оттянув полы рубашки вниз.
Профессор Бабаджиде Кокер был высоким и пузатым – из таких мужчин, кому идет агбада. Он был лысым, сколько она его помнила, зато усы всегда были пышными и с возрастом как будто становились только темнее. Ее мама не сомневалась, что он их регулярно подкрашивает. Пока что Вураола воздерживалась от того, чтобы прямо спросить об этом у Кунле.
– Как поживаете, сэр? – спросила Вураола.
– Доктор Макинва, рад вас видеть, – произнес профессор Кокер, уставившись на ее колени, все еще обнаженные, как ни оттягивай рубашку.
African Queen кончилась, включился клип на песню, которую она не знала. Четыре женщины извивались и ползали по полу склада вокруг полуголого мужика, который пел в подвесной микрофон. Не грубо ли сейчас будет взять пульт и выключить?
– А где мой сын?
– Кунле? – Стоит ли оставлять клип, пока мужик двигает бедрами в камеру?
Профессор Кокер поднял бровь, словно спрашивая: «А ты знаешь каких-то других моей детей, о которых не знаю я?»
– У себя в комнате, сэр, – сказала Вураола.
– Раз уж вы здесь, – начал профессор Кокер тоном, говорившим, что ее здесь быть не должно, – не могли бы позвать его ко мне?
– Да, сэр, – ответила Вураола, только радуясь, что может сбежать.
Кунле распластался ничком, свесив одну руку с кровати. Она собирала его одежду одной рукой, второй хлопая его по плечу. Уж лучше встречать отца одетым. Не то чтобы это так важно – тот явно мог расшифровать, что случилось, и вряд ли он впервые встретил девушку в гостиной Кунле. Когда они были подростками, все завидовали Кунле, потому что только его родители разрешали водить к себе девушек. Профессор Кокер знал, что у сына активная сексуальная жизнь, но его взгляд говорил, что уж от нее он этого не ожидал.
Наконец, когда она ущипнула его за плечо, Кунле проснулся.
– Kíni?[56] – спросил он, сев и потянувшись к ней. Она увернулась.
– Твой отец пришел. Зовет тебя.
Кунле потянулся и посмотрел на настенные часы.
– Уже вернулись?
– Видимо, пропустили неофициальную часть. Ну или только он. Про твою маму не знаю.
Она достала свежую рубашку из гардероба и передавала ему одежду предмет за предметом. Когда он наконец ушел, оделась сама, подоткнув мятую блузку в юбку, словно на работу. Вошла в гостиную с туфлями и сумкой, готовая теперь, убрав волосы с лица, как требовалось в больничном отделении, заговорить с профессором Кокером как взрослый человек.
– Где он? – спросила она, окинув взглядом комнату.
Кунле пожал плечами.
– Наверное, ушел в главный дом. Я схожу и… тебе лучше пойти со мной.
– Да, пожалуй. – Вураола обулась.
– Он что-нибудь сказал?
– Кажется, его не обрадовало, что я лежу полуголая на твоем диване.
Кунле рассмеялся.
– Да ты им нравишься.
Он часто говорил о родителях так, будто они единое целое, будто он привык видеть их принципиально неделимыми.
– Ты имеешь в виду, им нравятся мои родители, – сказала она.
– Они считают, что ты из подходящей семьи.
А ее родители так же думали о нем. Отец, впервые проявляя интерес к ее романтическому выбору, сразу же задал вопрос о благополучии Кунле. «Он кашлял во время последнего выпуска новостей, у него все хорошо? Как у него дела на работе? Когда его переводят?» Эти разговоры кончались на словах отца, что Кунле – хороший человек, его родители – хорошие люди, он – из хорошей семьи. В средней школе она узнала по запретам приводить в гости некоторых подруг, что мнение ее отца о человеке зависело от мнения о его родителях. И было очевидно, что Кунле, на его взгляд, лучший, кого могла найти Вураола, и уже считается подходящим отцом для его внуков.
Кунле придержал для нее дверь. Хотел обнять, пока они шли к главному дому через лабиринт иксор и гибискуса, но она стряхнула его руку. Его это как будто позабавило. Он просто не мог понять то, что она знала и пыталась объяснить ему каждый вечер, когда отказывалась остаться. Что его родители судят ее не так, как его, – черт, да и ее родители тоже. Для Кокеров неважно, что она из хорошей семьи, что бы это ни значило; то, что она согласилась – нет, что она просила Кунле заняться сексом, – в их глазах не делало ее приличной девушкой. Ей уже со времен переходного возраста стало ясно, что ее желания ни во что не ставятся. Мальчики должны хотеть секса, а ей положено от них отбиваться – так поступают хорошие девочки, чтобы не опозорить свою семью.
Вураоле хотелось бы быть женщиной, которую все это уже не волнует. Хотелось бы наслаждаться тем, чем хочется, без угрызений совести и переживаний из-за взгляда, которым ее смерил профессор Кокер. Но ее это все-таки волновало. Что думает о ней он – и, еще важнее, что думает о ней его жена.
Вураола пыталась копировать идеально изогнутые брови профессора Корделии Кокер с тех самых пор, как впервые украла карандаш для глаз с маминого туалетного столика. Во время интернатуры в офтальмологии ее восхищение было так близко к преклонению, что она даже подумывала пойти в эту область, лишь бы ее наставницей была профессор Корделия. Та стала врачом-консультанткой еще до тридцати, а профессором – в сорок шесть. Ее голос словно переливался и плыл по больничным коридорам в облаке цветочного парфюма. В нее влюбились полкурса Вураолы. Вураола радовалась, что это не профессор Корделия вошла сейчас в гостиную Кунле. Муж наверняка ей расскажет, что видел, но это все же лучше, чем лично видеть, как эти идеальные брови разочарованно изгибаются.
Они прошли через кухню, мимо служанки, отскабливающей кастрюлю, в столовую, где сидели рядом родители Кунле и ели вареный плантан с овощами.
– Как ты, дорогая моя? – спросила профессор Корделия, приглашая Вураолу на стул напротив.
– Очень хорошо, ма, спасибо.
– Не хочешь плантан? Там еще должно было остаться.
– Нет, спасибо, ма.
– Точно? Это свежее ворово[57], попробуй с плантаном.
– Точно, ма.
– Мы поели после того, как я ее забрал. – Кунле сел рядом с Вураолой.
– О, вы уже давно встретились?
– Да, ма. Мы, эм-м, я была с Кунле.
– Ах, понимаю.
– Я не видел твою машину, когда мы вернулись, – сказал отец Кунле.
– Осталась в больнице, сэр, – ответил Кунле. – Ты меня звал?
Профессор Бабаджиде перевел взгляд от Кунле к Вураоле и обратно.
– Можешь говорить, она же его… они же вместе, – сказала мать Кунле.
– Может, мне лучше уйти. – Вураола встала.
Вошла служанка, чтобы убрать тарелки.
– Принеси Вуре сок, – попросил ее Кунле.
– Присядь, Вура. – Мать Кунле повернулась к мужу. – Бабаджиде, ну же, почему ты так себя ведешь? Это дочь Отунбы Макинвы.
Отец Кунле откинулся на спинку стула.
– Хм-м-м. Я знаю, что твой отец возлагает на тебя большие надежды, как и я. Ты не обычная девушка.
В этот раз Вураола попыталась выдержать его взгляд. Намек читался ясно: в планы ее отца не входит, что она будет заниматься сексом с парнем и спать на его диване, как обычная девушка. Это ей говорит профессор Кокер. Тот профессор Кокер, на чьих свадебных фотографиях в роли кольценосца можно видеть его сына Кунле.
– Что случилось? – спросила профессор Корделия. – Вура, ты не справляешься в больнице? Дежурство бывает трудным, àbí? Сегодня ты студентка, а уже завтра пациенты думают, будто у тебя есть ответы на все вопросы.
– Она справляется хорошо, на самом деле она одна из лучших, – сказал профессор Бабаджиде Кокер.
– Рада слышать, Вура. Ты всегда была умной девочкой.
Вернулась служанка с пачкой сока. Все молчали, пока она не наполнила стакан и не вышла.
– Итак, Кунле, что я хотел тебе сказать.
– Да, сэр.
– Сегодня на службу приходил председатель партии, нам выпал случай поговорить перед его уходом. Он считает, на следующих выборах будет наш шанс. Его люди рады поддержать меня, но подготовку надо начинать уже сейчас, и я хочу, чтобы в этом участвовал ты.
– Поздравляю, сэр, – сказал Кунле.
– Что ж, с этим обождем, пока не баллотируемся – в политике все меняется так быстро.
Профессор Корделия сжала плечо мужа.
– В этот раз у меня хорошие предчувствия.
Профессор Бабаджиде многозначительно взглянул на Вураолу.
– В политике все меняется так быстро, и поэтому лучше держать такие разговоры в семье, пока не потребуется привлечь посторонних.
– Конечно, сэр. – Вураола взболтала остатки сока в стакане. Надо допить, потом подождать минут десять-пятнадцать и тогда уходить. Это мама прочно вбила ей в голову: надо подождать, чтобы хозяева не подумали, будто ты оголодавшая и пришла только поесть или выпить.
– Итак, Кунле, начинай готовить идеи. Партия предоставит нам пиарщиков, но главным будешь ты. Я хочу, чтобы ты все взял под контроль, а это возможно, только если у тебя идеи будут лучше, чем у них.
– Да, сэр. Я над этим поработаю. Еще раз поздравляю, сэр.
Профессор Корделия пригладила мужа по спине.
– Позволь себе насладиться моментом.
Вураола допила сок, проследив, чтобы на донышке что-то осталось, – неприлично выпивать все до капли. Ее поздравления так и остались на языке, легкие, как облатка, и уже таяли. Она не станет поздравлять отца Кунле – после того, как он назвал ее посторонней. Вот поэтому она так и нервничала, когда у нее появились чувства к Кунле: из-за того, что их отношения все осложнят. Его отец не стал бы вести себя так строго с кем-то другим, но, раз она дочь его друга, он считал, что может читать ей нотации, будто она и его дочь.
– Как твоя интернатура? – Профессор Корделия работала в больнице Ифе, поэтому Вураола с ней не пересекалась.
– Все хорошо, ма.
– Очень хорошо, что ты попала на практику сюда, наберешься больше опыта.
Вураола улыбнулась:
– Да, ма, в акушерском отделении я уже три раза принимала роды.
– В Ифе это невозможно, там так много интернов.
– Да, ма, я сама рада, что решила вернуться. Работа здесь напряженная, но я учусь.
– Надеюсь, тебе не слишком тяжело?
– Она не высыпается, – сказал Кунле.
Профессор Бабаджиде Кокер хмыкнул, вставая из-за стола.
– Сама на это подписывалась. Половина нашей работы – стойкость.
– Это не значит, что она вообще не должна спать.
– Если успевает проводить время в доме мальчиков у Кунле, она не так уж устает. – И профессор Бабаджиде вышел в гостиную.
– Не обращай на него внимания, Вура. Он нервничает из-за выборов. – Профессор Корделия вздохнула. – Кунле, в следующие два года нам придется потрудиться.
Вураола встала.
– Думаю, мне пора домой, ма.
– Обратно в общежитие?
– Нет, ма, если я на выходных не дежурю, то уезжаю домой.
– Это очень удачно, дорогая моя.
– Я попрощаюсь с профессором.
Она прошла через арку, разделявшую комнаты. Профессор Кокер сидел в мягком кресле, громко щелкал костяшками и смотрел в пустоту.
Вураола покашляла, чтобы обозначить свое присутствие.
Он оглянулся.
– Я ухожу, сэр. – Она выдавила улыбку.
– Хорошо. Передавай привет Отунбе и Йейе.
– Да, сэр, передам.
– Подожди, Вураола. Подойди.
Вураола приблизилась.
– Слушай, если вы с Кунле планируете пожениться – а я надеюсь, вы планируете, – проследи, чтобы ты не забеременела до свадьбы. В соборе не станут проводить церемонию, если ты беременна, новый викарий очень строгий. Ты меня понимаешь?
Вураола кивнула, не отрывая глаз от блика люстры на лысине профессора Кокера.
Мать Кунле настаивала, чтобы Вураола не водила сама, пока не отдохнет.
– Sebì[58], Кунле все равно надо забрать машину от больницы? Пусть он за ней заедет после того, как отвезет тебя домой.
– Он планировал в понедельник, ма. Он приедет в больницу с профессором и оттуда отправится к себе на работу.
– Неужели до тебя так долго ехать? – Она повернулась к дому. – Лакунле! Рядом с моими очками.
Они стояли у машины Вураолы и ждали, пока Кунле принесет сувенирную сумку из Союза матерей, которую его мама хотела передать ей.
Он вышел и поднял матерчатую сумку, чтобы мать кивнула и подтвердила, что это правильная.
– Ты же отвезешь ее домой, àbí? У тебя есть другие планы на вечер?
– Ну, Вура любит изображать суперженщину, а я ей иногда позволяю, – сказал Кунле.
– Óyá, отдай ему ключи, ты успеешь даже выспаться в дороге.
Не успели они выехать, а Кунле уже говорил о кампании.
– Еще нельзя показывать, что это кампания, надо какое-то время продолжать общественные проекты, но следить, чтобы везде мелькало его имя.
– Проекты? Вроде была только одна скважина?
– Можно легко пробурить еще шесть, по всему штату. Потом – обучение молодежи. Распечатаем на объявлениях его фотографию.
– Обучению чему?
Кунле нахмурился:
– В смысле?
– На чем вы сосредоточитесь? Каким навыкам будете обучать?
– Чего угодно – чему сейчас обучаются женщины? Бусы делают – или что?
Вураола покачала головой:
– Я откуда знаю?
– Ты ведь женщина?
– Это еще не делает меня экспертом в том, чему сейчас учатся все женщины. Я могу в лучшем случае рассказать пару примеров, но вам, наверное, лучше провести какие-то исследования?
– Кулинария там какая-нибудь, неважно. И что-нибудь только для парней.
– Что вы планируете на самом деле?
– Я же и рассказываю.
– Я имею в виду программу твоего отца, какая она будет? Можно все пропускать через нее. Это будет ваш руководящий принцип.
– Хорошее здравоохранение, хорошие дороги, хорошее образование. Но обо всем этом в проекте обучения еще говорить нельзя. Надо везде указывать его инициалы, а потом их же использовать в самой кампании. Есть мысли?
– В больнице все зовут его Проф. Б. – наверное, чтобы отличить от твоей мамы.
– «Проф Б» как-то слабовато. Хм, Бабаджиде Кокер. Может, Профессор Би Джей.
Вураола подавила смешок.
– «Би Джей» – не лучший вариант[59].
До него дошло не сразу.
– Ну тогда Пи Джей Си – профессор Джиде Кокер. «Профессора» оставить надо, так звучит внушительней.
– Но я-то спрашиваю о том, что можно измерить. Хорошее здравоохранение – это как? Больше отделений скорой помощи? Сколько? Повышение зарплаты для государственных врачей? Курсы повышения квалификации? Рабочие условия? Разве не на этом надо строить кампанию? Даже это самое обучение. Ты так говоришь, будто главное – не молодежь, а напечатать его фотографию на плакатах.
– Ты ничего не понимаешь в политике.
– Это как-то высокомерно.
– Это факт. – Его руки сжали руль. – А то, блин, будто все на свете знаешь.
– Лакунле Кокер. – Иногда этого хватало – полное имя перезагружало его чувства.
– Прости, но я пытаюсь сказать, что в этой стране политика устроена по-другому, да? Нужен простой посыл, то, что умещается на пачке риса или соли. Ты же знаешь, что будет основными материалами кампании, да? Рис, соль, отрезы анкары. На них внятную программу не распишешь. Максимум семь пунктов.
Вураола вспомнила открытый рот и беззубые десны Пия. Как он умер зажмурившись, словно, уже с трудом пытаясь вдохнуть, осознал, что на этот мир слишком страшно взглянуть. Она отвернулась от Кунле. Надо было все-таки настоять на своем и ехать одной. Опустила бы окно, ветер и шум не дали бы уснуть до самого дома.
Они проехали мимо статуи Обокуна[60] и направились к центральной мечети.
– Останови, – сказала она перед мечетью.
На другой стороне дороги стояли столы торговцев со всем подряд – от фруктов до обуви, от плееров до одежды. Она наклонилась, чтобы опустить окно со стороны Кунле, и жестом подозвала лоточника.
Он подбежал к машине.
– Есть Face 2 Face?
– Говорите wetin[61]?
– Face 2 Face. Альбом 2Face, есть am[62]?
– Этот, да na. Na у всех есть am. Ждите мало, сейчас будет.
– Мне кажется, у твоего папы должны быть планы как минимум на здравоохранение. В смысле, как иначе. Поговори с ним, пока не определишься со стратегией. Ты удивишься, как это близко народу. Люди умирают зря, Кунле. Ты даже не представляешь.
Торговец вернулся с диском, и Кунле заплатил раньше, чем она раскрыла кошелек. Он посигналил такси и влился вперед него в движение.
– У него было право проезда. – Вураола достала диск из бумажного конверта.
– Это не значит, что ему можно ехать так медленно.
Вставив диск в магнитолу и промотав до Odi Ya, Вураола закрыла глаза и дала песне заглушить последние вдохи Пия. Она поддалась ударным, многослойному голосу 2Face – три слоя? Четыре? И тому внезапному чувству освобождения во время перехода к а капелла в конце.
– Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь.
– Как? Я просто хотела… Да что я?.. Я слишком устала, Кунле. Давай потом?
– Ты всегда уставшая.
– Вообще-то да, так и есть, и от тебя пользы немного. От тебя я тоже устаю. Можем прекратить?
– Ты даже не приняла мое извинение.
– Сказать «прости, но…» не считается за извинение, но это и неважно. Я сказала – давай прекратим. Можно просто спокойно послушать музыку?
– Я только хочу сказать, что люди в этой стране хотят другого, ясно? А все то, о чем говоришь ты, на выборах победить не помогает, ясно?
– Господи боже. Ладно, как скажешь.
– Такое ощущение, что тебе даже не хочется постараться ради нас.
– Постараться? Кунле, ты мне очень нравишься, ты же сам знаешь. Просто. Пожалуйста.
– Ты знаешь, я тебя люблю. – Он положил руку ей на колено и сжал. – Хоть ты и охренеть какая упрямая.
Вураола не ответила. Вскоре после того, как они начали встречаться, он вбил себе в голову, будто она несговорчивая, и напоминал об этом, когда злился. Или чтобы обидеть, или потому, что его это почему-то возбуждало, – или же он считал ее непокорность вызовом своему авторитету.
Он передвинул руку на бедре выше. Значит, возбуждало. Все-таки лучше, чем вызов.
Они свернули на улицу, которую родители назвали в честь себя, потому что поселились здесь первые. Дом ее родителей стоял теперь вторым в ряду, за забором с колючей проволокой виднелась только его крыша.
Кунле дважды просигналил, ворота открылись, и Вураола помахала охраннику, проезжая мимо. Тот шуточно отдал честь. Дом находился далеко от ворот, оставляя место для лужайки такого размера, что здесь можно было бы проводить футбольные матчи, и для искусственного водопада – его включали, только когда отец принимал гостей. Они проехали по гравийной дорожке, ведущей мимо парадных дверей к бетонному прямоугольнику, где за ширмой декоративных деревьев обычно ставили машины.
Пока они шли через лужайку к дому, Кунле обнял ее за плечи.
Вураола два раза позвонила, потом полезла в сумочку за ключами. Дверь открылась раньше, чем она успела их вставить, и Мотара чуть не врезалась в нее, вылетев из дома в таких шортах и топе, которые мама никогда бы не разрешила Вураоле носить даже дома, когда она была подростком.
– Ты – ты не забыла поздороваться со старшими? – бросила ей вслед Вураола.
Мотара топала себе дальше к декоративным деревьям.
– Прости уж, – сказала Вураола Кунле. – Когда она не в настроении, эта девчонка – что-то с чем-то.
Кунле пожал плечами:
– Вы ее избаловали.
Так она сама не раз говорила Кунле, своим родителям, Лайи и даже Мотаре, но из уст Кунле это задевало. Перед тем как войти в дом, она стряхнула его руку с плеч.
В гостиной никого не было, но на втором этаже шумел телевизор. Вураола расслышала голос Бакки Райта. Снова мама пересматривает «Савороиде»[63].
Кунле потянулся к ее руке, когда они поднимались, но она сделала вид, будто не заметила, и опередила его, шагая через ступеньку. Лестничная площадка переходила в семейную комнату. Это была закрытая территория для большинства гостей, кроме тех, кто, как Кунле с его родителями, уже практически сам стал семьей. Друзья семьи, как их называли родители.
Мать Вураола раскинулась на длинном диване, возложив ноги на две подушки. Когда она отвернулась от телевизора и увидела Кунле, ее лицо просветлело.
– Лакунле, Лакунле! Вураола не говорила, что ты придешь.
Кунле простерся на полу, коснувшись подбородком края половика.
– Добрый день, ма.
– Pẹ̀lẹ́, mummy ńkọ́? Àti профессор?[64]
– Все хорошо, ма. Они передают привет.
Вураола обняла мать сзади.
– Йейе о. Единственная и неповторимая Йейе Бобаджиро, а любые другие – подделки.
– Вураола omo Йейе, вспомнила наконец свою мать, эн?
– Просто признайся, что ты скучала по любимой дочери.
– Поднимись, Лакунле, поднимись. Omo dada[65], сядь, пожалуйста. – Йейе бросила взгляд на Вураолу. – Такой воспитанный молодой человек. В наше время это редкость.
Кунле здесь всегда был желанным гостем, и чаще всего Вураола радовалась, что его присутствие оживляет маму. Но время от времени ее и раздражало мамино одобрение. Она и сейчас чувствовала, как гнев, зачаточный и горький, нарастает в горле, будто желчь.
Эта самая женщина прошла мимо Нонсо, никак не реагируя, когда он простерся и прижимался подбородком к полу на том же самом месте, где теперь был Кунле. Бедный Нонсо. Он не двигался с места, даже когда Йейе вышла: поднялся, только когда в коридоре хлопнула дверь в ее комнату. Вураола познакомилась с ним на посвящении первокурсников, когда сама начинала первый курс в медвузе, а он уже учился на третьем. Подружились они на второй ее год, когда вместе работали в комитете недели здоровья. К концу ее третьего курса они стали такими друзьями, которые говорят по телефону, пока тот не разрядится. Друзьями, которые на День святого Валентина гуляют вместе и засыпают друг у друга в объятиях. Друзьями, которые иногда целуются и ласкают друг друга. Иногда они встречались с другими, но все еще оставались друзьями, а потом пересекались и делились страшными историями, касаясь друг друга только в перерывах между бывшими. Она в любом случае больше доверяла постоянству дружбы, чем романтики, – ну или так говорила, пока не пригласила его в гости на каникулах, когда была дома с родителями и когда между ней с Нонсо все трепетало от ожиданий.
До конца визита Нонсо сидел на краю стула, слишком нервничая, чтобы дотронуться до бутылки колы, которую она ему принесла, и бросал взгляды в коридор, словно переживал, что вернется ее мать уже с мачете. И она вернулась. Нонсо снова простерся на полу, но смотрела Йейе только на Вураолу. «Больше не смей приводить незнакомых парней в мой дом». Нонсо поспешил прочь раньше, чем она продолжила: «Wòó[66], если еще раз увижу в моем доме этого игбо, эн, в тот день Бог обязательно примет на небесах новую душу. Ты даже привела его наверх! Kíló fa наглость kẹ̀?[67]»
Все это время – время романа, интрижки? Они между собой никак не называли этот год, – Нонсо переживал из-за того, как отреагируют его родители, если он представит им девушку йоруба[68]. Она и не воображала, что его этничность может вызвать претензии у ее семьи. Ведь мама сама целыми днями рассказывала, каким благословением было каждый раз слушать мистера Окорафора, когда он вел библейский кружок в середине недели.
В переписке они решили, что пробовать еще раз не стоит скандала – им достаточно и дружбы. И, хоть секс прекратился, они поддерживали связь, даже когда он после выпуска переехал в Нсукку, и их долгие разговоры то и дело проваливались в паузы, кипевшие от возможностей. Это не было похоже на разрыв, пока он не женился.
Вураолу приглашали на свадьбу, но она не приехала. Все их общие друзья затопили «Фейсбук»[69] потоком фотографий с церемонии, и она весь день провела больной и разбитой, будто лично видела, как он обменялся клятвами с другой женщиной. Жена была выше его, ее свадебное платье подчеркивало самую тонкую талию, что Вураола видела у взрослого человека. Прокручивая фотографии, Вураола гадала, не этого ли он на самом деле хотел все это время. Какую-то светлокожую телку, будто с обложки журнала. Легче было думать о его жене так, а не вспоминать, что она лучшая выпускница своего курса в Ибадане, с отличием по хирургии и педиатрии. Доктор Рукайят Квадри. Не просто йоруба, а мусульманка-йоруба. Что может быть скандальнее.
– Ты меня не слышишь? Я же сказала – Кунле надо чем-нибудь угостить.
Вураола сняла руки с плеч Йейе.
– Мне надо переодеться.
– Сперва принеси ему попить.
– Рэйчел ушла на рынок?
– Какое отношение к твоему гостю имеет служанка?
– Кунле может и подождать, да? Ты же не умираешь с голоду?
Он мог бы все это разом прекратить, просто сказав, что ему ничего не надо, но нет, только стоял и улыбался.
– Вураола, разве так уж долго принести что-нибудь с кухни?
– Мама, я принесу, только дай переодеться.
Вураола отвернулась и направилась по коридору к себе. Когда вошла мать, она сбрасывала обувь.
– Когда началось такое непочтение, Вураола? Я тебя о чем-то прошу, а ты мне в ответ – тебе нужно переодеться. Причем перед гостем. Или твоя блузка сделана из скорпионов и муравьев-воинов?
Вураола расстегнула юбку.
– Если тебя это так волнует, может, сама что-нибудь принесешь?
– Мне принести самой?
Вураола сложила юбку, подчеркнуто не глядя матери в лицо.
– Мне? Вураола? Теперь ты мной помыкаешь?
– Могла бы просто сказать служанке.
– Помыкаешь мной в моем собственном доме, àbí? Выросла такая большая, аж стала старше меня.
– Я не это имела в виду, ма.
– Когда ты вдруг стала Лайи или Мотарой? От них я уже ничему не удивляюсь, но не от тебя, Вураола, нет, не от тебя.
– Можно хотя бы одеться? Или мне спуститься полуголой?
– Не утруждайся. Я сама позабочусь о госте, но просто знай, что это неприлично. Даже если он уже съел гору, ему все равно надо что-то предложить. Особенно в обеденное время. Так положено.
Когда за матерью хлопнула дверь, Вураола опустилась на кресло и сняла блузку. Вот из-за этого – этих постоянных замечаний о поведении – она и предпочитала проводить будни в грязных комнатах, предназначенных для интернов. Она бы не вернулась домой, если бы могла доверить спланировать день рождения матери Лайи или Мотаре. Но лучшее, на что приходится рассчитывать, – что Лайи пошлет деньги, а Мотара не будет путаться под ногами. Распоряжаться всегда приходилось Вураоле. Это с ней мама строила планы и переживала. А этот день рождения был для нее важен. Хотя Вураола не чувствовала себя виноватой и не понимала, почему должна все бросить и обслуживать Кунле, она все-таки извинится перед мамой после его отъезда: только так можно сохранить мир в доме.
Один стук – пауза; два стука – пауза; три стука – пауза. Отунба улыбнулся. Это его старшая дочь. Ему нравилось представлять это их кодом, что так Вураола стучится только к нему кабинет. Четыре стука – пауза. Он посмотрел на часы. Почти восемь. Может, готов ужин и она пришла спросить, не подать ли его сюда. Вураола вернулась домой ночевать первый раз за несколько недель; он лучше спустится, чтобы провести время со всей семьей. Пять стуков – пауза.
Отунба закрыл книгу и откинулся на спинку кресла.
– Я не запирался. Входи.
Вураола вошла.
– Наконец решила проверить, живы ли твои старики?
– Ahn-ahn![70] Но я же приезжала несколько недель назад. Добрый вечер, сэр.
– И с тех пор забыла мой номер?
– Просто слишком занята. – Вураола подмигнула. – Хочу стать богатой, как ты.
Отунба рассмеялся и кивнул на одно из кресел перед столом.
– К тебе приехал профессор Кокер.
– О, а я-то думал, это ты пришла провести со мной время.
– Йейе придумала мне кучу дел. Сегодня я ее уже рассердила, так что стану хорошей девочкой и этим вечером буду ее радовать.
– Всегда можешь купить ей золотое ожерелье, это все решает.
– Не могу себе позволить такое дорогое подношение, – сказала Вураола. – Проф в семейной комнате – мне ему сказать, что ты скоро придешь?
– Нет-нет. Пригласи его сюда.
– Хорошо, сэр.
Когда Вураола закрыла за собой, Отунба поднялся из-за стола и пересел в мягкое кресло рядом с книжными шкафами. На этот раз дверь открылась без стука.
– Мне надо было позвонить заранее, но я оказался неподалеку и решил ненадолго заглянуть, – зычно объявил профессор Кокер, войдя в кабинет.
– Здесь ты не гость. – Отунба жестом пригласил его в кресло рядом с собой. – Что будешь пить?
– Йейе меня уже угостила.
– Как поживает Корделия?
– Она в порядке.
– Не жалуется?
Когда Кокеры только переехали, Корделия чуть ли не каждый месяц ложилась в больницу. Если не падение, то бытовой несчастный случай. А потом – ее постоянные аллергические реакции. Из-за них лицо местами опухало на дни или недели. Какое-то время это беспокоило Отунбу, и он убеждал друга проверить на плесень дом, где они тогда жили. Впрочем, с годами он понял, что таков уж организм Корделии. Она по-прежнему приходила на собрания с опухшим из-за аллергии лицом, но хотя бы в больницу ложилась уже реже.
Профессор Кокер пожал плечами:
– Она здорова, передает привет.
– А Кунле?
– Разве ты его сегодня не видел? Он подвозил твою дочь.
– Я просил жену меня не беспокоить, – ответил Отунба. – Хотел хорошенько вычитать наше предложение на тот контракт от Министерства труда. Не хочу все доверять ребятам из офиса, нужно перепроверить самому.
– О, так я помешал?
– Ничего, мне все равно нужен был перерыв.
– Ладно, тогда я постараюсь рассказать покороче. – Профессор Кокер прочистил горло. – Я хотел лично сообщить тебе, что решил баллотироваться в губернаторы.
– Неужели наконец собрался?
– Я уже взял заявку на регистрацию.
– Замечательно. – Отунба похлопал друга по спине. – Чудесные новости. Это нужно отметить!
Профессор Кокер покачал головой:
– Отметим, когда я выиграю.
– Кокер, не забывай и наслаждаться жизнью. У меня тут в холодильнике есть шампанское. Давай отпразднуем.
– Это еще успеется. То, зачем я пришел к тебе, важнее.
– И что же это?
– Твоя поддержка.
– Ну разумеется, она будет. Зачем спрашивать?
– Я имею в виду деньги. Я хочу, чтобы ты вложил в мою кампанию и деньги, и имя. Твое имя имеет вес.
Отунба вздохнул.
– Ты знаешь, что я имею в виду: твой отец все еще легенда в этом городе. И я представляю себе плакаты с надписью: «С любезной поддержкой Отунбы Адемолы Макинвы», или еще лучше – «Отунбы Адемолы Арему Макинвы». – Профессор Кокер наклонился вперед. – Обязательно с твоим средним именем, потому что это имя и твоего отца. Ты же знаешь, люди по-прежнему молятся с его именем на устах, чтобы и у них было столько же денег.
– Теперь мне точно нужно выпить.
Отунба подошел к мини-холодильнику рядом со столом. Не торопясь, выбирал бутылку пива. Его не удивило, что Кокер обратился к нему. Все только и говорили о том, сколько денег водилось при жизни у отца Отунбы, но немногие задумывались, как сократились богатства после раздела на тридцать с чем-то человек. Конечно, Отунба не жаловался. Он унаследовал достаточно, чтобы можно было не работать десятилетиями, – и он вдобавок усердно работал. Бросив юридическую практику через два года после приема в адвокатуру, он учредил компанию по импорту канцелярских товаров для правительственных учреждений. Когда он начинал, власть еще принадлежала армии, и брат познакомил его со всеми нужными людьми, чтобы его предложения одобрялись. Когда военные ушли из власти, бизнес какое-то время простаивал. Он даже больше года работал в убыток, пока не разобрался в устройстве новой власти в Абудже.
– Считай это инвестицией, – сказал профессор Кокер, когда Отунба вернулся на кресло.
– Разве Фесоджайе сейчас не баллотируется?
– Слушай, меня поддерживает председатель партии. Он сказал мне об этом лично, поэтому я и регистрируюсь. Это мой шанс, и я его не упущу и не сдамся из-за Фесоджайе. Все равно это только слухи, он не объявлял публично, что баллотируется. Я тебе обещаю, это будет хорошая инвестиция.
Отунба хлебнул пива. Инвестиция. Люди Фесоджайе тоже это так называют. Инвестируй в кампанию – получи дивиденды согласно договору. Телефонный звонок, записка с подписью или текстовое сообщение от Фесоджайе нередко упрощали жизнь Отунбы всякий раз, когда он участвовал в тендере на контракт министерств, за которыми следил комитет Фесоджайе. Его ежемесячные вклады в новые кампании Фесоджайе были не взятками. А инвестициями.
– И откуда нам знать – вдруг Фесоджайе решит остаться в палате представителей?
– Дело в том, что я уже инвестировал в Фесоджайе. Ко мне обращались в ходе его последних выборов – и я сделал взнос в кампанию. Еще я с тех пор каждый месяц делаю взносы на следующую кампанию, поэтому практически уверен, что он баллотируется.
– А… А, я понимаю. – Профессор Кокер побарабанил пальцами по колену. – Вот как ты раскрутил свой бизнес?
– Фесоджайе кое в чем помогал, да.
Отунба сделал еще глоток, а профессор Кокер встал и начал мерить шагами комнату.
– Твоя поддержка была бы для нас очень ценной, Демола.
– Здесь два момента. Первый – это и правда бизнес, да. Я должен взвесить, что прибыльнее. Второе – я был в одном помещении с Фесоджайе, может, всего раза два. У меня даже нет его номера, но когда я обращаюсь к его личному помощнику, то получаю, что прошу, за пару дней. Он выполняет условия договора. И ты должен знать, что он славится злопамятностью. – Отунба сделал паузу, чтобы допить пиво.
– Доходили слухи.
– Мне нужно учитывать, что будет со мной и бизнесом, если я сейчас переметнусь. Одно дело – отказаться финансировать Фесоджайе, и совсем другое – публично поддерживать другого кандидата. Этот человек может помешать любым делам моей компании в Абудже. Все жирные министерские контакты пропадут как по щелчку. Как видишь, учитывать нужно многое.
– Отунба, ты упускаешь одно.
– И что же?
– Очень скоро мы можем стать родственниками. Твой вклад в мои амбиции – не только бизнес, еще это инвестиция в будущее Вураолы.
– Думаешь, дети настроены серьезно?
Профессор Кокер кивнул:
– Мой сын – да.
– Хм-м-м. Ладно, я приму к сведению. – Отунба наклонился вперед. – Присядь, поговорим о цифрах. О каком первоначальном взносе ты думал?
Искупительной жертвой Вураолы стала поездка с матерью к тете Каро. Выехали они поздно, поэтому прибыли уже в темноте и ей пришлось светить фонариком телефона, пока они переходили канаву. На шаткой доске она держала мать за руку.
– Почему она ничего не сделает?
– Ты знаешь, сколько раз я ей это повторяла? Сколько раз предупреждала. Наверняка из-за денег.
– Пусть хотя бы найдет доску получше и прибьет гвоздями. Уверена, на это ей хватит.
– Спасибо. – Во дворе Йейе отпустила руку Вураолы. – Не надо думать, будто ты знаешь, как живут свою жизнь другие люди.
Вураола рассмеялась.
– Уж ты-то всегда знаешь, как мне жить свою.
– Это другое, ты – моя кровинка.
Тетя Каро открыла раньше, чем они постучали. У нее в руках была керосиновая лампа.
– Йейе, добрый вечер. Доктор Вура – я вам все звонила и звонила, чтобы спросить о фасоне.
– Для этого мы и приехали, Каро. Она сейчас что-нибудь выберет.
– Простите, тетя Каро. Я хотела перезвонить, но все вылетало из головы.
Тетя Каро провела их в гостиную, потом ушла с керосиновой лампой в коридор за журналами.
На центральном столе мерцала свечка, капая воском в банку из-под молока. От колебания пламени по комнате скользили тени. Не в силах развеять тьму, свеча довольствовалась тем, что гоняла ее с места на место.
Скоро тетя Каро вернулась со стопкой журналов и сунула их Вураоле.
– Спасибо, что принимаешь нас в любое время, Каро, – сказала Йейе.
Тетя Каро улыбнулась и поставила лампу на стул рядом с Вураолой.
В основном она хранила старые выпуски «Овейшен» – самые свежие были двухлетней давности. Вураоле мало что нравилось, а когда она наконец показала на платье до пола с длинными рукавами, мать покачала головой:
– Ни за что, ты в нем будто только что из монастыря.
– А по-моему, хорошо.
– Ты – sisí, незачем одеваться как старухе. Ищи получше о, на празднике будет много видных холостяков, Лайи приглашает друзей из Лагоса. Покажи им свои ноги или плечи, а это платье спрячет тебя целиком.
– А как же Кунле? Твой хороший мальчик из хорошей семьи? Опять не угодил? – спросила Вураола.
– Мне-то он угодил, – сказала Йейе, – но он… Вы с ним уже больше года изображаете парня и девушку, может, он все-таки не твой суженый.
– Ты серьезно? Суженый? – Вураола рассмеялась. – Àfi[71] суженый, Йейе о.
– Парень и девушка, хотя вам уже не пятнадцать. Он мне нравится о, но он на тебе еще не женился, даже не обручился, поэтому нужно иметь варианты. Àbí, он говорил с тобой о свадьбе, ni? Тогда скажи скорее о, чтобы я могла строить планы.
Вураола взяла другой журнал и наклонила к лампе. Кунле заговаривал несколько раз о свадьбе, но она пока не собиралась рассказывать об этом матери. Обойдется и без града советов, что обрушится сперва лично, потом – через телефон в виде звонков и сообщений, которые будут будить спозаранку. Когда ей исполнилось двадцать три и она еще из-за разных университетских забастовок училась на третьем курсе медвуза, мама перестала советовать ей читать книжки и не гоняться за глупыми мальчишками, зато начала интересоваться всеми подробностями личной жизни. Это была одна из причин, почему она без сомнений разрешила прийти Нонсо.
