Реальные истории
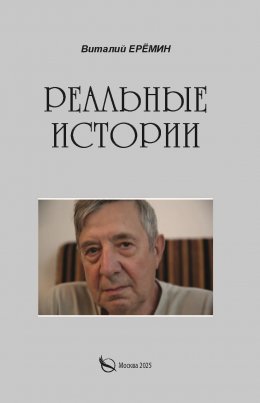
© Издательство «Перо», 2025
© Ерёмин В. А., 2025
Рассказы
Каноны conte
(вместо предисловия)
Писать рассказы как-то особенно интересно. Сегодня начал и сегодня же вчерне закончил. Считай, в один присест. Последующая отделка не в счет. Но это, конечно, сроки торопыг.
Раньше автора спрашивали, что он хотел сказать читателю, сегодня это глупость. Не дело писателя-как бы оправдываться. Сам читатель должен соображать. Ну, или критик, рецензент. Хороший критик найдет у автора то, о чем тот и не помышлял.
Чем больше озадачен читатель (критик) вещью, тем она интереснее. Значит, автор заложил в текст достаточно смыслов, истин, загадок, скрытой дидактики.
Писатели не любят читать других. Хотя читать надо – в своих же интересах. То ли стимул получишь, то ли утешение. То ли… но об этом впереди.
Радуюсь, когда встречаю что-то, заставляющее читать дальше. Радуюсь запоминающемуся смачному словцу. («Свежий старик», к примеру, у Толстого). Но особенно – какой-то психологической тайне, придающей тексту полноту и объем.
Вот, хоть убей, не люблю длинных рассказов, больше 10 страниц. Я уже все понял, уже проникся (если было чем), а рассказ, словно пластинку, заело.
Мне нравится роман, где каждая часть – как бы отдельный рассказ. Прочел и отложил до следующего раза. Скажем, «Царь-рыба» В. Астафьева.
Даже у великих писателей много «болтовни». Сегодня это особенно недопустимо. Автор должен чувствовать пределы ненатужного восприятия. Вспоминается Бунин с его «извольте не переступить ста строк». Будто сегодня сказано.
Рассказ возник как жанр раньше романа. Возможно, еще в эру ужинов в пещерах: «бойцы вспоминали минувшие дни». А короткий рассказ (conte) развился уже во Франции, около 1600-го года.
«В conte сочинитель имеет возможность полностью осуществить свой замысел, каков бы он ни был, – писал Эдгар По. – Именно короткий рассказ таит в себе наилучшие возможности для проявления величайшего таланта». Это явно о себе, но все равно верно.
Сами американцы объясняли особую краткость своих рассказов темпом их американской жизни. Сказалась также их знаменитая деловитость. Автор с первых строк должен переходить ближе к делу. Если затянет начало, потеряет читателя.
Страдают ли при этом краски, разные тонкости? Смотря у кого. Но даже если страдают, американцев это не колышет.
Сюжет для короткого рассказа американцы умудрялись развить, и он дотягивал до сюжета полноценного романа. И наоборот, из сюжетов, предназначенных для романов, выходили добротные короткие рассказы.
На первом месте в рассказе, как известно, ситуация, в романе-характер. В американском рассказе это соединилось. Хороший американский рассказ стал выделяться экстравагантностью, некоторым даже эпатажем характеров, сцен. Автор знал, что издатель не купит у него скуку. А читатель знал, что его не надуют – не продадут ему скуку.
Многие наши сегодняшние рассказы отличаются ничтожностью темы и смыслов. Чтобы сконструировать по-настоящему жизненный сюжет, нужно иметь насыщенный жизненный опыт. Или хотя бы какое-то совсем особенное воображение. А если этого нет?
Между прочим, это первый критерий. Ничтожно произведение по авторскому замыслу, по теме, по характерам персонажей или не ничтожно. Этого критерия держался Лев Толстой. Кому только не доставалось от него. Даже великому А. Островскому: ««Гроза», по-моему, плачевное сочинение».
Корней Чуковский писал: «Толстой не изображает людей; он, подобно артисту, преображается в них». Михаил Булгаков добавил к этому, объясняя себя: «По сути дела, я – актер, а не писатель». Иначе говоря, секрет большого писательства-в талантливом перевоплощении автора в своих героев. Не случайно некоторым даже большим писателям не удавались пьесы: не хватало такого рода актерства. А Чехов не просто шагнул в драму из прозы рассказа, а создал свою оригинальную форму пьесы, сценичность которой угадали корифеи МХАТа.
Рассказ (маленькая повесть) и пьеса – жанры-близнецы, в том смысле, что требуют от автора одинаковых качеств. Хорошая пьеса тоже пишется залпом, без перерывов. Это еще Леонид Зорин отмечал, а уж он-то знал в этом толк. В хорошей пьесе всегда есть символика, но и хороший рассказ без каких-то смыслов-символов – не рассказ. Хороший драматург ни на секунду не дает зрителю пошептаться с соседкой. Но и в хорошем рассказе каждое слово держит читателя в напряжении. То есть драматургия пьесы и драматургия рассказа требуют от автора одинаковых способностей. И прежде всего-художественной натуры.
Писатель не может не быть одержим работой пером. Достаточно вспомнить Флобера. «Я люблю свою работу яростной и извращенной любовью, – писал он своей возлюбленной. – На меня находит вдохновение после семи-восьми часов работы. Я пишу не более пять-шести страниц в неделю. Я – человек-перо. За четыре дня написал пять страниц. «Бовари» подвигается туго, за целую неделю-две страницы!!! Есть за что набить самому себе морду».
А Толстой с его бесконечными переделками написанного… Он сам признавал, что не имел природного таланта. И что талант создается одержимостью. Каждодневное, изматывающее писание шлифует и укрупняет природный талант.
Интересные мысли по этому поводу высказывали братья Гонкуры: «Талант может быть только у того, кто рассматривает литературу и занимается ею потому, что его толкает на это потребность быть мучеником».
Сегодня считается, что писательство можно освоить за несколько недель. Есть немало книг-инструкций, как надо писать. Пушкин инструкциями не пользовался. А за ним и Толстой, и Достоевский, и Чехов. Считалось, что настоящий писатель должен всему научиться сам. А теперь считается, что можно научить в сжатые сроки. Чему-то, безусловно, можно. Но не всему и не самому главному. А главное в сочинительстве все же язык во всех его проявлениях, и ритмика, расположение слов в предложении, в абзаце, и занимательность, которой так гордился Достоевский, сознавая, что стилем своим не блещет, либо изысканность языка, так ценимая литературными гурманами, которая однако же (мнение тех же братьев Гонкуров) «несколько омертвляет дозировку жизни в произведении».
Хотя, если брать по большому счету, то язык в прозе любого жанра (включая прозу драмы) – всего лишь средство для создания запоминающихся, переживающих свое время типажей (характеров), вроде Робинзона Крузо, Дон Кихота, Спартака, Онегина, Татьяны Лариной, Печорина, Базарова и т. д. Тургенев славится своим умением выписывать женские портреты и характеры, однако же известным стал Базаров, а не какая-то «тургеневская женщина». Потому что типаж (характер!). А Чернышевский сам признавался, что нет у него и тени таланта, и даже языком владеет плохо, однако же нарисовал Рахметова на века.
Но ведь и создание типов – это еще не вершина. Главы с Иешуа и Понтием Пилатом в «Мастере и Маргарите» – вот вершина, вот сущая магия. И вот где личность автора. (И сколько ни объясняй, в чем эта магия, всего будет мало).
Выписать самого себя через свое произведение, так, чтобы это не бросалось в глаза, чтобы сам автор завораживал читателя как тип человека, – вот высший пилотаж писательства.
Оскар Уайльд сформулировал это так: «Персонажи нужны в романе не для того, чтобы увидели людей, каковы ни есть, а для того, чтобы читатели познакомились с автором, не похожем ни на кого другого».
Лев Толстой предсказывал: «Со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича. Писатели, если они будут, станут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случалось наблюдать в жизни».
Странное заявление для такого сочинителя, к тому же собиравшего афоризмы для философско-нравственного обогащения «проклятой» писательской работы. Будто не знал правила Сенеки: «Вымышленное тревожит сильнее. Воображение доставляет нам больше страданий, чем действительность».
Но как бы то ни было, эту мысль подхватил Антон Чехов: «Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов». За что и поплатился, многие современники как раз и считали его сюжеты серыми. Но ведь и Сергей Довлатов, хотя и не ссылался на тех, с кого брал образец, писал в точности именно так. О том, что видел, слышал, без сконструированных сюжетов. В результате оказалось, насколько важно, что именно наблюдал в своей жизни начинающий писатель. «Герои моих рассказов – зэки, фарцовщики, спившаяся богема… Я дружил с человеком, засолившим в бочке жену и детей», – не без самолюбования написал Довлатов.
Как же, оказывается, важно соблюдать совет Флобера: «Главным достоинством писателя является знание того, чего писать не нужно». Но это утверждение касается не только каких-то гадостей жизни, но и элементарного многословия. «Даже лучшие писатели пишут слишком много». Этот вывод принадлежит не только критикам. То же самое не нравилось Салтыкову-Щедрину: «Из всех видов болтовни, несомненно, самый ужасный-болтовня литературная». Чехова не раз заставали за чтением Льва Толстого с карандашиком в руках. Он сокращал.
Самый известный нарушитель совета Флобера – Владимир Набоков. У каждой книги, как известно, свой читатель. У «Лолиты» это читатель-сладострастник. Другие испытывают при чтении тошноту и не дочитывают до конца. Зато Набоков получил, наконец, всемирное имя. После «Лолиты» все его не проданные книги были сметены с прилавков.
Но Набоков, надо признать, опроверг еще одно правило – нельзя писать то, что кажется интересным только самому автору. Набокову это удавалось за счет редкого таланта. Но сколько книг, интересных только их авторам, издано с тех пор и продолжает издаваться сегодня! Их море.
Специалисты утверждают, что хороший писатель должен быть провидцем, а хорошая литература должна быть устремлена в будущее. Но вот уж каким провидцем был Валентин Распутин. Уж как тонко предсказывал, что происходит у нас с людьми и к какой деградации ведут народ обманувшиеся обманщики, а кто к нему прислушался? А ведь то было время, когда книги еще читали в метро, а власть лелеяла книжный мир, как никакая другая власть в мире. И писатели (не все, конечно) были писателями, а не самозванцами.
Коммерция делает сегодняшний писательский мир аморальным. Литературное кумовство стало привычным явлением. Тщеславные графоманы, не осознающие своей посредственности, не имеющие ни ума своего века, ни богатого жизненного опыта, ни высокой души, попадают в лонг- и даже в шорт-листы, печатаются в журналах. Хотя им никого духовно не поднять и никого не изменить. А меняться нам никак не помешало бы.
Многие сейчас ждут и едва ли уже дождутся, когда кто-нибудь напишет, что люди у нас, в подавляющем большинстве, не умеют достойно и полнокровно жить, а значит, как бы и не живут. Представляете, человек физически живет, а на самом деле… Ну как же так!?
Интересно было бы также понять, когда это кончится и что требуется, чтобы это поскорее кончилось. Это «выгодно» и «удобно» в основе всех чувств и поступков. Это – «я ни в чем не виноват». Железный канцлер Бисмарк (сухой и жесткий политик) сказал однажды интимно, что ищет прощения. А кто сегодня этого ищет?
В 90-х мы проиграли не внешнему врагу. Мы самим себе проиграли. А это еще страшнее. Это значит, что ген поражения самих себя сидит глубоко в нашей психологии. Но никто им специально не занимается. А ведь надо. Особенно писателям надо.
В советские 70 лет уж как старались инженеры человеческих душ, как помогали родной партии, но так и не изменили нашего человека. Точнее, сначала он, вроде, сделался лучше, чем был при царях (хотя как посмотреть), а потом снова все пошло наперекосяк, и человек наш снова стал (по Достоевскому) дрянь-человек. Мы это вроде поняли к началу 90-х, но что сделали с тех пор за прошедшие 35 лет? А ничего, мы не мешали самим себе не становиться лучше, с поддержкой той же литературы, или кино, или телевидения. И власть ничего не делала. Будто ей все равно, какие граждане живут в государстве. И какие они люди.
Раньше стоящие писатели надеялись, что их по достоинству оценят потомки. И эта надежда обычно сбывалась. Но сейчас этой надежды нет почти совсем. Человек, читающий книги в гаджетах и компьютере, – это неполноценный читатель. Стоящему писателю его мнение не интересно. Ему должно быть интересно мнение только того читателя, который умнее его. И мнение только того критика, который может объяснить ему, автору, о чем он на самом деле говорит читателю. Если говорит.
Рассказы, размещенные в Интернете, написаны словно по совету Паустовского, что «писать надо нахально». Вроде бы написаны искренне, но почему эта искренность так скучна? Почему ничуть не весело, когда читаешь чей-то юмор? Почему не волнует описание чьих-то как бы страданий? Но и то, что происходит не в сердце, а в голове у героя, тоже не интересно.
В действиях персонажей не угадывается никакой отчетливой авторской идеи. Слабый анализ мотивов поступков героев, если он вообще присутствует. А ведь в этом сила рассказа – в кратком, но глубоком анализе мотивов. Диалоги, чаще всего, никакие. Концовки неподходящие либо неестественные, снижающие впечатление.
Мы любим повторять за Вольтером, что все жанры хороши, кроме скучного. Это так, но Вольтер добавил: «Да, сударь, но грубость – не жанр. Сколько же разнообразной грубятины и пошлятины у нас сейчас. Но нравится она читателю, надо признать.
Шаламов писал: «Опыт говорит, что наибольших читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме». Написано лет этак 50 назад, строй давно сменился, читатель абсолютно другой, а читается, будто про сегодняшний день. Значит, в каком-то глубинном смысле наш человек-читатель мало изменился. И не об этом же говорит неиссякаемый интерес телезрителей к примитивным сериальным мелодрамам? Новое кино не выращивает другого зрителя. Новое поколение писателей не создает нового читателя. Мы идем в такое никуда – мороз по коже.
Шаламов писал также: «На наших глаза меняется вся шкала требований к литературному произведению. Многословная описательность становится пороком. Современный читатель с двух слов понимает, о чем идет речь, и не нуждается в подробном внешнем портрете, в классическом развитии сюжета. Когда А. Ахматову спросили, чем кончается ее пьеса, она ответила: «Современные пьесы ничем не кончаются». Художественный крах «Доктора Живаго» – это крах жанра. Жанр романа просто умер. Читатель XX столетия не хочет читать выдуманные истории, у него нет времени на бесконечные выдуманные судьбы».
Мастер короткого рассказа, Шаламов азартно третировал жанр романа и тем самым перекрывал себе же догадку, что роман не умрет (хотя сам Толстой писал, что форма романа прошла), а просто изменит форму. Это будут короткие рассказы, нанизанные на один сюжетный стержень, на одну морально-художественную идею.
Настрадавшийся в ГУЛАГе, Шаламов всеми фибрами ненавидел высосанные из пальца сюжетцы, узколобые мыслишки благополучных писак. Он отстаивал, что «проза должна быть простым и ясным изложение жизненно важного». То есть повторял требование Толстого, только своими словами. Но у Толстого не было ничего ничтожного вовсе не потому, что он брал своих героев из жизни. Кого-то он полностью выдумывал, но при этом заповедь «ничего ничтожного» свято соблюдал. Выдумка ничуть не мешала ему. А Шаламов упорно отстаивал свое, «выстраданное собственной кровью».
Но как тогда быть с утверждением О. Уайльда, что «истинно реальны только персонажи, в реальности никогда не существовавшие»? Отмахнуться? Или все же призадуматься? Каноны в писательстве – вещь необходимая. Но большой талант ломает все каноны и творит по своим законам. Достаточно вспомнить Гюстава Флобера.
Из его интимного письма: «Меня иногда тошнит от пошлости моего сюжета». Но! Флобер заканчивает мысль: «Художник должен уметь все возвысить. Чтобы удержать сюжет все время на высоте, необходим чрезмерно выразительный стиль, ни разу не ослабевающий».
У Флобера были немыслимые задумки: «Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы сделать, – это книгу ни о чем, которая держалась бы внутренней силой своего стиля, книгу, которая почти не имела бы сюжета или, по меньшей мере, в которой сюжет, если возможно, был бы почти невидим…»
И далее: «Нет ни возвышенных, ни низких сюжетов, и можно почти как аксиому установить, с точки зрения чистого Искусства, что… стиль сам по себе является абсолютной манерой видеть вещи… Это и есть как будто путь Искусства в будущем».
Во как!
Есть много чего объясняющий канон: достоинство произведения определяется достоинством сознания сочинителя. Такое сознание-это чувствилище, состоящее из биографии, впечатлений, опыта, богатств души, культуры, образованности, эрудиции.
Хотя важны и другие каноны. Не дожидайся вдохновения. Мысли приходят, когда начинаешь писать. Перо само по себе отворяет сознание и запускает воображение.
Не старайся угодить читателю, понравиться ему или чем-то удивить. Читатель все равно примет только то, что ему действительно интересно. И ему может передаться только сильное сознание автора. А сильное сознание создается, прежде всего, насыщенным жизненным опытом.
В любом случае, каждый читатель поймет смысл твоей вещи по-своему. Если, конечно, в ней есть что понимать. Это неизбежно в том случае, если в подлинной истории есть понятный читателю интим, тогда он воспринимает историю, как и о себе тоже, и как тайну, которую автор доверительно, с обязательным тактом, ему сообщает.
Избитая истина: главное в начале работы – первая фраза. Неизбитая истина: эта первая фраза должна быть началом завязки. То есть: завязка должна быть не после вступления, а в самом вступлении.
Самая выигрышная (выше сюжета) занимательность – интеллектуальная. Та, что делает читателя эрудированнее, умнее, заставляет его задуматься о чем-то, стать выше в собственных и чьих-то глазах.
Писатель должен галлюцинировать, то есть мысленно видеть изображаемое им, и преображаться в своих героев. А заодно-эмпатировать. Сопереживать своим героям, точнее, переживать за них, вместо них.
Характеры главных персонажей должны быть по возможности эксцентричными.
Герои складывают сюжет своими поступками, продиктованными своими характерами, но никак не наоборот.
Сюжет может быть банальным, порочным, даже пошлым, но только сюжет! Не словарь, не стиль.
То, что удивительно и маловероятно, должно быть написано наиболее естественно и правдоподобно.
Нужно стремиться к полноте повествования, отвечая на все вопросы читателя, но нельзя ничего рассказывать и показывать до конца.
Объем вещи определяется способностью автора чувствовать, до каких пор он владеет вниманием читателя. То есть способностью быть читателем самому себе. Главное в этой способности-умение определять то, о чем писать не нужно. Искусство писать-это во многом искусство читать самого себя.
Принимаясь за работу, вспомни Толстого и спроси себя, не ничтожен ли твой замысел? И держи в голове, возможно, небесспорный, завет Набокова: «Всякая великая литература-это феномен языка, а не идей».
Пятый ребенок
Дмитрий несколько недель их знакомства не догадывался, что все четверо детей у Анны, три мальчика и одна девочка, от разных мужчин, а муж был один, и она почти любила его. Она так и сказала «почти», когда рассказывала о муже. Дмитрий не стал уточнять, что означает это «почти». Отчасти из деликатности, отчасти от привычки догадываться самому. Но когда догадываешься, все равно остаются сомнения, и хочется получить либо подтверждение, либо опровержение. А главное – оставалось непонятным, зачем она это сделала, и как она могла это сделать, такая положительная, правильная. Так обманывать мужа много лет, пока он не умер.
В общем, требовался разговор по душам, но Дмитрий не решался начать. Боялся, что Анна будет чувствовать себя уличенной в обмане мужа, а какой женщине это понравится? И будет считать Дмитрия занудой. Мог бы и потерпеть со своими догадками. Что это теперь изменит? Нужно с этим либо жить дальше, либо разбегаться.
Расставаться с Анной не хотелось. Она была для Дмитрия очень во вкусе. Стройная, гибкая, порывистая, густые волосы, узкие бедра, округлые коленки, стройные ножки, умные веселые глаза. Только самое волнующее место не очень волновало. Ну так, чего вы хотите, выкормить четверых. Зато Анна, не признавая косметики, выглядела моложе своих сорока двух лет и всей своей статью, походкой, манерой двигаться заставляла любоваться собой. На нее не приедалось смотреть. Ее не портили даже мелкие веснушки. Только вот смех. Нет, она смеялась приятно, душой, но было в этом смехе что-то странное, словно она в каких-то случаях смеялась последней.
Она быстро поняла, что Дмитрий ее вычислил, но проявляет такт, и ей самой захотелось объяснить себя.
– Димочка, считай, что хобби у меня такое. Я ж патриотка, мне обидно, что нас так мало, – сказала она, пытаясь свести к шутке.
Дмитрий тоже был патриотом и считал, что для повышения рождаемости надо как следует поддержать одиноких женщин. Чтобы не боялись рожать, государство должно взять на себя обязанности перед каждой-быть для нее опорой и каменной стеной.
Но обсуждать эту тему ему сейчас не хотелось, и он как бы равнодушно согласился, чувствуя, что только так разговорит Анну.
– Ну, хобби так хобби.
– Тебе все равно? – удивилась Анна.
– Почти, – со смешком ответил Дмитрий.
Анна состроила гримаску, мол, ах вот ты о чем!
– Видишь ли, Дима, мужа нельзя было любить нараспашку. Он был не глава, а враг семьи. Совсем не умел зарабатывать, но страсть как любил брать кредиты. Кредиты вообще не для нашей русской психологии. А расплачиваться приходилось мне. А потом… Потом один кредитор взял в заложники второго сына. Пригрозил, что продаст его в рабство на Северный Кавказ, коз пасти. А муж не очень переживал по этому поводу. А потом он заболел от своей никчемности. И я знала, что он долго не проживет, и не хотела иметь детей, похожих на него. А детей хотелось много, пятерых. Но я не разводилась с ним. Выхаживала, хотя он был безнадежен. Это длилось несколько лет. Конечно, мне нужна была отдушина. Дружила телами. Рожала еще. Поставила цель – родить пятерых.
Анна значительно посмотрела на Дмитрия. Понял или не понял? Конечно, понял, но при этом напрягся. Что ж, его можно понять. Но и он должен понять ее. Ей план надо выполнить.
После этого разговора Дмитрию захотелось поближе познакомиться со старшими мальчиками. До сих пор он общался только с младшим сыном и дочкой. Только их Анна брала с собой, когда приезжала к нему. Других он видел только на фотографиях.
Старший совсем не похож на мать. Он и характером был в отца. Большой, покладистый увалень. А второй сын совсем не похож на Анну, а значит, копия ее второго мужчины. Скорее всего, не только внешне. Скандальный эгоист, интриган. И третий сын совсем не похож на Анну. Приятный мальчик, спокойный умница, но все время себе на уме, уклончивость для его девяти лет удивительная. Четвертой была девочка. Вот она точно вся в мать, просто клон. И не только лицом и фигурой. Такая же умненькая и настроенная во всем быть лучше других.
И все же было в детях Анны, таких разных, что-то общее, но это только угадывалось. Это общее Дмитрий чувствовал в их отношении к нему. Предположительно, это был их общий страх, что у мамы может появиться пятый, вот от этого ее хахаля. То есть от него.
И тогда их привычная жизнь станет другой. Им в их трехкомнатной квартире придется потесниться. Мама станет меньше зарабатывать или вообще будет заниматься только своим пятым. Но они знали пунктик мамы и решили объединиться в протесте. Мама, хоть и упертая, не может не подчиниться им, четверым. Сговор этот организовал второй сын, он же предъявил маме ультиматум: даже не мечтай! А если пойдешь против, они четверо не примут пятого, как своего.
Но, как это бывает в жизни, ультиматум запоздал. Анна уже залетела. «Мама, ты знаешь, что тебе нужно сделать!» – потребовал семнадцатилетний Второй. Другие дети поддержали его своим молчанием и мрачным видом. Даже шестилетняя доченька, обняв маму, шепнула:
– Мамочка, ну сделай, чего тебе стоит.
Анна посмотрела в глаза крохе и поняла, что доченька уже знает от любимого второго брата, что такое аборт.
– Мамочка, мы понимаем, это у тебя такое хобби, – по-взрослому сказала доченька. – но нам-то это зачем?
Казалось, детям даже в голову не приходило, что они требуют от матери, чтобы она убила их братика или сестренку.
Был, конечно, вариант, при котором детки могли отказаться от своего ультиматума. Это если бы Анна и Дмитрий стали законными супругами и соединили две квартиру в одну пятикомнатную. Но Анна с самого начала поставила условие, что у них-«дружба телами», и не более того. Хотя на самом деле была увлечена Дмитрием. Что же мешало ей создать, наконец, полноценную семью?
Она знала своих детей. Если бы они стали жить вместе, второй сын ни во что не ставил бы Дмитрия, интриговал бы против него и в конце концов добился бы своего. Дмитрий ушел бы. Снова пришлось бы менять квартиры. О, только не это!
Дмитрий мучился тем, что его ребенок будет жить не рядом с ним, и это положение едва ли изменится со временем. Если бы он знал о планах Анны на пятого ребенка, он наверняка отказался бы от связи с ней. Но она не была с ним откровенна. Он даже имел основание считать, что она использовала его. На шестом десятке он влип, как парнишка.
И все же он пришел в дом Анны, ответив на ее звонок и плач в трубку. Второй сын доводил ее до истерики. Перепалка с ним перешла на повышенные тона. Второй провоцировал Дмитрия на драку. И Дмитрий в какой-то момент готов был сорваться. И наверняка сорвался бы, но в самый горячий момент Анна поддержала сына, а не его, Дмитрия. И он понял, что она никогда не будет так близка с ним, как того требует их взаимное чувство. В крутую минуту она примет сторону любого из своих детей.
Он ушел. Она проводила его до машины. Говорить о чем-то было тяжело. И все же он спросил, откуда у нее это увлечение рождением детей.
Анна улыбнулась кончиками губ:
– У меня этого не было, пока не родила первого. Такой кайф-кормить ребенка грудью. Почти наркотик. Мужчине этого не понять.
Дмитрий слушал и видел Анну другими глазами. Почему он не встретил ее лет двадцать раньше. Ей не пришлось бы рожать от разных других.
Они расстались, согласившись, что надо взять себя в руки и не дать детям развести их. А через час она позвонила из больницы, куда попала с переломом руки. Возвращаясь домой, поскользнулась…
Он приехал. Она горько плакала.
Во время операции ей кололи препараты, категорически противопоказанные при вынашивании плода. Их ребенка не будет. Она не выполнит свой план. А это был, считала она, ее последний шанс.
Он утешал ее с горечью. Она сказала, что, наверное, уже не сможет дружить с ним. Он с облечением согласился.
Смертник
Предсказание адвоката Венеры Садыковой, что суд учтет их возраст и не будет проявлять кровожадность, не сбылось. Суд приговорил их двоих к высшей мере.
В узкую дверь без кормушки Юрий вошел боком. Это была камера-пенал. Четыре с половиной шага от двери до стены с зарешеченным окошком размером в ладонь. Поперек можно было сесть и, вытянув руки, коснуться противоположной стены. На прогулку Юрия выводили исключительно ночью. При этом надевали наручники, а в рот вставляли резиновую грушу. При этом никто не объяснил, зачем это делается. Каждый смертник должен был сам найти ответ.
Недели через две Юрия повели на встречу с Венерой. Адвокат сказала, что кассационная жалоба уже готова, вот она, подпиши. Юрий подписал. «Не отчаивайся, – сказала Венера. – Судья не мог поступить иначе. Слишком громкое у вас преступление. Более мягкий приговор общественность могла бы истолковать как гнилой либерализм. Потерпи, сейчас им просто нужен шум и гам. Этим приговором они хотят устрашить других. Пройдет два-три месяца, страсти улягутся, и тебе смягчат приговор».
Венера говорила, повторяясь, что-то еще, Юрий не слышал. Соображалка у него работала плохо, но он все же понял. Они с Максом умрут, но тем самым будут спасены чьи-то жизни. Кого-то из тех, кто сейчас готовится к подобному преступлению, они своей смертью остановят.
Надзиратели относились к Юрию безразлично, то есть хорошо. Не на всех выводах на прогулку вставляли в рот грушу. Только одна надзорка плюнула ему в миску. Он посмотрел на нее с удивлением: ей-то он что сделал? Оказалось, надзорка – жена одного из ментов, пострадавших от него в банке.
– Если он ослепнет, я выжгу тебе глаза, – бешено пообещала надзорка.
Они с Максом взяли банк, считай, голыми руками. Их оружием была только известь в пульверизаторах. Как ни странно, это сработало. Сказалось, что охранники банка не почувствовали в них никакой угрозы. Они оделись под рабочих, лица скрыли респираторами. Хотя именно это и должно было насторожить. Но в те годы напасть на банк… Это случалось в Союзе раз в три года.
Он не сомневался, что бешеная надзорка может выжечь ему глаза. С нее станет. Он боялся подходить к кормушке, и все же… подходил, когда раздавали еду. Что-то подсказывало ему, что надо сохранять не только дух, но и вкус к еде, иначе можно околеть от истощения.
Ответ из Верховного суда пришел быстро. В замене смертной казни 15 годами заключения им было отказано.
«Ну, вот и все», – думал Юрий, уставившись в противоположную стену, покрытую бетонной овечьей шкурой – штукатуркой «шуба». Его трясло. Он пытался унять нервное возбуждение ходьбой. Но долго ходить в пенале было невозможно. Казалось, топчешься на одном месте.
Надзорка сунула ему страницу из какого-то журнала с заметкой «Что чувствует человек, когда ему отрубают голову?» Юрий прочел: «Да, испытывает. В 1905 году во Франции врач назвал казненного мужчину по имени через несколько секунд после того, как тот был обезглавлен гильотиной. У отрубленной головы поднялись веки, зрачки сфокусировались на докторе, и лишь через несколько секунд глаза закрылись. Когда врач вновь произнес имя казненного, все повторилось, и лишь на третий раз голова не ответила».
«Значит, и после расстрела я буду еще какое-то время что-то соображать. Я успею сказать себе: вот и кончилась моя жизнь», – подумал Юрий.
Он курил закрутки, но табака едва хватало на день. Хуже всего было ночью. Спать он мог только изредка, впадая в дремоту от изнеможения.
Ночью свет не выключали. Он осмотрел каждый сантиметр камеры, надеясь найти «бычок», прилепленный к штукатурке «шуба». Но нашел только крохотный осколок стекла. Этого осколочка вполне хватило бы, чтобы перерезать себе вены.
Он было собрался, но не смог сделать это. Он сказал себе, что надо принять неизбежное достойно. Так иногда говорил Макс. Он продолжал жить мыслями друга. Но он говорил себе, что если его не расстреляют, он переменит свою жизнь. И это была его мысль. Короче, он раскаялся. Он заплатил за свою дурь самым большим страхом. Он был уже не опасен, но все равно должен быть расплатиться. Это правило он никак не мог изменить. Другое дело-сама плата.
Он совсем перестал спать. Точнее, не спал, а дремал. У него обострился слух. Он ловил каждый звук, проникавший в камеру, – не за ним ли идут? Он знал, что расстреливают обычно во второй половине ночи.
Однажды он вышел из дремы от странного звука в камере. Этот звук приближался. При слабом свете (свет в камере ночью не выключался) он увидел огромного таракана. Он отломил ему кусочек хлеба, таракан надолго уселся на этом кусочке и никуда больше не уходил. Юрий спросил его, как он тут очутился, и больше не сказал ни слова. Испугался, что если начнет с ним разговаривать, то поедет мозгами.
Венера отправила прошение о помиловании в Президиум Верховного Совета. Но Юрий уже не верил в пощаду, потому что ему снова стали вставлять грушу в рот, выводя на каждую прогулку. Вывод из камеры бы выводом в неизвестность. Это могла быть прогулка, и это мог быть расстрел. Каждый раз он прощался с жизнью. Ему было жаль себя до слез. Он еле передвигал слабые ноги. И шел спотыкаясь. А когда видел, что его ведут в прогулочный дворик, а не в подвал, ноги совсем отказывались идти.
После возвращения в камеру он обычно вспоминал Венеру. Это благодаря ей он еще жив. Значит, что-то правильно написала о нем в кассационной жалобе.
– Таких дураков я еще не видела, – сказала ему Венера, когда впервые пришла к нему в тюрьму.
Он не обиделся.
– Я должна понять, на чем строить твою защиту, – сказала Венера и угостила хорошей сигаретой.
Он курил, а она рассказывала, что уже беседовала с его матерью и примерно понимает, что он собой представляет. Но ей нужно убедиться в правильности своих предположений.
– Я буду задавать тебе трудные вопросы, а попробуй понять, что стоит за учеными словами. Итак…Что такое творческая энергия?
Юрий пожал плечами.
– Что такое нравственное чувство?
Юрию стало смешно.
Венера озадаченно прикусила нижнюю губу:
– Что ты так? Ну а что такое самоутверждение, ты знаешь или хотя бы догадываешься?
– Самоутверждение? – озадаченно повторил Юрий. – Нет, мне это слово ни о чем не говорит.
– Считай, что это жаргон образованных людей, – пошутила Венера. – Обычный уголовный жаргон ты ведь уже наверняка знаешь.
Юрий на всякий случай промолчал.
Венера угостила его конфетой «Кара-Кум» и сказала, что хочет построить его защиту на том, что он был криминально инфицирован. Иными словами, получил криминальное заражение. Отчасти от людей, отчасти от книг.
– Ты ведь читал запоем Льва Шейнина? Читал. Тебе нравился лихой налетчик Ленька Пантелеев? Нравился. Это и есть заражение. Что касается твоих сообщников… Ты можешь их не называть. Тебе достаточно сказать, чем они тебе нравились?
Венера ждала ответа, а Юрий жевал конфету и неблагодарно молчал. Он думал, что в литературе полно героев-разбойников и героев-подонков, и если уж никому не подражать, то лучше вообще не читать книги.
Наконец, он все же открыл рот:
– Если некоторые книги вредно читать, зачем их печатают? Пусть тогда вместе со мной судят тех, кто их пишет.
– Видишь ли, тысячи людей читают Льва Шейнина, но только единицы идут после этого грабить банки, – заметила Венера. – Но я с тобой согласна: писатель не должен вызывать симпатию к отрицательному герою. – Скажи, – продолжала она, – а на каком месте у тебя деньги? Ты вообще можешь перечислить свои приоритеты? К чему ты больше стремился? Что стояло у тебя на первом месте? На втором? На третьем?
Юрий пожал плечами:
– Деньги, наверное. Будут деньги – все будет.
В сущности, он повторил то, что постоянно говорил Макс.
– А может, просто потянуло на подвиги? Или не мог отказать другу? Может, хотел ему что-то доказать? – допытывалась Венера, как бы подсказывая ему направление мыслей.
Венера уже знала от следователей то, чего не знал Юрий. Оказывается, шалить с законом Максим начал еще в Америке. Связался с «бульдогами», так называли себя ребята из уличной банды. Заходил вместе с ними в банк, где они вручали вкладчикам записки с требованием поделиться частью сбережений. В случае отказа «бульдоги» грозили расправой. Возле банка в это время отирались взрослые гангстеры, с ними «бульдоги» тут же делились большей частью своей добычи.
Полицейские взяли банду с поличным во время получения денег. «Бульдоги» и Макс вместе с ними угодили с исправительную школу для несовершеннолетних преступников. Макс скрыл, что он сын советского дипломата. Пока родители нашли его, прошло несколько месяцев.
Макс был уверен, что в этом небольшом провинциальном городе под надзором находится только его мать. Он заблуждался. За ним присматривали соседи – осведомители КГБ. Как только розыск налетчиков на банк, Макс оказался первым в числе подозреваемых.
И вот, наконец, суд и выступление Венеры:
– Мы любим повторять известные слова, что лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. Но вот перед нами двое молодых людей, только что закончивших школу. Они выросли в благополучных семьях. Они ни в чем не нуждались. Как же пришла им в голову безумная идея ограбить банк? Что ими двигало? Алчность? Не знаю, я этого порока в них не заметила. Стремление прославиться? Но какой ценой? Рискуя потерять жизнь? Тоже не мотив. Отметим сразу два крайне важных обстоятельства. Первое: у них не было умысла на убийство охранников банка. И второе: завладев оружием, они его тут же выкинули. Вывод лежит на поверхности: они, безусловно, проявили себя, как опасные преступники. Но они не представляют угрозы для других людей и тем более для государства. Позволю себе с большой долей вероятности предположить, что именно ими двигало. Они не нашли другого, позитивного применения своим творческим способностям и проявили их в уродливой форме, в преступлении. Это говорит о том, что они не потеряны для общества, и правосудие должно дать им этот шанс – вернуться в общество нормальными людьми.
Адвокат правильно подметила: деньги для Юрия не были главным. А что было?
Он не мог идти против воли Макса-это надо признать. Когда Венера говорила о психическом заражении, она была права. Но она ничего не сказала об этом на суде, потому что защищала их обоих. Судья и без того понимал, кто из них двоих главный. Но почему-то назначил им одинаковое наказание. Может, судья проявил показательную строгость, а вышестоящая инстанция проявит снисхождение? Надежда снова вернулась к Юрию. Он даже стал мечтать. Вот сейчас он сидит и думает, что все потеряно, но в любой момент может открыться узкая дверь, войдут менты и скажут: «Ты помилован».
Через две недели его неожиданно привели на свидание с мамой. Мама плакала и несколько раз повторила: «Я тебя предупреждала». Ну и что? И отец не раз говорил, что его «несет не в ту степь». Значит, он из тех, кто должен дойти до края и заглянуть в бездну, тогда только отшатнется и что-то поймет.
«Ты нас опозорил», – мать показала статью в местной газете. Автор называл его и Макса сорняками, которые нужно вырвать с корнем.
– Я сама поеду в Москву, – сказала мать. – Они там совсем с ума посходили – детей расстреливать. Не допущу! Что они с тобой, изверги, сделали?!
Юрий давно уже разглядывал себя, как слепой-на ощупь. Щеки впали, на висках впадины. Ключицы и коленки торчат…
Сочувствие мамы растрогало его.
…Мама не читала ему на ночь сказок и не баловала своей любовью.
«Чего сюсюкать?» Отец тем более не сюсюкал. Они оба считали, что он обязан их любить, потому что они подарили ему жизнь. Наконец, они поят и кормят…
Став взрослым, Юрка понял, что вырос в обычной русской семье, где воспитание путем попреков и нотаций-дело обычное. Порвал новые ботинки – ах ты, такой-сякой, вот будешь сам зарабатывать, тогда поймешь, что почем, иждивенец чертов! Положил лишнюю ложку сахара – та же песня…
Родители, чтобы выглядеть строгими и страшными, были постоянно сердиты. А как иначе удержать детей в ежовых рукавицах?..
Обычная русская семья-та, где едва сводят концы с концами. Значит, там царит скупость. А где скупость, там нет любви, и там по-настоящему доброе сердце может вырасти только благодаря какому-то недоразумению…
Врать Юрка научился рано. Если хочешь избежать наказания, обязательно соврешь… И курить – рано, и выпивать. Только излюбленную забаву родителей – игру в карты – никак не мог полюбить, чем раздражал их по выходным. А где родительское раздражение, там и рукоприкладство. А где битье, там нет любви. И нет уюта в родной, казалось бы, семье.
Отсюда, наверное, его мечтательность. Человеку должно быть где-то хорошо, если не в реальной жизни, то хотя бы в мире грез. Но оттого, что мечтаешь, умнее не становишься. Скорее, наоборот… Размечтался стать неуловимым налетчиком, как Ленька Пантелеев. Вот и результат.
Под утро его вырвал из забытья лязг запоров. В это время не выводят на прогулку. Значит… Юрий покрылся липким потом. Вошли два офицера. Один покашливал в кулак, пряча ухмылку. В руке у него была какая-то бумага. Другой спросил:
– Почему не спрашиваешь, зачем пришли?
– Сами скажете, – через силу, но не грубо ответил Юрий.
– А тебе не интересно?
– Мне уже ничего не интересно.
– Зря, – с усмешкой сказал офицер. – Жить надо до последней секунды.
– А я и живу, – упрямо ответил Юрий.
– Пришли к тебе по инструкции. Полагается кое-что понять. Вдруг захочешь повеситься или еще что-нибудь с собой сделать. Выкинешь номер, а мы без премии останемся.
– Зачем мне это? – выдавил Юрий.
– Как зачем? Самого себя – не так страшно. И потом… если сам, то родственники могут забрать тело.
Юрию стало жалко свое тело. Будет лежать неизвестно где…
– А если не сам? – спросил он.
– Неэтично отдавать тело с дыркой в голове. Отдаем только одежду, обувь… в ящике для посылок…
Юрий глотал слезы.
– Ладно, хватит, он уже все осознал, – неожиданно сказал второй офицер.
Он и зачитал ответ из Президиума Верховного Совета. Прошение о помиловании удовлетворено, смертная казнь заменяется пятнадцатью годами.
«Пятнашка… Всего-навсего пятнашка!»
Юрий опустился на колени и уткнулся лбом в колючую стену.
Его статья не подлежала никаким снисхождениям. Он освободился по звонку, когда ему было уже 33 года. Лучшие годы жизни прошли мимо него. Если бы его расстреляли, убита была бы вся его жизнь целиком. Но его усадили на 15 лет. Значит, убиты были только эти 15 лет живой его жизни. Но убило их, надо признать, не столько кровожадное правосудие, сколько он сам.
«Преступление не окупается», – сказал ему однажды Максим американскую поговорку. Втягивал в преступление и по-дружески предупреждал, чем оно может кончиться. Но ведь и сам засунул свою голову в эту петлю. Только на 25 лет. А потом… Но это уже другая история.
Любимица Бога
Густав был дома, когда позвонила дочь и поделилась, что у нее выкидыш. Женя была в отчаянии: ей не хочется жить.
– Успокойся, – сказал Густов. – Ты сама в порядке, и это главное. Еще родишь.
– Папка, – кричала Женя, – ты чего-то не понимаешь. После выкидыша может не быть детей вообще, никогда.
– Зато сохранишь фигуру, – неуместно пошутил Густов.
– Не понимаю, что для тебя важнее, внуки или моя фигура!? – совсем разозлилась дочь.
– Фигура, Женечка, – продолжал шутить Густов. – Хочу, чтобы ты всегда была стройной, красивой, с талией. Ты в какой больнице?
– Не скажу. Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Позвоню, когда выпишусь.
Густов сел за компьютер. Написал несколько строк и почувствовал резкую боль в правом боку. Во рту появился металлический привкус. Он прилег на кушетку, его быстро сморило. Проснулся через час, удивляясь себе. Такого еще не было. Позвонил Ирине. Она сказала, что выкидыш говорит о серьезном сбое в организме.
А после полуночи, когда он еще сидел за компьютером, раздался звонок. Это был Олег. Зять говорил в страшном волнении.
– Сергей Андреевич, Женечке сделали операцию по поводу острого перитонита и обнаружили в печени опухоль, представляете?
У Густова перехватило дыхание. Несколько мгновений он не мог ничего соображать. Казалось, его переломило пополам.
– Где обнаружили? – спросил он, как бы не поверив ушам.
– В печени! Хирург говорит, четвертая стадия. Сергей Андреевич, нужно срочно что-то делать.
Господи, подумал Густов, что можно сделать с раком печени четвертой стадии? Нет, тут что-то не так. Это какое-то дикое недоразумение.
В трубке послышался голос бывшей жены Веры. Она пыталась что-то сказать, но ее не слушался язык. Получался немой вопль: она вопила.
– Мы ждем вас в 36-й больнице, – сказал Олег.
Густов выгнал машину из гаража и понял, что ехать не сможет. Дрожь в руках, ногах, во всем теле. Загнал машину обратно и пошел на маршрутку.
Олег и Вера стояли, оба серые, в вестибюле больницы. Губы у Веры подрагивали, но удивительно – теперь она не рыдала, держала себя в руках.
– У Жени начались боли в правом боку, поднялась температура, – объяснял Олег. – Ничем не могли сбить. Вызвали «скорую». Врачи заподозрили перитонит. Сделали разрез и увидели… это.
Вера добавила:
– Хирург подошел ко мне: «У вас есть еще дети?» У меня ноги подкосились. Хирург растопырил пальцы: «На печени вот такая опухоль».
– Сейчас Женя в реанимации, – сказал Олег, – скоро ее должны перевести в обычную палату. После этого нас пустят к ней. Мы договорились с хирургом – он скажет Жене, что нашел у нее камни в желчном пузыре. У одной старушки вынули камни, их покажут.
– Зачем? – удивился Густов.
– Если Женя узнает правду, это убьет ее раньше времени, – пояснил Олег.
Что за бред? Густов удивленно посмотрел на Веру.
– Ты тоже так считаешь?
– Врачи говорят, ничем уже не помочь, – кое-как выговорила Вера.
Втроем они встретили каталку возле лифта. Женя держала в руке пригоршню крупных камней и смотрела на Густова с жалобной улыбкой.
– Папка, неужели это было у меня? Это ж булыжники. Когда они успели так вырасти?
Густов не мог ничего ответить. У него отнялся язык. Все происходящее было кромешной жутью. Не было ни секунды, чтобы прийти в себя и хоть как-то смыслить ситуацию.
Женю вкатили в палату. Санитарки переложили ее на кровать. Тут же бодрячком пришел хирург со стайкой других врачей.
– Что мне можно есть? – спросила Женя.
– Ты хочешь есть?! – воскликнул хирург. – Замечательно! Есть можно все!
– Разве можно при болезни желчного пузыря есть все? – удивилась Женя.
– Но мы же вынули камни. Значит, можно, – нашелся хирург. Похоже, ему было не впервой дурачить пациентов.
– Как у меня могли образоваться такие камни? – допытывалась Женя.
Хирург развел руками: мол, чего не бывает. Он вполголоса велел Густову зайти к нему и вышел со своей свитой.
Густов присел у кровати дочери. Женя сжала ему руку:
– Видишь, как получилось. Выкидыш… Мальчик… – Слезы покатились по ее щекам. – Папка, мы возьмем из детдома девочку.
– Что за глупости! Родишь сама, – сказал Густов, удивляясь, как естественно врет.
Женя сжала в кулаке край простыни.
– Папка, мне не нравится температура. Даже сейчас, после операции, около 38-ми.
– Наверно, так бывает.
Женя продолжала о чем-то говорить. Густов не слышал. Он вглядывался в лицо дочери. Цвет нормальный. Конечно, осунулась, но не исхудала. Глаза потухшие. Но отчего им блестеть после таких переживаний? Черт возьми, может быть, хирург все же что-то перепутал? Может, это доброкачественная опухоль?
– Сегодня 28-е. Через три дня – новогодняя ночь. Неужели к этому времени меня не выпишут? – жалобно спросила Женя.
Вера сказала:
– Доченька, если не выпишут, мы будем в новогоднюю ночь здесь, с тобой: я, Олег…
Вера вопросительно смотрела на Густова. Оставляла ему место.
Они зашли к хирургу втроем. Кажется, доктор был неподдельно потрясен: «Такая девушка!»
Вера тихо плакала. Олег стоял навытяжку с застывшим лицом.
– Почему вы уверены, что это рак? – спросил Густов.
Хирург взмахнул руками
– Такое ни с чем не спутаешь. Сразу должен вам сказать. Любое лечение не имеет смысла. Поражены обе доли печени. Из-за беременности болезнь приняла ураганный характер. Вот-вот начнутся сильные боли.
– Сколько ей осталось? – спросила Вера.
– Несколько недель, чуть больше месяца.
Вера вскрикнула, будто сильно икнула, и зарыдала.
– Неужели никаких надежд? – У Олега него дрожал кадык.
Хирург для наглядности растопырил пальцы.
– Молодой человек, там вот такая опухоль, если ее отсекать, от печени ничего не останется. Если провести химиотерапию, химия убьет вашу девушку раньше болезни. Пораженная печень не выдержит. Но химиотерапия возможна только в онкологической больнице.
– Сколько еще Женечка может побыть у вас? – спросила Вера.
– Максимум неделю. Это не наш профиль. Мы не можем держать таких больных.
– Мы заплатим. Нельзя везти Женю в онкологию. Это убьет ее раньше времени, – сказал Олег.
– Медсестер благодарите. А мне просто жаль девушку, – сухо ответил хирург.
Густов спросил, нельзя ли сделать переливание крови. Доктор кивнул.
– Хорошо, сделаем.
Густов поехал на работу, были неотложные дела. Москву лихорадил предновогодний ажиотаж. Люди тащили елки, торты, подарки. Это праздничное кипение жизни раздражало.
Густов позвонил в Обнинск, в медицинский радиологический центр. Там раковые клетки убивают радиоактивными изотопами. Он писал об этом дважды. Добровольно пропагандировал этот опыт. Вдруг придется везти туда Ирину.
– Рак печени – это кранты, – жестко сказал знаменитый профессор.
Узнав, что речь идет о дочери Густова, посочувствовал и сказал, что их методами рак печени в запущенном виде не лечится. А если точнее, нигде пока не лечится.
Густов купил в подземном переходе оберег, смешную куклу бабы с распущенными патлами.
Прошел по магазинам и рынку, накупил разных вкусностей.
Он опоздал со своими деликатесами. Женя, Олег и Вера уже обедали в палате и что-то живо обсуждали.
– Папа, почему ты настаиваешь на переливании крови? – спросила Женя.
Густов начал врать, сам удивляясь, как складно у него получается.
– Мне кажется, в тебе сидит какая-то инфекция. Есть одна редкая азиатская болезнь, не помню ее название. Симптомы очень похожи. Субфебрильная температура, утомляемость. Думаю, прилив новой крови поможет организму бороться.
Вера и Олег вышли в коридор. Женя налила отцу растворимого кофе.
– Знаешь, в последнее время я многое поняла. Я вижу, как Олег переживает. Теперь мы будем жить иначе. Обвенчаемся. Одобряешь?
Густов кивнул.
– Я весь этот год в церковь ходила. Даже постилась. Не знаю, что меня тянуло. А ты не хочешь покреститься, исповедаться ради меня?
– Хорошо, покрещусь и даже исповедаюсь.
Густов готов был на все, только бы это помогло.
– Ты покрестишься только потому, что я об этом прошу? Но это будет неискренне по отношению к богу. Тогда это ничего не изменит, – сказала Женя.
Густов молчал.
– Я так люблю тебя, папочка, – прошептала Женя. В ее глазах стояли слезы. – Я всегда так хотела, чтобы ты гордился мной.
«Почему она вдруг заговорила о себе в прошедшем времени?» – мелькнуло у Густова.
– Ты самое лучшее, что у меня получилось в жизни, – сказал он. – Хотя у меня и тут не обошлось без минуса. Я внушил тебе, что женщина должна быть материально независимой от мужа. Ну и чего хорошего из этого вышло? Ты совсем перестала думать о себе.
– Папочка, мне в тягость не работа, а чужая квартира. Все покупаем для своего угла, а его все нет и нет. Я уже сказала маме: хватит кому-то наживаться на моих деньгах, забери их из этого фонда. Поправлюсь-займусь покупкой квартиры сама.
– А тебе не хочется поспать? – спросил Густов. – По-моему, у тебя глазки слипаются.
– Мне все время хочется спать. Но я почему-то не могу. Все думаю, думаю, перебираю в памяти свою жизнь. Я была плохой дочерью, папочка, прости меня.
Женя упорно говорила о себе в прошедшем времени.
– Это я был плохим отцом. Это ты прости меня, – сказал Густов.
Ирина приехала из Серпухова и ждала Густова в московской квартире. Он не видел ее такой взвинченной, даже в те дни, когда она была ошарашена своим диагнозом и когда готовилась к операции.
– До меня только сейчас доходит… Бедная девочка жаловалась, что ей часто хочется полежать. Но я думала, что она просто устает от своей работы. Ну как можно было такое предположить? Такая цветущая, такая яркая…
Несмотря на предсказание хирурга, Ирина предлагала не сдаваться до последнего вздоха.
– У меня любимая ученица умирала в тринадцать лет. Лимфосаркома в четвертой стадии. Тело истощилось в скелет. И, представь себе, выжила в последний момент. Это происходило на моих глазах.
– Она знала, что с ней?
– Конечно. Это невозможно было скрыть.
– Значит, и нам нужно сказать. Но я не могу. У меня духу не хватает, – признался Густов. – Может, ты?
– Ладно, попробую, – согласилась Ирина.
Возле палаты стояли Олег и Денис. Сын переминался с ноги на ногу. Так он обычно нервничал.
– Представляешь, мать привезла попа!
– Вера Алексеевна хочет, чтобы Женя исповедалась, причастилась, а священник провел соборование, – объяснил Олег.
«А может, ты этого хочешь?» – хотелось спросить Густову.
– Они ее, считай, к смерти готовят! – возмущался Денис.
– В принципе, соборование, как и исповедь, – это очищение души. Когда душа освобождается от грехов, болезнь может отступить, – поучающе сказал Олег.
Он отправился в палату, где лежала Женя, и вскоре вернулся.
– Входите. Исповедь окончена.
Густов вошел без Ирины. Священник читал молитву, но Женя его не слушала. Она во все глаза смотрела на отца. Священник перекрестился. Помедлив, Густов тоже осенил себя крестным знаменем. Глаза дочери удивленно расширились и приобрели беспокойное выражение, а губы дрогнули. Кажется, она подумала: ну, если отец крестится, значит, положение серьезное. Густов ободряюще улыбнулся. Женя едва заметно кивнула головой и прикусила губу, чтобы не расплакаться.
Священник закончил соборование. Женя тихонько объяснила отцу:
– У меня снова начались боли. Мама сказала, что надо пригласить священника, тогда все пройдет.
Медсестра вкатила кресло. Дочь переводили в одноместную палату.
– Папа, помоги мне встать, – попросила Женя.
Только теперь Густов увидел, как сильно исхудало ее тело.
В палату заглянула Ирина. Женя оживилась.
– Дашь нам посекретничать?
Густов вышел и сел в холле на диван. Гадал: скажет Ирина или не скажет? Появился Олег, сел рядом.
– Меня должны познакомить с одним врачом. Вы не поверите, его фамилия Ленин. Мистика… Этот Ленин изобрел как бы очень эффективный препарат. Называется «Противорак».
Ирина вышла с закушенной губой. В палате держалась, а тут у нее сдали нервы.
– Я не ожидала, что все так плохо. Я не смогла сказать. И вообще, не я должна это сделать, не я!
Ирина накрывала новогодний стол. За окном стреляли петарды, слышались ликующие вопли. Куранты в телевизоре отсчитывали последние секунды уходящего года.
– Звони, – сказала Ирина.
Густов набрал номер, дождался соединения, услышал голос дочери и не смог ничего сказать, передал трубку Ирине.
– Здравствуй, деточка! – сказала Ирина. – Папка твой, если бы не я, был бы сейчас с тобой. Прости его, ладно?
Голос у дочери был слабый. Она закашлялась.
– Ирина Антоновна, я вас очень люблю.
– Ты даже не представляешь, как мы тебя любим, доченька, – кусая губы, сказала Ирина.
– А где папка?
Густов собрался с духом и взял трубку…
По телевизору выступал президент. Потом пошли «голубые огоньки». Все было, как всегда. Но в голову просилась мысль, что теперь каждый очередной новый год они будут встречать, вспоминая этот. А значит, праздник уже не будет тем праздником, каким был раньше.
Ирина поделилась впечатлением об Олеге.
– Неужели он ничего не замечал? Температуру и похудание во время беременности невозможно не заметить.
Ирина налила себе большую рюмку водки, выпила и села за фоно. Играла что-то торжественное и плакала. Я сказал, что мне надо покреститься. Ирина вспомнила, что настоятель местного храма – ее бывший ученик, а теперь он иерей отец Дионисий.
Они купили белую сорочку и пошли в церковь. Пол был выложен бетонной плиткой. Отопительная система работала неважно. Изо рта шел пар. По знаку отца Дионисия лет тридцати послушник положил Густову под ноги коврик. Густов разделся и стоял, накинув на себя простынь. Ирина держала его одежду в руках.
Иерей Деонисий читал молитву не меньше получаса. Но Густов почти не чувствовал холода и не слышал его голоса. Пришел в себя, когда на него стали лить холодную воду.
Священник вручил ему свидетельство о крещении с печатью местной православной религиозной организации Московской патриархии.
Дионисий сказал, что теперь ему нужно молиться, просить бога о помощи, а он не знаю ни одной молитвы.
– Можно просить Господа своими словами, – сказал отец Деонисий. – А можно читать молитвы. Они в церковной лавке.
Ирина купила молитвенник и кассету с записями молитв.
– Будешь слушать в машине.
«Зачем? – подумал Густов. – Если можно молиться своими словами, то я занят этим постоянно. Что у меня на душе? Одна мольба».
Фонд «Здоровье народа» размещался в центре Москвы, в Газетном переулке. Густов, Ирина и Олег поднялись на второй этаж. Миловидная девушка усадила их в стильной приемной, предложила кофе. Спустя несколько минут вошли двое. Один Борис Семенович. Другой-Ленин, похожий на своего великого однофамильца обширной плешью. Интеллигентные лица, приятные манеры. Ну, а как иначе должны выглядеть медицинские шарлатаны?
– У вас есть патент на лечение? – спросил Густов.
Дурацкий вопрос. Конечно, все у них есть. Борис Семенович показал ксерокопию патента. Густова перекосило. Такие ксивы можно печатать хоть массовым тиражом.
– Из чего состоит ваш препарат?
– Ампициллин, йод, желчь… Другие компоненты, по понятным причинам, назвать не можем. Состав препарата – секрет нашего фонда.
«Ну конечно, а как же иначе?»
– Сколько уже применяется препарат?
– Два года.
– Сколько пролечено больных?
– 44 человека.
– На какой стадии была у них болезнь?
– В основном, на третьей и четвертой стадиях.
Густов не стал спрашивать о результатах. Зачем, если все равно соврут.
– Недавно отправили на родину одного американца. Убрали ему метастазы, и он улетел для пересадки донорской печени, – не моргнув глазом, сказал Ленин.
Густов спросил, сколько стоит донорская печень. Оказалось, сто тысяч долларов. Но есть очередь. Не меньше месяца.
– Начните лечение, а мы будем собирать деньги, – сказал Густов, хотя не представлял, как можно собрать такую сумму.
Ленин предупредил:
– Лечение дает очень высокую температуру. Больной будет крайне тяжело. Вы должны ее поддерживать.
Вера ждала Густова и Олега у входа в палату. У нее были воспаленные глаза, она часто моргала.
– Не спит. Снотворное не действует. Поднялась, немного походила по коридору, но быстро устала. Снова боли. Я заказала-должны привезти трамал. Она что-то чувствует. Мечется: мамочка, я из этой больницы уже не выйду.
Густов собрался с духом и в очередной раз соврал дочери. Сообщил, что нашлись врачи, которые лечат ту самую редкую азиатскую лихорадку, которую она, судя по всему, подхватила в Лондоне.
– Только придется терпеть высокую температуру.
Женя приободрилась:
– Папочка, я все выдержу.
Появился Ленин. Попросил всех выйти из палаты и полчаса обследовал Женю. Пришла медсестра фонда и сделала первый укол. Минут через двадцать температура начала стремительно расти. Еще через двадцать минут она достигла сорока двух градусов. Вся мокрая, Женя металась на постели. Так продолжалось два часа. Потом температура опустилась почти до нормальной, и боли прекратились.
Олег вызвался подвезти Густова до метро. Гнал так, будто за ними шла погоня. Без нужды перестраивался из ряда в ряд, резко тормозил на светофорах и первым вырывался вперед, когда зеленый свет только должен был загореться.
И говорил, говорил, говорил…
– Вы никогда не понимали, Сергей Андреевич, что чувства родителей к детям – это одно, а чувства мужа и жены – совсем другое: они более глубокие. Женя для меня все, остальные-ничто. Понятно, что вы дали ей жизнь, вспоили-вскормили. Но дальше-то жить вашему ребенку суждено с другим человеком. Для вас – чужим, для нее – родным. Вы всегда это не понимали и добились своего: Женя говорила, что меня любит больше, а на самом деле лучше относилась к вам, родителям. И я страдал от этого. Да, я ее обижал, был с ней сух, мог подолгу не разговаривать. Но это была всего лишь моя реакция на ее отношение ко мне. Вам этого не понять. Вы никогда никого так не любили, как я Женю. Для меня брак – прежде всего духовный, а не сексуальный союз.
– И поэтому ты не хотел ребенка?
– Нельзя заводить ребенка при таких непрочных отношениях.
– Ребенок как раз и мог бы упрочить ваши отношения.
– Я никогда до конца не был уверен в Жене.
– Если бы родили раньше, сейчас у тебя мог бы остаться сын. Или дочь.
– По самому больному бьете, Сергей Андреевич.
Олег играл желваками. Он очень хотел сказать что-то еще, но не мог. Густов решил помочь ему.
– Тебе станет легче, если будешь считать виновным меня?
– Вы исповедались, когда крестились?
– Нет.
– Почему? Ведь исповедь – обязательная часть крещения?
– Священник не сказал этого.
– Ну, понятно. Как он мог это сказать? Он же видел, что ваше желание покреститься – чисто формальное. Вы приняли веру Христову без очищения души. Зачем вы это сделали? На что рассчитывали? Решили принять веру в Бога, не веря в Бога. Думали, Бог не заметит вашего обмана и поможет Жене? Но так не бывает. Бог все видит. Потому и не хочет пощадить Женю.
Густов сидел перед компьютером и думал о том, что еще недавно показалось бы ему чушью. Если Жене стало легче – это не случайность. Рак не дает больному ни малейших послаблений, не отступает ни на минуту. И если температура стала, пусть на время, нормальной, это чудо.
Но утром позвонил Олег и с горечью сообщил, что температура поднялась, как и прежде, до 38,5.
Ирина уехала к себе в Серпухов. Густов был один в московской квартире. Повесив трубку, он опустился на колени перед иконой Казанской Божьей Матери…
На другой день, после очередного укола, Женя осторожно поинтересовалась, выдержит ли ее сердце такую температуру. Она не просто так спросила. Померили давление. Оно не было высоким. Но сердце билось с частотой 140 ударов в минуту. Густов сжал дочери пальцы
– Надо держаться, доченька. Надо держаться!
Женя часто закивала головой. Конечно, она будет держаться, нельзя падать духом. Она зашлась в кашле.
Густов, спотыкаясь, вышел из палаты.
Через неделю медсестра фонда взяла у Жени кровь на анализ. Потом позвонил Ленин.
– Количество лимфоцитов показывает, что идет восстановительный процесс, интоксикация спадает. Опухолевые клетки стали менее злыми.
– Разве можно судить о ходе лечения только по анализам крови? – спросил Густов.
– Нам этого достаточно, – ответил Ленин.
– Можно как-нибудь снижать температуру? – спросил Густов.
Ленин сочувственно вздохнул:
– Нет, придется терпеть. Снижение температуры автоматически снизит эффективность действия препарата.
– У Жени усиливается кашель. Как это объяснить?
– Через мокроту выходят разрушенные раковые клетки.
Густов сжал телефонную трубку. Уж лучше бы этот прохвост придумал что-нибудь другое. И он бы, конечно, придумал, если бы знал, что кашель начался до лечения.
Нужно было срочно искать какой-то другой способ. Ирина обзвонила своих знакомых в научных институтах. Ей подсказали: в Новосибирске есть врач по фамилии Хван. Он якобы изобрел эффективный препарат именно против рака печени.
Густов немедленно связался с Хваном. Тот сказал: как раз осталась одна доза этого чудо-препарата. Боже, как однообразны хитрости шарлатанов! Ну, конечно же, одна, спешите купить. Университетский друг Густова в Новосибирске переправил этот препарат самолетом в Москву. К этому времени стало окончательно ясно, что ленинское лечение было не только бесполезным, но и вредным. Сердце Жени было ослаблено до последнего предела.
Хирург сказал, что держать ее в больнице больше не может. Густов перевез дочь на ее съемную квартиру в Новокосино.
На другой день он купил цветы, развлекательные журналы и взял с собой диктофон. Решил записать разговор с Женей, сохранить на память ее голос. Дверь открыла Вера. Вместо того чтобы впустить Густова, она вышла на лестничную площадку. Ее била нервная дрожь.
– Она не может спать. Я вхожу ночью в их комнату и вижу: Олег спит, а она-смотрит на него.
«Бессонница – ее ужас, – подумал Густов. – Она сознает, как мало ей осталось. Жизнь кончается раньше, чем наступает смерть. Ее бессонница – крик организма: не спи, я погибаю!»
Вера плакала:
– Как я хочу, чтобы она продержалась хотя бы до весны. Пожила бы на даче, послушала птиц, погрелась на солнышке.
– Что делается, – слабо улыбнулась Женя. – Папка дарит цветы! К чему бы это? Помассируй мне спину, – попросила она. – Люблю твои руки.
Густов чувствовал, что у дочери совсем не стало талии. Она закашляла и не могла остановиться, и долго лежала с закрытыми глазами.
Простонала:
– Господи, когда же это кончится?
Густов включил диктофон, уверенный, что дочь не заметила.
– Мы с мамой помирились, – говорила Женя. – Мама забрала из фонда большую часть денег. Теперь я спокойна. А вот журналы ты зря принес. Я их больше не читаю: там все про жизнь… Ты решил записать мой голос?
Густов растерялся, но вышел из положения.
– Это записи с молитвами.
– Папка не ври. Диктофон включен. Я ж вижу зеленый огонек. Ты решил записать мой голос. Ладно, я тебя понимаю.
Густов сказал, что друг прислал из Новосибирска другое лекарство, вроде бы, стоящее. Женя приободрилась.
– Только нужна очень опытная медсестра. У меня сожжены все вены. Можно колоть только здесь.
Она показала на тыльную сторону ладони. Густов хотел что-то сказать, но дочь движением руки остановила его. Ей хотелось договорить, пока еще есть силы.
– Мы продолжим, папа. Ничего не изменилось. Я по-прежнему тебе верю. Боюсь только, что моя болезнь зашла слишком далеко. Но ты говоришь – держаться, и я держусь. И буду держаться до последнего. А что мне еще остается? Раскисать нельзя. Только у меня из головы не выходит: почему я не послушала Ирину Антоновну – не успела родить ребенка.
Помолчав, Женя продолжала:
– Папа, я знаю о твоем разговоре с Олегом. Не суди его строго. Ему сейчас тяжело. Ему всегда было тяжело. Знаешь, почему он так относился к тебе? От ненависти к собственному отцу. В какой-то момент он увидел его в тебе. И уже ничего не мог с собой поделать. Сейчас он о тебе другого мнения. Хотя, конечно, какая-то неприязнь осталась. Но ведь и ты его не любишь.
Женя продолжала со слезами на глазах:
– Папка, тебе ведь тоже досталась не та женщина. И маме-не тот мужчина. Ну давай уж хоть сейчас поговорим откровенно. Считай, что я перед тобой исповедуюсь. Ты считаешь маму сильной. Ну, как же, – Стрелец. А она в отчаянии слабой бывала. Припоминала твои грехи. Беременная женщина не прощает невнимания к себе. Помнишь, ты уехал в командировку на Новый год. А она уже была беременна мной на третьем месяце. Она была в компании. Вышла вместе с другими смотреть фейерверк и сильно простыла. Я родилась желтушной… А если бы ты был рядом, ты бы это предотвратил. И перед родами ты уехал в командировку. Маму встречали только ее сестры, родители. Такое тоже не забывается…
Здесь Густов прервал дочь. Ему надо было оправдаться.
– Женечка, в моей работе редактор-командир. А я в своей работе – солдат. Я не мог сказать редактору: извините, не могу выполнить задание, пошлите другого, у меня жена должна родить.
Дочь сказала тоном взрослой женщины:
– Твой редактор тоже должен был знать, что отношение к родам-это уважение или неуважение к женщине. Неуважение не прощается, папка. Конечно, мама в своих счетах с тобой заходила слишком далеко. А потом и мы с Денисом. Знаешь, ведь про твою любовницу Денис сначала мне сказал. И мы вдвоем доложили маме. А помнишь, мы подолгу ужинали, а ты не мог войти в кухню что-то себе приготовить? Ведь я могла тогда защитить тебя. Но я боялась изменить маме. Если бы мы с Денисом объединились и сказали маме, чтобы она угомонилась, она бы нас послушалась. Куда бы она делась? И уж тем более гнать тебя из дома… Тут мы вообще потеряли берега. Как все глупо получилось. Как трудно сориентироваться, когда живешь всего один раз. Прости меня, папочка.
Густов целовал дочери руки.
– Глупенькая, почему ты не сказала это раньше?
– Боялась, что разлюбишь, – прошептала Женя.
Слезы ручьем катились у нее по щекам.
Когда Густов уходил, она вынула из-под подушки блокнот. Вырвала листок, протянула ему. Он прочел, как только вышел из квартиры.
- Я все бегу, колотит сердце в грудь,
- Вокруг все не мое, все ничего не значит.
- Нет сна, и им не отдохнуть.
- Похоже, что за стенкой плачут.
- Бегу и, видно, не вернусь,
- Закончен праздник елкой у порога,
- Отчаянная в Новом годе грусть,
- Вся веточками устлана дорога.
- Сыночек, детки бегают в саду,
- По вечерам раскрашивают книжки,
- Как хорошо, но только не найду
- Я своего упрямого мальчишки.
- И в школу я тебя не провожу,
- И в прописях мы не заполним строчек,
- На выпускном балу не погляжу,
- Каким красавцем стал сыночек.
- Ждала, а ты покинул, не придя,
- Сама себя к тебе я провожаю,
- На голых ветках птенчики сидят,
- Сынок, я здесь уже чужая.
- Как жарко бьется сердце в грудь,
- Вокруг все не мое, все ничего не значит.
- Бессонница… родным не отдохнуть,
- По мне, еще живой, уже тихонько плачут.
Через неделю Густов приехал, чтобы перевезти дочь домой, к Вере.
Женя сидела в кресле, уже одетая, с кошкой на руках. Кошка лизала ей руки, потом поднялась на задние лапы и стала лизать шею, лицо.
– Ну что ты, моя хорошая? Прощаешься? Ну, попрощайся, – говорила Женя.
Тут же ревниво крутилась болонка, облаивая кошку. Собачонке больше повезло. Она ехала вместе с хозяйкой.
– Ну что ты злишься? – воспитывала ее Женя. – Нельзя быть такой ревнивой. Ты поедешь со мной.
На коленях у Жени лежал сверток.
– Это деньги, папка. Все, что я заработала за свою жизнь. Деньги будут у мамы. Если я не выкарабкаюсь, возьми, сколько будет нужно. Если бы не ты, я никогда бы их не заработала.
В пути они попали в пробку. В стоящих рядом машинах гремели динамики. Женя сидела на заднем сидении отрешенная. Голова откинута, глаза закрыты.
– Папка, поставь «Ave Maria».
Это была ее любимая мелодия. Густов боялся, что не сдержит слез. Сделал вид, что не может найти кассету. Женя открыла глаза.
– Папка, это желтая кассета. Ты только что отбросил ее в сторону.
Густову пришлось подчиниться. Зазвучала божественная «Ave Maria». Женя снова откинула голову и закрыла глаза. Он смотрел на нее в зеркало заднего вида и плакал, пока чуть не врезался в идущую впереди машину.
Состояние Жени ухудшалось с каждым днем. Она уже не могла самостоятельно вставать и ходить по квартире. Она уже не могла лежать – боли в спине. Точнее, в позвоночнике. Она полусидит в кресле. И нужно решать, что делать дальше.
– Хватит ее мучить, – тихо рыдая, говорила Вера. – Вы же отлично понимаете, ничто уже не поможет.
Густов с Олегом молчали. Дверь открылась. Это была Женя. Она проснулась, увидела, что одна. Попыталась кого-нибудь дозваться. Никто не приходил. Женя впервые с начала болезни увидела мать плачущей. Это ее не удивило. Она впервые увидела на лицах близких отчаяние и безысходность. Это тоже ее не удивило.
Она спросила строго:
– Что вы тут делаете?
Вера первая пришла в себя.
– Женечка, хочешь чаю?
Женя от чая отказалась. Попросила хурмы. С усилием откусила кусочек. При этом внимательно осматривала кухню, будто видела ее впервые. Отодвинула блюдце с хурмой:
– Отведите меня.
Она побывала в той части квартиры, где шла жизнь. И хотела вернуться туда, где жизнь останавливалась.
Потом попросила отнести ее в ванную. В горячей воде ей стало плохо. Потом она сидела в кресле с закрытыми глазами. Съела два перепелиных яйца и дольку свежего огурца. Неожиданно предложила смерить температуру. Градусник показывал 34,8 градуса. «Неужели препарат начал действовать?» Густов хотел перемерить температуру. Но Женя зашлась в кашле. В спальне был полумрак. Женя полулежала в кресле с закрытыми глазами.
Неожиданно спросила:
– Папа, я поправлюсь?
– Обязательно, доченька, даже не сомневайся, – сказал Густов, поражаясь, что врет уже, как автомат.
Если бы Женя открыла глаза, она бы увидела выражение его лица. Он не помнил, чтобы когда-нибудь так плакал, как сейчас. Беззвучно и с таким потоком слез.
В тот вечер он унес от дочери еще один стих из ее блокнота.
- Крадется ночь и не несет покоя,
- Прощенья и прощанья тает час.
- Наступит завтра не со мною,
- В ночь вечную я ухожу от вас.
- Я завещаю вам свои надежды,
- Свою любовь, и мир чтоб вас хранил,
- Я так бы не жила уже, как прежде,
- Но сочтены мгновения мои.
- Устала… В вашей жизни день настанет,
- А мне пора! Я вижу в темноте
- Последнее сиянье нарастает,
- За мною ангел смерти прилетел.
«Она угасает». С этой мыслью Густов ехал ночью домой. Въезжая в гараж, не вписался в поворот, раздался хруст – бокового зеркала как не бывало. Надо было выходить из машины, но зачем? Густов не знал, что ему делать дома. И вообще – как жить дальше. Он выехал из гаража и покатил по ночной Москве. Погода резко менялась. Подул сильный ветер. Дождь прекратился, но повалил мокрый снег. На дорогах стало, как на катке. Он остановился у храма «Утоли моя печали».
Он подошел к самой большой иконе и опустился на колени. Сам не понял, как это у него вышло. Он закрыл глаза и просил Господа пощадить его дочь. Он услышал тихие шаги и открыл глаза. Мимо шел священник примерно одного с ним возраста. Он поднялся с колен и сказал, что хотел бы исповедаться и принести покаяние.
– По сознанию или по сердцу? – тихо спросил священник.
– Наверное, больше по сердцу.
– Все мы живем в грехе и страстях. О чем скорбит ваше сердце? О чем болит ваша душа?
– Я раскаиваюсь в том, как относился к бывшей жене. Я оскорблял ее чувство. И дочь могла бы выйти замуж за другого человека, который бы лучше о ней заботился. И была бы жива. Если бы не я…
Густов говорил путано, но священнику не требовалось полной ясности.
– Дочери осталось совсем немного. Может быть, считанные часы. Уже ничто не поможет. У меня нет надежды на чудо. Просто я не могу с этим жить, – голос Густова сорвался.
– Вы крещеный? – спросил священник.
– Покрестился три недели назад.
– Вы каетесь перед Богом, – продолжал священник. – Это правильно. Но жить по-божески-это преодолевать гордыню.
Священник пристально посмотрел Густову в глаза:
– Вы покрестились, но я не вижу у вас в глазах страха Божия. Скажу, как поддерживать в себе этот страх. Первое и главное – иметь память смерти и память мучений. Страх праведного наказания за грехи вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и путеводствует к божественной пристани, которая есть любовь…
Густов дослушал рассеянно и вышел из церкви. Природа шла вразнос. Снова полил дождь. Он бросил взгляд на разбитое зеркало. Как просто: хрясь- и нет стекла. Так же и с человеком. Надо только посильнее разогнаться – и об стену. «Не получится, – возразил он себе. – Подушки безопасности спасут. Врачи не дадут помереть. Останусь калекой, только и всего. Хотя есть еще ружье. Это более верный способ. Что ж тебе мешает? – спросил он себя. – Ирина. Как она без меня?»
Он поставил машину в гараж и поднялся к себе на тринадцатый этаж. Хотел выпить и не мог. Включил телевизор и тут же выключил. Он ничего не мог делать. Даже думать. В голове была одна мысль: без Женьки вся жизнь – псу под хвост.
Раздался телефонный звонок. Он похолодел. Неужели? Неужели сейчас скажут, что все кончено? Заныло в левом плече и зажгло в груди. Закружилась голова, стали холодными руки. Но он нашел в себе силы снять трубку.
Это была Ирина. Он только сейчас вспомнил, что не звонил ей сегодня.
– Ну как? – спросила она.
– Совсем плохо, – сказал Густов.
У него все плыло перед глазами.
– У вас с Женей сильная биологическая связь. Держи себя в руках.
– Понял, – Густов положил трубку.
На самом деле он уже ничего не соображал. Голова не работала. Его знобило. Он потрогал ступни. Они были холодными. Он погасил свет, лег на софу, укрылся пледом и закрыл глаза. Ему показалось, что он слышит какую-то мелодию. Нет, музыка играла не у соседей. Был первый час ночи. В это время соседи вели себя тихо. Он замер. Мелодия была в его голове. Это была «Ave Maria».
У него кружилась голова. Ему казалось, что он отрывается от земли и летит навстречу ослепительному сиянию. Какой хороший сон. Он очнулся. В комнате было темно. Тихо щелкали настенные часы.
Раздался резкий телефонный звонок. Веру будто мучила икота – она едва справлялась с рыданием
– Нашей Женечки больше нет.
Истории для кино
Я – не я
Иванов и Петрова-бывшие супруги – разошлись несколько лет назад. Спутников жизни оба так и не нашли. Устраивать личную жизнь им некогда.
Иванов изобретает средства для радикального омоложения человеческого организма. Петрова разрабатывает психотропные препараты, позволяющие вносить позитивные изменения в сознание.
Они на пороге удивительных открытий, но спонсоры урезают им финансирование. Чтобы спасти свои лаборатории, они выступают в СМИ с заявлениями, преувеличивая свои достижения, в расчете, что найдутся другие спонсоры.
Неожиданно к ним обращается скандально известный бизнесмен Яблонский, которому грозит уголовная ответственность за неуплату налогов и финансовые махинации. Он хотел сделать пластическую операцию и скрыться за рубежом, но при обследовании выяснилось, что у него цирроз печени. Теперь вся надежда, что Иванов отодвинет ему неизбежную смерть, а Петрова изменит ему сознание, чтобы суд признал его невменяемым.
Яблонский предлагает провести эксперимент у него в поместье. Но когда Иванов и Петрова поселяются у него, неожиданно меняет условия игры и заявляет, что они должны начать с его дворника Антона. Некогда бывший его друг, подававший большие надежды как художник, Антон спился, и у него тоже цирроз печени. Яблонский хочет проверить на нем, насколько эффективно работает Иванов. Но он готов начать пока коррекцию своего сознания. Ему не хочется считать себя преступником. Он должен сознавать себя порядочным человеком. И этим должна заняться Петрова.
Дворник Антон хватается за предложение друга-хозяина, но при этом хочет избавиться не только от цирроза печени. Он безнадежно влюблен в состоятельную соседку Лидию. Она одинока и совсем не прочь получить красивого, породистого Антона, но он ей социально не ровня, к тому же алкоголик. Поэтому Антон хочет не только избавиться от алкогольной зависимости, но и усилить свои способности, как художника, чтобы стать знаменитым.
Иванов честно предупреждает Яблонского и Антона, что их омоложенный вид может продлиться недолго, после чего они, скорее всего, вернутся в свой возраст. Стабильного результата он пока добиться не может.
Петрова со своей стороны предупреждает Яблонского и Антона, что изменения в сознании и психике могут быть неустойчивы и полны неожиданностей.
Яблонский и Антон пишут расписки в том, что идут на эксперимент добровольно, а в случае неудачи не будут иметь к ученым никаких претензий.
И начинается эксперимент.
Иванов внушает дворнику стойкое отвращение к спиртному и особый вкус к овощам и фруктам. Антон принимает специально разработанные Ивановым препараты. Через считанные недели анализы показывают восстановление функций печени. Дворник начинает выглядеть значительно моложе.
Петрова возвращает Антону непреодолимую тягу к рисованию. Методами гипноза внедряет в его память воспоминания о его якобы благородном происхождении. В общении с Лидой он начинает вести себя как потомок старинного дворянского рода, рисует ее портреты. И без того неравнодушная к нему Лида начинает влюбляться в него.
Но это не нравится Яблонскому. Много лет добивавшийся Лидии, он не хочет, чтобы она досталась какому-то дворнику, пусть даже бывшему его другу. Он требует от Петровой вернуть Антону его прежнее самосознание и прежние довольно средние способности к рисованию. Петрова делает вид, что уступает. На самом деле она манипулирует Антоном методами гипноза и договаривается с Лидией. Антон по ее командам в присутствии Яблонского ведет себя как прежде, а Лидия изображает равнодушие к нему.
Но Яблонский раскрывает этот заговор – выслеживает Антона и Лидию и застает их во время тайного свидания. В ярости он велит своим охранникам привезти в поместье 14-летнюю дочь Иванова и Петровой Риту и берет ее в заложницы. Теперь, считает он, ученые полностью под его контролем.
Но это только сплачивает родителей. Иванов и Петрова хотят остановить эксперимент. К этому времени следствие по делу Яблонского заканчивается и передается в суд. К тому же у него происходит очередное обострение цирроза печени. Ему уже не до любви к Лидии. Он вынужден договариваться с учеными, чтобы спасти свою жизнь. Его адвокатам удается отсрочить начало судебного процесса.
Иванов восстанавливает Яблонскому функцию печени и начинает по его заказу процесс радикального омоложения. Но запросы у Яблонского растут. Он требует, он умоляет Петрову изменить ему сознание. Он хочет только выглядеть Яблонским, а сознание иметь совсем другого человека.
Как экспериментатора, Петрову увлекает этот заказ. Но ее страшит результат подобного раздвоения сознания. Она боится, что Яблонский кончит свои дни в психушке, а она угодит в тюрьму.
Предположения Петровой подтверждаются. У Яблонского явно съезжает крыша. Теперь он требует, чтобы она поработала над сознанием Лидии и внушила ей любовь к нему. Петрова отказывается: она не может сделать это против воли женщины.
Чтобы помочь Антону и Лидии освободиться от Яблонского, Петрова внедряет в сознание Антона мысли о сопротивлении. Антон сбегает из тщательно охраняемого поместья Яблонского.
Начинается судебный процесс. Выясняется, что подсудимый Яблонский-даже внешне не совсем тот человек, которого знает страна. Он выглядит гораздо моложе и приятнее, не проявляет прежнего эпатажа. А главное – не помнит своих преступлений. Перед судом стоит как бы другой человек. Чем и пользуются адвокаты. Суд приостанавливает процесс.
Но теперь угроза уголовной ответственности нависает над Ивановым и Петровой, которые помогли преступнику избежать ответственности. Чтобы этого избежать, они заявляют, что пациент Яблонский обретет прежний облик через несколько месяцев.
Но неожиданно начинает терять свои искусственные достоинства Антон. Борясь за него, Лидия обращается к Иванову и Петровой с просьбой повторить опыты, но ученые не хотят вмешиваться. Они приходят к неутешительному выводу, что в своих попытках обмануть природу они пока проигрывают.
И все же Лидия уговаривает Петрову поддержать Антона в его усилиях реализовать собственные задатки. Петрова помогает ему поверить в себя. Но больше Антону помогает любовь Лидии, ее вера в него.
Яблонский после приговора остается на свободе, но теряет по судебным искам свое состояние и спивается, а Антон, избавленный от алкоголизма, становится превосходным художником и получает Лидию.
Искандер и Малика́
Однажды в Интернете промелькнула сенсация. «Русский офицер похитил в Москве чеченскую девушку, увез в другой город и там женился на ней. Родня ищет девушку. Офицер играет с огнем…»
Александр Иванцов был военным хирургом в госпитале в Моздоке. Малика Сулимова – жила в Грозном. Потом он вернулся в Москву, а Малика училась в медицинском институте.
Александр развелся с женой, которая во время его командировок в «горячие точки» стала погуливать. Малика с родителями переехала в Москву. Несмотря на прекрасные внешние данные, замуж не выходила. Мешал физический недостаток – глухота и заикание – последствие сильной контузии.
Родители Малики – вузовские педагоги, отец преподает студентам историю России, мать-русскую филологию.
Два родных брата Малики погибли в чеченских войнах. Младший, Идрис, был лишен возможности учиться. Он, как многие чеченские подростки, психически заражен духом войны. Не может и не хочет работать. Заметив, что боевики-сепаратисты вовлекают сына в свои дела, боясь потерять и его, Сулимовы переехали из Чечни в Москву.
Жили они в квартире Амира, своего родственника, уехавшего из республики еще во времена Дудаева. Причем, жили в том же доме, в котором жил с родителями Иванцов. Больше того – на одном этаже.
Впервые Александр и Малика увидели друг друга на лестничной площадке. Малика, ее мать и брат Идрис отказались ехать с ним в одном лифте.
Александр немало общался как с чеченцами – сторонниками России, так и с сепаратистами. Врач требовался и тем и другим. Многое в укладе жизни чеченцев ему нравилось. Крепость родовых и семейных отношений. Соблюдение вековых народных традиций. Верность женщин своим мужьям.
В свою квартиру приехал Амир с женой, живущий в подмосковном поместье. Собрались родственники. Живший рядом Иванцов слышал их песни. Вспомнил, как в госпиталь привезли семилетнего мальчика с оторванной кистью правой руки. Один из коллег тогда сказал: мы сохраним ему руку, а завтра он убьет этой рукой кого-нибудь из нас.
Застолье у соседей становилось все шумнее. Особенно возбужден был Амир. Он имел виды на Малику. Хотел сделать ее второй женой. Сама Малика акатегорически против.
А первая жена Амира даже агитировала Малику: мол, сейчас чеченок больше, чем мужчин. Чеченке трудно выйти замуж, чтобы быть у мужа единственной женой. К тому же-кому она нужна, глухая заика?
Возмущенная Малика нашла предлог побыть одной, решила пойти в магазин. Идрис вызвался пойти с ней. Это его обязанность как брата-сопровождать сестру.
Иванцов в это время занимался во дворе машиной. Он пошел следом за Маликой, пытаясь найти повод для знакомства. Он слышал трудный разговор Малики с братом и кассиром в супермаркете. Девушка плохо слышала. А Иванцов немного понимал по-чеченски. В трудный момент он выступил переводчиком, вызывая недовольство Идриса. Вернувшись домой, начал поиск в Интернете специалистов, излечивающих заикание и глухоту.
Как соседи, они довольно часто встречались на лестничной площадке и возле дома. Малика начала отвечать на приветствия Александра кивком головы. Сердце подсказывает ему, что он интересен девушке. Но развитию отношений постоянно мешали то родители Малики, то Идрис.
Иванцов нашел врача-специалиста, который поделился с ним своей методикой лечения заикания. Теперь Александр мог заниматься лечением самостоятельно. Кроме того, он учился у коллеги, врача-чеченца, вайнахскому языку, учился танцевать лезгинку, изучал историю этого народа и даже отрастил бороду.
Однажды, когда Иванцов дежурил в скорой помощи, от семьи Сулимовых поступает вызов. У матери Малики сердечный приступ.
Так Александр и его родители начали общаться с чеченской семьей по-соседски. В одном разговоре Иванцов узнает, что случилось в детстве с Идрисом. Теперь в этом парне уже невозможно было узнать того мальчика. Александр не спешил объявлять, что узнал в нем своего бывшего пациента.
Родители Малики чувствовали интерес их дочери к русскому соседу. Для них, впитавших русскую культуру еще в советское время, живших с русскими в Грозном бок о бок, в этом не было ничего странного. Даже глава сепаратистов, генерал Дудаев, был женат на русской. Но сейчас другие времена. Сближение культур было прервано. Несмотря на замирение, Чечня все больше погружалась в свою национальную культуру и мусульманство, обосабливаясь от культурного пространства России. Для чеченки сейчас выйти замуж за русского – почти позор не только для ее семьи, но и для всего ее тейпа.
Между тем Амир, получив согласие первой жены, сделал родителям Малики официальное предложение. Но девушка категорически отказалась выйти за него. Родители негласно поддерживали ее, хотя и Амиру не отказывали наотрез. Нашли благовидный предлог: мол, дочери нужно время. Амира поддерживал только Идрис, получивший от троюродного дяди дорогую иномарку.
И тогда Амир решил похитить невесту с помощью Идриса. Малика узнает об этом от самого брата в тот момент, когда Идрис уже усаживал ее в машину.
Сделав вид, что покорилась своей участи, Малика сказала, что в таком случае ей надо проститься с родителями. Она поднялась в лифте на свой этаж, но позвонила в квартиру Иванцова…
Александр понимал, что вся родня будет теперь искать девушку, и прежде всего придут к нему. Есть только один путь для спасения. Вместе с Маликой он спускается на второй этаж, где живет старушка-сердечница, его постоянная пациентка, за которой он присматривает.
Идрис и другие чеченцы врываются в квартиру Иванцова, сильно напугав его родителей. Потом караулят возле дома. Только поздно ночью Александр возвращается в свою квартиру. Он уверяет, что весь день был на работе, но ему не верят. В глазах чеченцев он, русский, похитил чеченку! Ему дают срок-одни сутки. Если он не вернет Малику, ему отрежут голову. А если он скроется, та же участь ждет его престарелых родителей.
Малика к этому времени уже знает, что Александр сохранил руку Идрису. Она звонит родителям и сообщает им об этом. Родители и другие представители рода Сулимовых выясняют у Иванцова подробности той операции, делают запрос в Моздок. Из госпиталя приходит официальное подтверждение. Теперь сомнений нет-Иванцова не убивать, а благодарить надо.
Малика звонит родителям и Идрису, уверяет, что никакого похищения не было. Под воздействием сильнейшего стресса девушка начинает все уверенней говорить и гораздо лучше слышать. Родители рады такому обороту событий. И Идрис вроде бы уже колеблется. Он бы уже простил русского, если бы не Амир с его уязвленным самолюбием.
Амир снабжает Идриса магнитной миной и щедро оплачивает заказ. Осталось только выбрать момент и прикрепить мину к днищу автомашины Иванцова, что Идрис и делает. А Малика видит это в окно из квартиры старушки. Иванцов выходит из подъезда, чтобы ехать на работу. Малика предупреждает его об опасности.
Люди Амира хватают Иванцова и Малику (Идрис незаметно снимает мину). Их привозят в загородное поместье Амира с комфортабельным зинданом-тюрьмой для пленников. Туда и помещают Иванцова. Малику отводят во вторую женскую спальню.
Здесь полагается томительная пауза, которую заполнит параллельный сюжет. Дочь Иванцова, 16-летняя Тамара уходит от беспутной матери. Ее принимают бабушка и дедушка. От них Тамара и узнает, что ее отца похитил сосед Идрис.
Тамара делает заявление в полицию о похищении отца, а затем направляется к Сулимовым. Тамара-девушка с характером, вся в отца.
Она встречается с Идрисом и высказывает ему все, что о нем думает. Выражений не выбирает, но странное дело – нагловатый Идрис обескуражен. Ему неловко за то, что он сделал.
И за свою неблагодарность, и за то, что отдал в невольницы сестру. С молодых ногтей внушали ему, что полюбить он может только чеченку, и вот…
Между родителями Александра и Малики происходит запоздалый тяжелый разговор.
А в поместье Амира события развиваются покруче. Физически развитому чеченцу, конечно же, страсть как хочется показать свое подавляющее превосходство над русским соперником. Но Александр неожиданно принимает вызов. Хотя не знает, видит ли его Малика. (А она видит.) И, конечно же, безнадежно проигрывает поединок. Малика плачет. Но вдруг срывает со стены кинжал и заявляет, что зарежет себя. Не только Амир, вся родня понимает, что это не пустая угроза.
Сулимовы предлагают Иванцову принял ислам. Но тот вспоминает случай, когда он попал во время войны в безнадежное положение, и только мольба, обращенная к Христу, помогала ему выжить. Как же может он предать спасшего его православного Бога, поменять его на другого?
Иванцов готов пойти только на то, чтобы сменить имя в паспорте. Отныне он будет не Александр, а Искандер.
Внучка Плутарха
Дарья Долгова, 32 года, политтехнолог
Стив Янг, 36 лет, американский банкир
Клыков Арсений Иванович, 64 года, мэр города Греченска
Бахрушин Степка, 28 лет побочный сын Клыкова
Платонов Дмитрий, 38 лет, зам. мэра (управляющий городом)
Альбина, 32 года, жена Платонова, редактор местного ТВ
Сергеев Вячеслав, 34 года, владелец автомастерской
Верка, 32 года, жена Сергеева, торговка на рынке
Вершинин Сергей Сергеевич, 48 лет, губернатор области
И другие жители Греченска
Дарья Долгова
Главная героиня. Родом из провинциального Греченска. Родители: мать – педагог, отец-врач. По образованию политтехнолог. «Делает» мэров, депутатов, губернаторов. Очень в этом преуспела. Была приглашена в США по программе обмена. Занималась там также преподаванием, читала лекции.
