Исповедь осколков
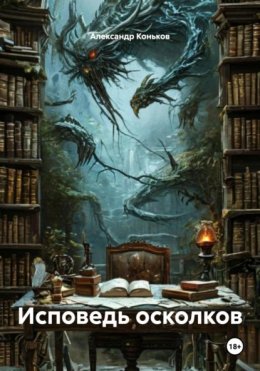
1. Тот, кто шепчет
Деревня Уголич утопала в вечных сумерках. Не в тех, что приходят с закатом и уходят с рассветом, а в тех, что стелятся по низинам, цепляются за остроконечные крыши кривых изб и прячутся в глубине старого, подгнившего леса. Воздух здесь всегда был влажным и тяжёлым, пахнущим прелой хвоей и дымом. Именно дым был душой Уголича. С наступлением темноты каждая печная труба начинала изрыгать густые, смолистые клубы. Топили не ради тепла – осенние холода были пока терпимы. Топили ради шума.
Правило было простым и незыблемым, как каменный фундамент: «Пока ночь черна – пусть в печи огнь». Его вбивали в детей с тех пор, как они начинали понимать слова. Шум горящих поленьев, шипение смолы, гулкий треск раскалённой глины – это был щит. Щит от Шептуна.
Его никто не видел. Он приходил к тому дому, где в трубе не вился дымок и в поддувале не плясали оранжевые язычки. Он не ломал двери. Не царапался в ставни. Он просачивался сквозь щели в полу, сочился из-под порога, как черный, беззвучный туман. Он садился у изголовья спящего нарушителя и начинал шептать.
Старики, чьи лица были изрезаны морщинами глубже, чем колеи на деревенской дороге, говорили, что в его шёпоте не было угроз. Не было проклятий или насмешек. Была только правда. Та, что человек годами хоронил в самых тёмных, самых заброшенных чуланах своей души. Там, куда боится заглянуть даже он сам.
Шептун нашептывал жене о тайном облегчении, которое она почувствовала в день смерти вечно ворчащей свекрови. Мужу – о холодной ненависти к его кривоногому сыну, который никогда не станет настоящим оплотом рода. Дочке – о том, что её некрасивость – не дар природы, а следствие старого, забытого всеми падения в колодец, которое навсегда искалечило не только тело, но и душу.
Наутро нарушитель просыпался седым. Не поседевшим – абсолютно белым, будто его окунули в известь. В глазах его не оставалось ничего, кроме выжженной пустоши. Он не плакал, не кричал, не сходил с ума. Он просто тихо угасал в течение нескольких дней, как головня, в которой не осталось ни искры. Правда Шептуна выедала его изнутри, оставляя лишь пустую, хрусткую скорлупу.
И вот в этот богом забытый уголок судьба занесла молодого кузнеца Левона. Он был с юга, откуда дули тёплые ветра и где солнце прожигало небо до самого вечера. Сильный, широкоплечий, с громким смехом и ясным, уверенным взглядом, он казался существом с другой планеты. Он купил старую, покосившуюся кузню на отшибе и с жаром принялся за работу. Стук его молота о наковальню звучал дерзким вызовом гнетущей тишине Уголича.
Когда сосед, древний, как мох, дед Архип, рассказал ему о Шептуне, Левон лишь отмахнулся.
–Сказки для пугливых баб, – усмехнулся он, вытирая пот со лба. – Ночью нужно спать, а не дрова жечь. От шума голова болит.
Первую свою ночь в Уголиче он проспал богатырским сном, не истопив печь. В доме было тихо, лишь слышалось его ровное дыхание.
Утром его нашли соседи, встревоженные непривычным безмолвием из-за стены его кузни. Дверь была не заперта. Левон сидел на голом полу, прислонившись спиной к почерневшей от времени стене. Он обхватил колени руками и бездвижно смотрел в пустоту. Его густые, чёрные как смоль волосы стали белыми, словно их посыпали первым зимним снегом. В его глазах, ещё вчера таких ясных, теперь плескалась мутная, мёртвая вода. В них не было ни мысли, ни ужаса – лишь абсолютное, всепоглощающее ничто.
Но, в отличие от других, Левон не умер. Он не угас. Спустя неделю этого оцепенения он вдруг поднялся и, пошатываясь, побрёл в кузницу. Он работал молча, механически. Молот поднимался и опускался с прежней силой, но в его движениях не было души. Люди, заглядывая к нему, шептались: «Шептун сказал ему что-то ужасное. Не просто грех какой-то, а душу наизнанку вывернул».
Левон стал своим, но самым чужим в деревне. Он выполнял заказы, брал плату, но никогда не улыбался и не заводил разговоров. По ночам он теперь всегда топил печь. Но делал это не спеша, не суетясь, с каким-то странным, сосредоточенным спокойствием. Он не боялся больше. Казалось, он чего-то ждал.
Его единственной посетительницей стала старуха Марфа, бывшая повитуха, а теперь знахарка, жившая на самом краю деревни, у стены леса. Она приносила ему хлеб и коренья, молча ставила на стол и подолгу сидела рядом, глядя на огонь в его очаге. Однажды, уходя, она обернулась на пороге.
–Он приходит не за правдой, мальчик, – прошепелявила она беззубым ртом. – Правда – это просто ключ. Он приходит за стыдом. А стыд – это пища. Пища, что мы сами для него в себе готовим и которую сами же ему и подаём.
Левон медленно повернул к ней своё каменное лицо.
–А что, если перестать готовить? – тихо спросил он, и это были первые осмысленные слова, что он произнёс с той ночи.
Марфа покачала своей седой головой.
–Не знаю, родной. Не знаю. Пищу эту мы варим в котле своей памяти. А повар там – наш собственный ум.
После её ухода Левон снова погрузился в себя, но теперь в его глазах, среди мёртвой воды, затеплилась искра. Искра не надежды, а страшной, леденящей догадки.
Прошёл месяц. Однажды вечером Левон совершил нечто немыслимое. Он не просто истопил печь. Он вынес из избы всё: стол, лавки, посуду, даже свою кровать. Оставил только голые, закопчённые стены и огромную, до самого потолка, поленницу дров в центре горницы. Он растопил печь до неистового, почти белого жара. Раскалённые кирпичи гудели, издавая низкий, угрожающий гул. Воздух звенел от напряжения. Сам Левон сел на пол прямо напротив огненной пасти печи, подбрасывая в неё новые охапки смолистых поленьев.
Ночь была неестественно тихой. Даже ветер в соснах замер, будто затаив дыхание. Соседи, чувствуя неладное, прильнули к стенам своих домов, затаптывая золу на полу, чтобы их шаги не были слышны. И сквозь гул пламени они услышали голос. Тихий, надтреснутый, но твёрдый. Голос Левона.
–Приходи, – говорил он, глядя в нутро печи. – Я готов. Приходи и скажи всё, что должен.
Из трубы его дома повалил густой, чёрный, живой дым. Он не поднимался к крыше, а тянулся по полу, тяжёлый и вязкий, как деготь. Он заползал под крышу, просачивался сквозь щели и заливал избу непроглядной, удушающей мглой. В самом пекле, среди бушующего пламени, на мгновение проступило лицо – без рта, без носа, лишь два уголька, пылающие холодным, бездушным огнём.
И Шептун заговорил. Его шёпот был похож на скрежет песка по стеклу, на шелест высохших листьев, на предсмертный хрип.
–Ты помнишь тот день, Левон? – зашептал он. – День, когда прискакал гонец от твоего отца? "Старик умирает, торопись", – сказал он. А ты? Ты был пьян. Ты только что выиграл крупную сумму в кости. Деньги жгли твой карман. Ты разорвал то письмо, даже не дочитав, и пошёл в таверну, крича, что будешь пировать до утра. Ты предпочёл веселье агонии родной крови. Твой отец умер в одиночестве, крича твоё имя. А ты в это время тушил свечу над столом, залитым вином.
Левон слушал, не двигаясь. Лицо его было залито слезами, которые тут же высыхали на адской жару. Но губы его были сжаты.
–А Анелла? – продолжал Шептун, и его шёпот стал слаще, ядовитее. – Твоя первая и, как ты думал, единственная любовь. Она носила под сердцем твоего ребёнка. А ты, узнав, струсил. Сказал, что не готов. Сбежал, как вор, под покровом ночи в другой город. Через месяц она бросилась с утёса. Двое. Ты убил двоих, Левон. И вся твоя сила, твоя удаль – это всего лишь маска. Ширма для жалкого, ничтожного труса, который до сих пор слышит её плач в шуме дождя.
Шептун замолк. В доме повисла звенящая тишина, которую уже не мог заглушить даже рёв огня. Казалось, сама тьма затаила дыхание в ожидании. Ожидании, когда человек сломается, когда его крик разорвёт ночь.
Но Левон засмеялся. Тихим, уставшим, но абсолютно трезвым смехом.
–И это всё? – прошептал он, и его голос был похож на скрип старого дерева. – Ты сказал мне ничего нового. Ни единого слова. Я знал. Я всегда это знал. Каждую ночь. Каждую секунду моей жизни. Я носил это в себе, как носят раскалённые угли за пазухой. Ты не принёс мне правду. Ты лишь повторил мою собственную, старую, как мир, боль.
Он поднялся и сделал шаг к пылающей печи, не боясь обжечься.
–Ты питаешься нашим стыдом? Нашей болью? Так бери её! Она вся здесь! – Левон ударил себя кулаком в грудь. – Но знай, тварь, я прожил с этой правдой всю свою жизнь. Она не съела меня. Она выковала меня. Сделала тем, кто я есть. Ты не всесилен. Ты силён лишь над теми, кто бежит от самого себя. Кто прячет свою тьму и делает вид, что её нет. А я… я больше не бегу.
Чёрный дым сгустился, заклубился с бешеной силой. Угольки-глаза в огне полыхали ярче, в них читалась ярость, недоумение, почти животная злоба. Но шепота больше не было. Было лишь молчаливое противостояние. Человек, принявший всю свою тьму, и демон, лишённый своей пищи.
Дым начал редеть. Он будто таял, растворяясь в горячем воздухе избы. Пламя в печи вдруг погасло, словно его захлестнула невидимая волна. В доме воцарилась тьма, пронзительная и абсолютная.
Наутро, когда первые лучи солнца робко заглянули в окно, дым рассеялся. Левон вышел из избы. Он был по-прежнему седой, его лицо оставалось измождённым, а глаза – несущими на себе груз десятилетий. Но в них больше не было пустоты. В них была усталая, тяжёлая, купленная невероятной ценой победа.
С той ночи Шептун больше никогда не приходил в Уголич. Говорили, он нашёл того, кто смог принять свою тьму, и это отравило его, лишив силы. Или, может, он просто отправился на поиски другой деревни, где люди по-прежнему боялись зажигать свет в собственной душе.
А правило про печь осталось. Только теперь старики, поучая детей, добавляли новую строку: «И топи её не от страха, а чтобы свет от огня помог тебе разглядеть своих чудовищ и назвать их по имени. Пока они не сделали это за тебя».
Левон же жил один в своей кузне на отшибе. Люди сторонились его, видя в его глазах отражение того, с чем им самим было страшно встретиться. Его победа сделала его изгоем. Но он был спокоен. Он нёс своё бремя. И в тишине своих ночей он больше не слышал шепота. Лишь тихий, ровный гул собственного, наконец-то обретённого, покоя.
2. Кукольник
Деревня Подгорье стыла у подножия хребта, на который веками не ступала нога человека. А выше, в самих скалах, начинался Чёрный лес. Не тот, где растут сосны и ели, а тот, что был похож на спутанные колья гигантского частокола, брошенные против неба. Воздух в Подгорье был густым и неподвижным, как вода в заболоченном пруду. Здесь никогда не смеялись. Смех здесь считали грехом опаснее богохульства, ибо он мог долететь до леса и потревожить то, что живёт на его опушке.
Там, где тень от леса ложилась на землю гуще всего, стояла избушка. Краска с неё осыпалась, обнажив древесину, почерневшую от времени и сырости. Ставни висели на одной последней надежде, поскрипывая на ветру, что всегда дул со стороны леса. В этой избушке жил старый Скоморох.
Когда-то, в незапамятные времена, он носил яркий колпак с бубенцами и разъезжал по ярмаркам, заставляя людей хохотать до слёз и боли в животах. Его звали тогда весельчаком. Но однажды он ушёл в Чёрный лес за редкими кореньями для своих красок и вернулся… другим. Бубенцы на его колпаке проржавели и онемели. Сам он высох и сгорбился, став похожим на старую корягу, выброшенную на берег. Теперь его единственным собеседником была тоска – не чувство, а вполне осязаемая сущность, которая каждый вечер садилась с ним у потухающего очага, положив свою тёмную, бесформенную голову ему на колени, и шептала одним ему слышным голосом: «Сыграй для меня. Сыграй последний спектакль. Мне так одиноко».
И вот однажды, когда тишина в избушке стала звонкой и невыносимой, словно предсмертный звон в ушах, Скоморох поддался её уговорам. Он отодвинул половицу и достал из потаённого угля старый, окованный железом сундук. Открыв его, он выдохнул облако пыли, пахнущей забвением и сухими травами. На дне лежала одна-единственная кукла.
Она была грубой работы, вырезанной из тёмного, почти чёрного дерева. Лицо её не имело ни возраста, ни пола – лишь грубые черты, намекавшие на застывшую маску страдания. Но самое жуткое – это были её глаза. Две глубокие, пустые выемки, в одной из которых застыла единственная, крупная, идеально круглая слеза, будто выточенная из чёрной, прозрачной смолы. К шее куклы была привязана не прочная льняная нить, а длинный, тонкий, смолянисто-чёрный человеческий волос.
– Что ж, – проскрипел Скоморох, и его голос прозвучал как скрип несмазанных колёс похоронной дроги. – Сыграем. Для Ворона за окном, для мыши под полом. И для тебя, Тоска.
Он надел куклу на свою костлявую, трясущуюся руку, зашёл за ветхую, когда-то яркую, а ныне выцветшую ширму и зажёг сальную свечу. Прыгающий, неровный свет рождал на стене гигантские, уродливые тени, которые плясали свой немой, безумный танец. Скоморох начал свой монолог тем же сиплым, надтреснутым голосом:
–Жил-был один молодец… шёл он лесом тёмным, тёмным… а навстречу ему…
Но слова застряли у него в горле, превратившись в беззвучный пузырь. Его пальцы, привыкшие к тонкой работе, вдруг онемели и одеревенели. И в этот миг кукла на его руке… дёрнулась. Сама.
Она медленно, с противным, сухим скрипом повернула свою деревянную голову и уставилась на него пустыми глазницами. Скрип шёл не от старого дерева, а из её суставов, будто внутри неё что-то ломалось и вставало на место.
«Не я… это не я двигаю…» – попытался закричать Скоморох, но из его пересохшего горла вырвался лишь хрип, похожий на предсмертный лепет.
Тонкий чёрный волос-струна натянулся, зазвенел, как струна лютни, и лопнул с тихим, зловещим щелчком. Кукла неестественно, судорожно дёргаясь, словно марионетка с перерезанными нитями, упала с его руки на грязный пол и, перебирая деревянными конечностями, поползла. Не как человек, а как огромный, неуклюжий паук, в самый тёмный угол горницы, туда, где сходились все тени и откуда не возвращался даже свет.
А из этих теней поднялось Нечто.
Оно было бесформенным и чёрным, как сажа, как сама ночь без звёзд. Но по мере того, как оно вытягивалось во весь рост, оно начало обретать форму. Одежду Скомороха. Его глубокие морщины. Его согбенную, уставшую спину. Оно стало его точной, но ужасающей копией. Новый Скоморох улыбнулся – улыбкой широкой, неестественной, растянувшей его лицо в жутковатой маске. В этой улыбке не было ни капли тепла или радости, лишь холодная, всепоглощающая пустота.
А настоящий Скоморох, старый и немощный, почувствовал, как мир вокруг него сжимается. Пол уходил из-под ног, потолок нависал всё ниже. Его кости сплющивались, со скрипом меняя форму. Кожа грубела, покрывалась невидимой резьбой и деревенела. Его последний, отчаянный крик так и не смог вырваться наружу, застряв внутри и превратившись в едва слышный, шипящий шепот, который мог различить лишь тот, кто приложил ухо к дереву. Он стал маленькой, беззащитной деревянной куклой с одной-единственной чёрной слезой на щеке.
Новый Скоморох нагнулся, движения его были плавными и точными, лишёнными старческой дрожи. Он подобрал куклу с пола, подержал в руке, разглядывая, и сунул её в свой тряпичный мешок, откуда пахло пылью, старыми грехами и горькой ложью. Потом он расправил плечи, стряхнул с себя вековую усталость и вышел на улицу. Впервые за долгие годы.
На следующее утро деревня Подгорье проснулась от звука, которого не слышала десятилетиями. От громкого, раскатистого, весёлого смеха. По главной, единственной улице шёл Скоморох! Настоящий! Молодой и полный сил! Его когда-то померкшие глаза сияли, а рот был растянут в беззубой, но озорной ухмылке. На его колпаке, будто по волшебству, вновь звенели бубенцы. Он пел залихватские частушки, отплясывал замысловатые коленца и показывал фокусы, от которых у зрителей захватывало дух.
Сперва люди в ужасе жались к стенам своих домов, крестились и шептали заговоры. Но смех – штука заразительная, а страх перед новым и необъяснимым постепенно вытеснялся любопытством, а затем и восторгом. По одному, робко, они стали выходить на улицу. А потом и дети, забыв все страхи и запреты, с визгом и смехом побежали за ним, требуя новых чудес.
Он и показывал чудо. Он доставал из своего бездонного мешка маленькую деревянную куколку. Ту самую, с чёрной слезой. И он заставлял её плясать. Без всяких ниток. Одним лишь движением руки, взмахом пальца. Кукла отплясывала на его ладони лихой, неистовый танец, её деревянные члены изгибались в невозможных позах. Дети визжали от восторга, а взрослые улыбались растерянно и счастливо.
Они не слышали едва уловимого шёпота, что доносился из глубины деревянного тельца, из самого его сердца: «Бегите… Не слушайте его… Ради всего святого, бегите… Он ведёт вас не к свету…»
Но этот тихий голос отчаяния тонул в громком, навязчивом, гипнотическом хохоте нового Кукольника. Он, как Крысолов, вёл за собой весёлый, неугомонный хоровод – детей, женщин, мужчин – к самой опушке Чёрного Леса. За собой. За своей невидимой, но невероятно прочной ниточкой, что тянулась от его пальцев к сердцу каждого.
А в кармане его рваного, но теперь казавшегося таким нарядным кафтана, маленькая деревянная кукла плакала своей единственной, вечной чёрной слезой. И в кромешной тьме своего нового мира, в тесной тюрьме собственного тела, она ждала. Ждала, когда в избушку на опушке войдёт новый одинокий старик с тоской в сердце и желанием сыграть последний спектакль. Чтобы найти себе замену. Чтобы передать проклятие. Чтобы хоть кто-то ещё узнал, какой ценой платит Кукольник из Чёрного Леса за весёлый смех и нескончаемый праздник, что он дарит другим.
3. Тяжба с ветром
В деревне Омут, что ютилась в коленях сырых, беспросветных болот, жизнь измерялась не годами, а количеством удачно пережитых зим. Здесь даже солнце светило с оглядкой, будто боялось зацепить верхушки сосен-скелетов и обжечься о тину. А по ночам с болот выползал туман – густой, белесый, и в нём тонули звуки, краски и надежды.
В самой крайней избе, на отшибе, жил Панкрат. Не старый ещё мужик, но уже обложенный жизнью. Звали его Глухим не от недостатка слуха, а от избытка упрямства. Он верил только в то, что можно взвесить на руках, поставить в закрома или выменять на соль. В Бога, в чертей, в домовых – во всю эту нечисть, что плодилась в болотных испарениях и в головах у соседей, он не верил. Его богом был тяжкий, ежедневный труд, а дьяволом – всё, что этому труду мешало.
И был у Панкрата главный враг – Ветер. Не тот ласковый шептун, что колышет рожь, а злой, насмешливый дух с болот. Он выл в печной трубе, выдувая жар из избы, срывал ворох соломы с крыши, стоило Панкрату её починить, и выхватывал из его рук только что зажжённую трубку, оставляя на губах горький привкус. Соседи, завидев хмурое лицо Панкрата, качали головами: «Опять Ветер с ним шутит. Откупись, Панкрат, брось ему в болото краюху хлеба да горсть маку. Уймётся».
Но Панкрат лишь отплевывался.
– Какая такая нежить смеет смеяться над моим трудом? Я с ним, сукиным сыном, по-мужски разберусь!
И решил он подать на Ветер в суд. Собрал нехитрые пожитки, положил в мешок засохшую краюху, взял в руки увесистую дубину – на всякий случай – и пошёл по зыбкой, проросшей кочками дороге, что вела в большой город.
Путь его лежал через гиблые места. На краю деревни сидел на обгорелом пне отставной солдат Ефим, безногий, с пустыми глазами. Увидев Панкрата с дубиной и узлом, он хрипло рассмеялся:
– Куда путь держишь, упрямец?
– В город, на Ветер в суд подавать! – отрезал Панкрат.
Солдат покачал головой, поблёкшие медали на его старом мундире звякнули.
– Брось, земляк. С Силами Небесными не судятся. Их или бойся, или молись на них. А ты идёшь на верную погибель. Неправая правда тебя в гроб вгонит.
Панкрат фыркнул и пошёл дальше. В чаще леса он наткнулся на голодного детину с пустыми, волчьими глазами. Тот, пошатываясь, преградил ему дорогу.
– Подай, добрый человек, на пропитание…
– Отстань, – отмахнулся Панкрат. – По важному делу иду. С Ветром судиться.
Нищий замер, а потом его лицо исказила гримаса, похожая то ли на смех, то ли на ужас.
– С Ветром? Да ты погляди на меня! Я вот с барином своим судился, за землю. А теперь по миру с сумой хожу. Его правда оказалась тяжелее! А твоя с ветряной правдой потягается?
Но Панкрат уже шёл вперёд, не оборачиваясь. У старого покосившегося креста сидела старуха-плакальщица, Акулина. Она оплакивала всех подряд
– и мёртвых, и живых. Увидев Панкрата, она запричитала:
– Ой, Панкратушка, буйная головушка! Не ходи, вернись! Ветер тебя в поле без креста похоронит! Никто и косточек твоих не соберёт!
Но её вопли лишь укрепили Панкрата в его решении. Все они – слабые, сломленные. А он – нет. Его правда, труда и упорства, должна восторжествовать.
Наконец он добрался до города и предстал перед Князем-Судьёй. Тот был человеком тучным, с лицом, напоминавшим запёкшуюся кровяную колбасу, и маленькими, блестящими, как бусины, глазками. Он славился своей циничной мудростью и любовью к зрелищам, особенно к тем, где чужая глупость порождала абсурдное горе.
Выслушав Панкрата, Князь расхохотался так, что затряслись его щёки.
– С Ветром в суд? Ха! Да ты, мужик, забавный! Ладно, не часто такие дела ко мне поступают. Назначу-ка я суд Божий!
Он поднялся с резного кресла и изрёк:
– Выйдешь ты, Панкрат, в чисто поле, на самую его середину. Станешь там и крикнешь трижды во всю глотку: «Выходи, обидчик мой, на суд праведный!». Если явится твой ответчик – признаю правоту твою и воздам тебе по заслугам. А коли никто не явится… – Князь усмехнулся, – …значит, потрава княжеской воли. За то повешу. Ясно?
Свита захихикала. Панкрат, бледный, но непоколебимый, кивнул.
– Ясно.
Его вывели за околицу, на огромное, пустынное поле. Небо налилось свинцом, и первая шальная струя холодного воздуха обожгла ему лицо. Панкрат сгрёб в комок всю свою ярость, всё упрямство и крикнул, разрывая глотку:
– Выходи, обидчик мой, на суд праведный!
Ветер, до этого игравший с пылинками, вдруг стих. Тишина стала звенящей, тяжёлой.
– ВЫХОДИ! – завопил Панкрат во второй раз, и его голос, сорвавшийся на фальцет, прокатился по полю.
В ответ небо почернело. Тучи сомкнулись в сплошную, гудящую массу. Поле погрузилось в предгрозовой мрак.
И тогда Панкрат, собрав последние силы, проревел в наступающую тьму:
– ВЫХОДИИИ!
И Небо разверзлось. Но не явился Ветер. Явилась сама Гроза. Не слепая стихия, а живое, яростное, всесокрушающее Существо. Молнии били в землю, как плети, дождь хлестал стальными струями, а гром был не звуком, а рёвом разъярённого зверя.
И в этом рёве Панкрат услышал Голос. Он был соткан из свиста урагана, из грома и из шипения дождя.
– Ты звал, червь? Ты суда захотел? Я – твой Ветер! Я – его Дождь! Я – его Гром! Мы и есть твой Суд! Судись же, давай, предъяви свои праведных свидетелей! Где они?
Панкрат попятился. Он озирался, но вокруг бушевала только слепая, равнодушная ярость. Он пытался что-то крикнуть, но его слова разрывались в клочья ураганом. Он поднял свою дубину – свой последний аргумент, – но молния ударила в неё, обратив в щепу и опалив ему руки.
И его не стало. Не просто убили. Стёрли. Смыли с лица земли. Ни клочка одежды, ни обугленной косточки. Только воронка в земле да запах озона.
А в княжеских палатах Князь-Судья, выслушав доклад стражников, долго и от души смеялся, попивая густое вино.
– Ну что, нашёл на свою голову судью, дурак? Истину, видно, в огне искал, так её там и нашёл. Всем наука!
И в деревне Омут с тех пор стали говорить, встречая непогоду:
– Гляди, Панкрат с Ветром опять судится.
И крепче запирали ставни. Потому что знали – с некоторыми силами лучше не спорить. Или молиться на них, или бояться. А упрямство – дорога в никуда, где нет даже креста, чтобы помянуть.
4. Кукла Недоли
На краю деревни, там, где тропинка тонула в хмуром, вечно шепчущем ельнике, стояла избушка Степана. Бывший корабельный плотник, он ушёл с моря после того, как буря унесла его шхуну «Марьяна» – названную так в честь жены, умершей при родах, – и оставила его одного на обломке мачты. Он выжил, но море в нём умерло, оставив после себя лишь тихий, солёный осадок тоски.
Изба его была полна призраков. В углу висела его старая, пропитанная ветром и солью куртка. На полке пылился компас со сломанной стрелкой. Но самыми громкими были призраки тишины – они сидели за столом напротив, ложились на вторую половину холодной кровати, звали его по имени в предрассветном сумраке.
Чтобы не сойти с ума, Степан взялся за нож и кусок старого, выброшенного морем дерева – обломка той самой мачты, что спасла ему жизнь. Он начал вырезать. Он не думал о продаже. Его пальцы, помнившие каждую щепку «Марьяны», сами находили форму в древесных волокнах. Он вырезал куклу. Ростом с ребёнка, с грубыми, но выразительными чертами лица. У неё были широко раскрытые глаза, в которых застыло вечное удивление, и маленький, приоткрытый рот, будто она собиралась что-то сказать.
Он назвал её Недолей. Назвал так, словно хотел обмануть судьбу, призвав её к себе под видом неудачи, чтобы заключить сделку. Он вложил в неё всё, чего ему не хватало: мечту о сыне, которого он никогда не имел; тепло очага, которого лишился; тихую, спокойную долю, которую у него отняло море.
И началось необъяснимое.
Сперва он просто разговаривал с ней. Садил её на табурет напротив и рассказывал ей о своём дне, о старых плаваниях, о Марьяне. Она молчала. Но её молчание было иным – не пустым, а глубоким, внимательным. Её нарисованные глаза казались живыми. Они смотрели на него, и в их блеске Степану чудилось понимание.
А потом его жизнь стала налаживаться. Словно Недоля, впитывая его тоску, взамен отдавала ему капельки удачи. Он пошёл в лес за хворостом и нашёл под старым буреломом кошель, туго набитый серебряными монетами. Соседские козы, которые годами травили его огород, вдруг обходили его забор стороной, словно натыкаясь на невидимую стену. Даже застарелый кашель, доставшийся ему после той роковой бури, отступил, и по ночам он впервые за долгое время стал дышать полной грудью.
Степан не радовался. Он с опаской поглядывал на деревянную фигуру в углу. Это была не удача. Это была плата.
Как-то раз к его калитке подошёл соседский мальчишка, Мишка. Сирота, росший у тётки на побегушках, вечно голодный, с большими, как у Недоли, глазами. Он принёс Степану глиняный горшок с молоком – мол, тётка велела, за то, что старик прошлой осенью починил им забор.
Степан, бурча, пустил мальчишку в избу. Мишка уставился на куклу.
– Ой, а кто это? – спросил он, забыв про молоко.
– Недоля, – мрачно ответил Степан.
– Красивая, – прошептал Мишка.
С тех пор мальчик стал заходить часто. Степан, сперва ворчавший, постепенно привык. Он стал вырезать для Мишки деревянные кораблики, рассказывать ему о дальних странах, учить его узлы вязать. В избе пахло не плесенью и тоской, а тёплой похлёбкой и детским потом. В груди у Степана что-то оттаивало, щемяще и болезненно, как отлежавшая нога.
Однажды вечером, глядя, как Мишка увлечённо чинит его старый невод, Степан не выдержал.
– Вот что, Мишаня, – сказал он, и голос его дрогнул. – Оставайся-ка ты у меня. Будешь мне… помощником. А там, гляди, и сыном назову.
Мальчик вспыхнул от счастья. А Степан, впервые за много лет, почувствовал, что жизнь не кончена.
В ту ночь он проснулся от странного чувства – тяжести на груди. Он открыл глаза. В лунном свете, падающем из окна, он увидел Недолю. Она сидела на нём, её деревянное тело было холодным и невыносимо гнетущим. Её суставы издали тихий, сухой скрип, когда она наклонилась к его лицу. Краска на её лице не изменилась, но в её неподвижных глазах плясали отблески какой-то чужой, древесной жизни.
И он услышал голос. Не в ушах, а внутри своей головы. Он был похож на скрип старого дерева на ветру, на шелест сухих листьев.
– Я – твоя доля, Степан. Ты вырезал меня из своей тоски. Ты вдохнул в меня жизнь своими одинокими мыслями. Я – твоё счастье. Я – твой сын. Я – твой дом. Всё, что у тебя есть, – это я.
Степан попытался сбросить её, но его тело было парализовано леденящим ужасом.
– Мальчик… – просипел он.
– Он чужой, – проскрипела Недоля. – Он украдёт у тебя взгляд. Твоё внимание. Твою… любовь. А что останется мне? Я не позволю. Он или я. Сделай выбор.
Утром Степан поднялся разбитым. Он посмотрел на Недолю, стоявшую в своём углу. Она была просто куклой. Но он знал – это обман. Он подошёл к ней и, заглянув в её глаза, увидел в их стеклянной глубине не просто понимание, а собственную, вывернутую наизнанку душу. Он создал не утешение. Он создал Ревность. Чёрную, всепоглощающую, готовую на всё, чтобы остаться единственной.
Мишка прибежал днём, сияющий.
– Дедушка Степан, а мы сегодня на речку пойдём? Удочки возьмём?
Степан смотрел на его живые, горящие глаза, а потом на неподвижное лицо Недоли. Выбор был не между одиночеством и семьёй. Выбор был между убийством ребёнка – пусть и бездейственным, просто отказом, – и вечной жизнью в аду с собственным творением, со своей «счастливой» долей, которая оказалась самым страшным его кошмаром.
Он опустил голову на руки. Он был корабельным плотником. Он мог рассчитать нагрузку на мачту, предсказать прочность борта. Но как рассчитать цену простого человеческого счастья? И как выбрать между виной за сломанную жизнь и вечным заточением в собственной, искусственно созданной клетке?
