Иной Лес. Книга 1. Зов Равновесия
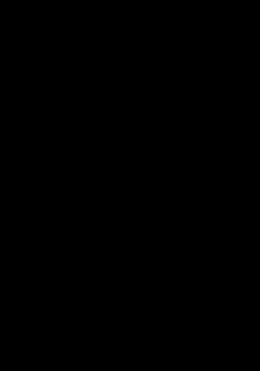
Глава 1. Волчий Дар
Лес был не просто скоплением деревьев; он был живым существом, древним и мудрым. Он не дышал, как зверь – с шумом и перерывами, – а скорее пребывал в вечном, размеренном движении, подобно духу. Воздух, что струился меж сосен, был напоён запахами – хвои, прелой листвы, гниющей коры и чего-то ещё, глубокого и скрытного, что таилось под корнями и вековым мхом. Этот ветер не просто шелестел – он вещал. Слышать его дано было немногим. И Дарина слышала.
Ей минуло двенадцать зим, не больше. Но глаза её были не детскими – старше времени, глубже, чем полагалось её возрасту. Цветом – как спелая черника, что вызревает на болотных кочках, куда не ступала нога чужого. Она знала лес не по тропам, а по его дыханию. Не по следам, а по сменяющимся теням. Её дед, лесник из рода Бобра, чьи предки испокон веку жили на краю чащи, учил: «Лес – не пустота меж стволов. Лес – живой. Он видит. Он помнит. Он выбирает, с кем говорить, а кого и слопать».
Сегодня лес выбрал не её. Но она – его, безраздельно и навсегда.
С опушки, с той кромки, где паханая земля деревни Березовый Бор упиралась в древний, дикий лес, донёсся шум. Не праздничный гомон, не песни – а тревожный, рваный гул. Металлический лязг, приглушённые крики, отрывистый лай псов. Люди. С железом в руках. Железо – не дар лесных духов, не благо. Оно режет не только плоть, но и саму связь с миром, тонкие нити, что тянутся от всего живого к сердцу Матери-Земли. Железо глушит голоса навьев и берегинь, заставляет духов отшатнуться и уйти вглубь. Потому-то оно – в руках воинов, а не ведающих.
Дарина замерла за буреломом, в прохладной тени упавшей сосны, что вся поросла седым, как старческая борода, мхом. Лукошко её, туго набитое поздними ягодами – костяникой, румяной брусникой, горьковатой черникой, – стояло у корней, позабытое. Она не дышала, вобрав в себя весь воздух, и смотрела, вжимаясь в землю.
И вот из чащи, раздвинув лапником, выскочила волчица.
Не просто зверь. Не просто хищник. В ней чувствовалось нечто большее. Шерсть на боку и ляжке была пропитана кровью – тёмной, запекшейся, почти чёрной, будто её полили дёгтем. Передняя лапа безвольно повисла, сломанная, вероятно, метким ударом копья или стрелой из тугого лука. Но пасть её была сомкнута. И в ней, зажатый аккуратно, будто драгоценность, лежал свёрток. Грубый посконный плат, выцветший от солнца и дождей, пропахший овечьим молоком и дымом человеческого очага. А в плату том – младенец. Не плачущий. Не кричащий. Лишь тихо постанывающий, словно раненый птенец, выпавший из гнезда.
За ней, руша подлесок, неслась погоня.
– Гой! Туда! Приметил! – пронзительно кричал молодой воин из рода Оленя. На его посконной рубахе был вышит знак рода – стройный рогатый зверь, будто бы летящий над землёй. – Не дать уйти, тварь лесная!
– Недотепа! Осторожней! – перекрикивал его старший, мужчина с лицом, изборождённым шрамами, будто молнии самого Перуна когда-то играли на его коже. – Держи стрелу! Чадо зацепишь, оголтелый!
Но молодой, горячный, уже занёс лёгкое охотничье копьё – не для ратного боя, а для зверя. Он не видел в волчице ничего, кроме нечисти, оборотня, похитителя детей. Не видел – и не желал видеть.
Волчица, не обращая внимания на крики, рванула в густые заросли орешника. Колючие ветви хлестали её по морде, оставляя кровавые полосы на и без того израненной шкуре, но она не сбавила хода. Напротив – прижала драгоценный свёрток к груди ещё крепче, защищая его своим телом. Она бежала не просто от смерти. Она бежала к спасению. Чувствовалось это в каждом её напряжённом мускуле, в каждом отчаянном взмахе хвоста.
И Дарина это видела. Не глазами – сердцем, тем самым внутренним зрением, что пробудил в ней дед. От волчицы не исходила злоба. Не исходило безумие. Исходила лишь ярая, отчаянная решимость. Та самая, что бывает у матери, когда она заслоняет собственное дитя от верной гибели. А от свёртка… от него тянулась тонкая, почти невидимая нить. Холодная, мерцающая, как роса на паутине в предрассветном тумане. Нить уводила в самую глубь леса – туда, где вековые деревья стояли стеной, так плотно, что даже ветер не мог просочиться в их чащу. Туда, куда люди из Березового Бора не ходили. Где не смели ходить.
Туда, где обитал сам Лесовик-Хозяин.
Дарина двинулась вслед, отринув страх. Бесшумно, как учил дед: пяткой – на мягкий мох, носком – на прочный корень, дыхание – в такт шелесту листвы. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь гулом в ушах, но она гнала прочь дрожь. Она думала о свёртке. О волчице. О том, что должна увидеть, чем закончится эта погоня.
Крики людей вскоре стихли, затерялись в зелёной гуще. Лес поглотил их, словно болотная трясина – случайный камень. Воздух вокруг стал иным – плотнее, тяжелее, с явственным привкусом озона и влажной, холодной земли. Пахло приближающейся грозой, хотя в просветах меж крон небо синело, чистое. Это был не дождь. Это был переход. Смена граней.
И вот перед ней – поляна.
Не простая полянка, а место сильное, отмеченное. Посреди неё росла старая, могучая сосна, ствол которой неестественным образом изогнулся в почти правильное кольцо – будто сама богиня Макошь, прядущая нити судеб, сплела его в час сотворения мира. У её подножия, на примятой траве, лежала волчица. На боку. Грудь вздымалась редко и с трудом. Из страшной раны на боку сочилась жизнь, медленно окрашивая хвою и мох в ржаво-чёрный цвет. Рядом, на развороченном плату, лежал тот самый свёрток. Он шевелился. Из него доносилось тихое, жалобное похныкивание.
А совсем рядом, тычась слепой мордочкой в холоднеющий бок матери, копошился волчонок. Крошечный, слепой, с ещё не раскрывшимися глазами-бусинками. Он искал тепло, молоко, жизнь… но жизнь уходила, утекала вместе с тёмной кровью.
Дарина подошла. Медленно. Осторожно, выставляя подошвы босых ног так, чтобы не хрустнула ни одна ветка. Волчица приоткрыла глаз. Один – уже затянутый мутной пеленой приближающейся смерти. Но в нём не было ни страха, ни злобы. Была лишь просьба. Последняя, завещательная.
И Дарина поняла: это не похищение. Это – дар. Передача. Завещание.
Она опустилась на колени, не боясь помять подол простой домотканой рубахи. Дрожащими от волнения пальцами развернула грубый плат. Под ним оказалось маленькое, красное, сморщенное личико с глазами, ещё не видящими, но уже чувствующими боль и холод. А волчонок, почуяв исходящее от неё живое тепло, неуклюже пополз к её коленям. Холодный мокрый нос ткнулся в ладонь – и в ту же секунду Дарина почувствовала незримую связь, тонкую и прочную, как шёлк паука. Они теперь её. Её дети. Её судьба.
Не раздумывая, она взяла обоих. Младенца – прижала к груди, согревая дыханием. Волчонка – под мышку, бережно завернув в подол рубахи. Они были такими хрупкими. Такими беззащитными. И такими чужими жестокому миру людей, где всё делилось на своё и чужое.
Она обернулась, чтобы идти назад, – и кровь застыла в жилах.
Тропы не было.
Сосны и ели стояли те же, но… иные. Искажённые, будто увиденные сквозь дрожащий воздух жарким днём. Они словно насторожились, сдвинулись плотнее. Свет сумерек, которых ещё не должно было быть, преломлялся странно, неуловимо, будто падал сквозь толщу воды. Воздух звенел от тишины – но тишина эта была не пустой, а наполненной. Тысячи незримых глаз смотрели на неё из сумрака под сенью крон. Не враждебно. Пристально. Оценивающе.
– Лесовик… Дедушко лесов… – прошептала она, и голос её прозвучал глухо, будто поглощённый ватой.
Она знала правила, переданные дедом. Чистые помыслы. Безоговорочное уважение. Обязательный дар. Но она пришла сюда не одна. Она принесла на это священное место чужую боль, чужую кровь, нарушила его вековой покой. И теперь должна была заплатить. Отдать что-то взамен.
Дрожащими, не слушавшимися руками она высыпала содержимое своего лукошка на плоский, замшелый валун у корней сосны-кольца. Горсть ягод – всё, что у неё было. Потом поклонилась до самой земли, касаясь лбом холодного мха.
– Хранитель-батюшка… Лесной дедушко… Не води меня тропой забвения, отпусти восвояси. Несу я своих суженых, своих по крови и духу… Не дам их в обиду никому. Душа за душу положу. Кровь за кровь пролью. Долг за долг отдам.
Лес молчал в ответ. Давление в воздухе нарастало.
Тогда она вспомнила древний обряд защиты, тот, что показывала ей старая бабка-вещунья из их же рода, когда Дарина впервые, будучи малой, увидела русалку в лесном омуте. Подняла с земли сухую, но крепкую ветку сосны и, крепко сжимая её в пальцах, очертила вокруг себя и двоих детей неровный, но замкнутый круг. Не просто линию на земле. Защиту. Границу между мирами.
Воздух задрожал, заволновался, словно вода в озере от брошенного камня.
Ветви исполинских деревьев впереди сомкнулись – и тут же разошлись, открывая неширокий, но явственный проход. Не назад, к деревне. Вперёд. Туда, куда всё это время вела та самая мерцающая нить судьбы.
Сжав в охапке своих новых детей, Дарина сделала шаг. Первый шаг в неизвестность.
Земля под ногами на мгновение ушла, поплыла. Потом вернулась. Но стала совершенно иной.
Под её босыми пятками теперь лежал мох. Но не рыжий и не зелёный, а светящийся. Бледно-голубой, фосфоресцирующий, как лунный свет на свежевыпавшем снегу. Воздух стал густым, тягучим, сладковатым на вкус, с примесью смолы и чего-то незнакомого, неземного. Деревья вокруг были исполинами, в три обхвата толщиной. Кора их была тёмной, почти чёрной, и покрыта причудливыми серебристыми узорами, будто вырезанными рукой искусного, но незримого резчика. С гигантских ветвей свисали лианы с огромными цветами, которые медленно пульсировали ровным фиолетовым светом.
Кругом стояла тишина. Абсолютная, всепоглощающая. Ни ветра. Ни птиц. Ни шороха насекомых. Даже младенец и волчонок замолкли, заворожённые и напуганные этим неземным безмолвием.
Дарина обернулась.
Позади неё стояла стена тумана. Молочно-белая, плотная, совершенно непроницаемая для взора. Ни леса. Ни деревни. Никого из мира, что она знала с рождения.
Она осталась совсем одна.
С двумя детёнышами на руках. Один – человек, плоть от плоти её народа. Второй – зверь, дитя леса. Но оба – её, принятые сердцем и душой.
И здесь, в этом странном мире, где время текло по иным законам, где духи не прятались в тени, а смотрели прямо в глаза, где каждый шаг мог стать последним, – здесь начинался её долг. Её путь.
Она сделала шаг вперёд по светящемуся мху.
Не зная куда. Не зная зачем. Но твёрдо зная – должна.
Потому что в этом мире истинная сила заключалась не в остроте меча. Не в громкости крика. Не в холодном железе.
Сила – в выборе. В решении, принятом сердцем и подкреплённом волей.
И она свой выбор уже сделала.
Глава 2. Безвозвратное
Тишина обрушилась на Дарину не как отсутствие звука, а как живая, осязаемая сущность. Она впивалась в уши, давила на виски, заглушая всё, кроме бешеного стука собственного сердца и прерывистого, слишком громкого дыхания. Воздух здесь был густым, словно разогретая смола, и пах сыростью, смешанной со сладковатой гнилью, – будто сама земля дышала на неё ледяным выдохом из глубин Нави. Каждый вдох напоминал: она больше не в Яви. Переход свершился.
Она сидела на корточках, инстинктивно сжимая в охапке двух младенцев. Человеческое дитя, завёрнутое в промокший, грубый посконный плат, и волчий детёныш, уткнувшийся холодным носом в её бок. Оба затихли, измученные и напуганные. Её собственная дрожь, ледяная, исходившая из самого сердца, не унималась. В ушах стоял один-единственный вопрос, отчаянный и детский: «Где я?»
Ответом служили молчаливые исполины-деревья. Их тёмная кора была покрыта затейливыми серебристыми узорами, будто кто-то незримый вырезал их таинственным резцом. Мох под босыми ногами светился мертвенным бледно-голубым сиянием, отбрасывая на всё вокруг призрачные, шевелящиеся тени, – казалось, сама вечная ночь смотрит сквозь них чужими глазами.
Она попыталась встать, но ноги, одеревеневшие от страха и усталости, подкосились. Голод острой судорогой свел живот. Разжав закоченевшие пальцы, она увидела на ладони последнюю горсть ягод, принесённых из своего мира. Кислый сок на языке вспыхнул ярким, почти болезненным воспоминанием: солнце, пригревающее лицо, шелест ржаного поля за околицей, уютный запах дымка, стелющегося из печной трубы её куреня…
Дом. Мать.
А отец… пал два года назад на дальней заставе, отражая набег воинственных балтов. Его тяжёлая секира не спасла от чужого топора. Его больше нет. Никто не придёт за ней. Она осталась совсем одна, за гранью мира.
Слёзы, горячие и солёные, покатились по её грязным щекам. Они упали на светящийся мох – и тут же с шипением испарились, будто не имели никакого права осквернять собой эту землю.
Внезапно волчонок – она уже мысленно, сама не зная почему, назвала его Храпком – поднял голову и тихо, жалобно заскулил, уставившись слепыми глазёнками в пустоту между двумя исполинскими деревьями.
Из зарослей гигантского папоротника, листья которого были размером с лодочное весло, выползло нечто.
Это было не зверь и не дух в человеческом понимании. Существо, словно слепленное из переплетённых корней, клочьев мха и чёрной, влажной земли. Лица у него не было – лишь глубокая впадина, в которой тлели два бледных огонька, похожих на гнилушки, светящиеся в глухую осеннюю ночь. Оно не шло – беззвучно скользило, не касаясь призрачными ступнями земли.
Остановилось в двух шагах. Взглянуло на неё этими ледяными огнями.
И в сознание Дарины, не через уши, а как внезапный удар северного ветра, врезалась чужая, тяжёлая мысль:
«Уйдёшь – смерть. Останешься – смерть. Иди к Воде. Ищи. Плати».
Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. После него в груди остался леденящий холод, а в душе – гулкая, всепоглощающая пустота.
Лес говорил с ней. Не предлагал, не просил – приказывал.
Слёзы хлынули с новой силой – слёзы безысходности, осознания собственного ничтожества перед силами, в чьи владения она вторглась. Они умрут здесь. Все трое. Их кости не найдут, по ним не справят тризну.
Но тут же, сквозь панический страх, в памяти всплыли её собственные слова, произнесённые с последней надеждой у подножия сосны-кольца:
«Душа за душу. Кровь за кровь. Долг за долг».
Она не просто дала обещание духам. Она дала его себе.
Дарина стиснула зубы до хруста. Загнала страх в самую глубь, заставила его замолкнуть. Голод, усталость, отчаяние – всё это было ничто перед долгом, который она добровольно взвалила на свои хрупкие плечи.
Она заставила себя осмотреться, искать знак, подсказку. И увидела: на коре деревьев в ту сторону, куда скрылось существо, рос другой мох – не светящийся, а сочный, изумрудно-зелёный, и на его бархатистых кончиках дрожали крохотные капли чистой влаги. Вода. Жизнь. Путь.
Подобрав детей, прижимая их к себе так, будто они были частицей её собственной плоти, она двинулась вперёд. Один шаг. Второй. Спина ныла от ожидания удара, когтей, неведомой кары – но вокруг по-прежнему стояла лишь всевидящая, безразличная тишина.
Тем временем на той стороне, у самой кромки Яви, в деревне Березовый Бор, царила мрачная, подавленная суета.
Люди с лучинами и смоляными факелами возвращались с третьей за день вылазки. Их плечи были сгорблены не столько от усталости, сколько от бессильной ярости и страха. Поиски не просто не увенчались успехом – лес будто захлопнулся, став глухой, непроницаемой стеной.
Весея, мать Дарины, стояла в стороне от всех, вцепившись побелевшими пальцами в грубый подол своей рубахи. Вдова, проводившая мужа в последний путь к кургану. А теперь – и дочь, её кровиночка, её свет в глазах, пропала в лесу. Лицо Весеи было серым, безжизненным, будто вылепленным из пепла. Никто из родичей не подошёл к ней, не положил руку на плечо. Только холодный ветер с бора обвевал её одинокую, ссутулившуюся фигуру, словно готовя место для нового кургана.
Горе одной семьи горькой струёй вливалось в горе другой. Несколько ночей назад из куреня Светозара и Мирославы похитили новорождённого сына, наследника и продолжателя рода. В горнице осталась лишь пустая зыбка, колышущаяся от сквозняка, да входная дверь, беспомощно хлопающая на ветру. Мирослава не вставала с постели, захлебываясь беззвучными рыданиями. А Светозар, глядя на обезумевшую от горя Весею, чувствовал, как в его душе зреет чёрная, отвратительная догадка: не связаны ли эти две беды в один тугой узел?
– Всё, – прогудел староста Борислав из рода Медведя, тяжело подходя к Весее. Его мозолистая ладонь легла на её плечо – тяжёлая, как надгробный камень. – Больше не найдём. Лес закрылся. Не отдаёт. Прости, Весея. Девочку твою… не вернули. Лес взял свою дань.
– Но… она же там… одна… – прошептала женщина, вглядываясь в непроглядную, чёрную стену леса, где уже начинали плясать зловещие тени. – Моя девочка… одна…
– Не одна, – угрюмо бросил, проходя мимо, один из воинов, опуская окровавленную рогатину. Лицо его было мрачным. – С ней теперь Леший хозяин. Или того хуже, какая навья. Считай – уведённой в Навь. Её больше нет для Яви. Как и того младенца Светозарова…
Светозар, стоявший неподалёку, вздрогнул, будто его ударили плетью по лицу. Пальцы его сами собой сжались на рукояти охотничьего ножа, впиваясь в дерево до побеления костяшек.
– Завтра на заре справим обряд, – сказал Борислав, качнув седой, похожей на камень головой. В его усталых, прозревающих насквозь глазах мелькнула знакомая всем старая боль. – Помянем. Как поминаем всех, кого безвозвратно забрал Лес. И сына твоего, Светозар. И Дарину, дочь Весеину…
Внезапно из чащи, с треском ломаемых сучьев и тяжёлым храпом, вывалился Держикрай, один из лучших следопытов. Лицо его было исполосовано кровоточащими царапинами, а в широко раскрытых глазах стоял дикий, животный ужас.
– Медведь! – выдохнул он, едва переводя дух. – В буреломе, у Чёрного оврага! Шерсть дыбом, пасть в пене! На Станислава кинулся… лапа…
Из темноты за ним появились другие. Двое поддерживали Станислава, юношу из рода Оленя. Лицо его было белее зимнего снега, а на плече и спине зияли глубокие рваные раны, из которых медленно, но неумолимо сочилась алая кровь. За ними, мрачный и неотвратимый, как сама судьба, шёл Всеволод из рода Волка. Его боевой топор был испачкан в бурых, запекшихся пятнах.
– Ушёл, тварь, – коротко, без лишних слов, доложил он Бориславу. – Не в себе был. Не по-осеннему злой, не для жировки. Словно бесом одержим. Ранили – не добили. Ушёл в самую чащобу. Станислава еле оттащили, чуть душу не отдал.
Собравшийся народ загудел, как встревоженный улей. Медведь-шатун в такую пору, да ещё и не по сезону свирепый – хуже любой дурной приметы. Это верный знак гнева лесных сил, знак, что духи отвернулись от деревни.
– Всё! – громовым голосом, перекрывая гул, крикнул Борислав, и в его голосе слышалась не только власть, но и тревога. – Всем в селение! Немедля! Раненого – нести к Малуше-знахарке! Двойную стражу выставить на частокол! И чтобы никто, слышите, никто не смел сунуться в лес до утра! Лес нынче не принимает нас. Он прогневан.
Он развернулся и тяжёлой поступью пошёл к огням деревни, к запаху дыма и хлеба, которые теперь казались такой ненадёжной защитой. Люди, подавленные и напуганные, поплелись за ним, оставляя на опушке лишь тьму и отчаяние. Весея так и осталась стоять на краю пропасти, что зияла меж тёмных стволов.
– Вернись, дочка… – прошептала она в надвигающуюся, ничего не сулящую ночь. Голос её был тих и беспомощен. – Ты у меня одна… последняя…
Но лес молчал, безжалостный и равнодушный к человеческому горю.
А где-то в его непостижимой, чуждой гуще, не слыша мольбы матери, Дарина, дочь Весеи, делала свой первый осознанный шаг к Воде. К выживанию. К своей страшной, но принятой ею достойной судьбе.
Шаг в Безвозвратное.
Глава 3. Кровь за воду
Лес не прощает слабости. Он не злится, не мстит – он просто забирает своё, как река забирает песок с берега. Это его природа, его древний, неумолимый закон.
Дарина шла, прижимая к груди двух беспомощных существ: младенца-человека, чьё имя ещё не было дано на родовом капище, и волчонка, едва успевшего открыть глаза. Её ноги, босые и исполосованные колючим кустарником, оставляли на светящемся мху неясные отпечатки. Но казалось, что следы её оставались не только на земле, но и в самом воздухе Иномирья, будто Лес впитывал её страх, её боль, её усталость, как губка впитывает влагу. Вокруг не было ни привычного дня, ни знакомой ночи – лишь тусклый, мерцающий, словно подводный, свет, что пробивался сквозь непроглядную листву исполинских деревьев. Их стволы были толщиной с крепостную стену, а ветви сплетались над головой в живой, шевелящийся свод. И в этой зелёной гуще двигалось нечто – не птицы, не звери, а духи, чьих названий не знал язык людей Яви.
Она не плакала. Плакать – значило признать себя жертвой. А жертва в этом лесу – лишь корм для ненасытных корней, уходящих в самую преисподнюю Нави.
Во рту пересохло до хруста, язык прилипал к нёбу. Губы, потрескавшиеся и обветренные, сочились солёной кровью, которая медленно стекала по подбородку. Дети постанывали тихо, на грани слуха, словно инстинктивно боялись разбудить что-то древнее, спящее на дне векового оврага. Дарина отдавала себе отчёт: если она не найдёт воды до наступления здешних сумерек, они умрут. А в этом лесу рассвета можно было ждать вечно.
И тогда сквозь оглушительную тишину пробилось журчание.
Тонкое, серебристое, похожее на голос девичий во время обрядового причета на поминках. Оно звало не ушами, а самыми костями, вибрацией, отзывающейся в каждом суставе. Она поплелась на звук, спотыкаясь о корни, похожие на спинные хребты подземных чудовищ, цепляясь рваным подолом рубахи за колючие лианы с листьями цвета старой меди. И наконец увидела его – ручей. Чистый, прозрачный, струящийся меж камней, покрытых изумрудным, бархатным мхом. Но вода в нём не отражала её измождённое лицо. Она мерцала изнутри собственным светом, будто в её глубинах плавали размолотые в пыль звёзды.
Дарина опустилась на колени у самой кромки. Руки её тряслись от слабости и напряжения. Она сложила ладони лодочкой, чтобы зачерпнуть живительной влаги, – и замерла.
Вода была тяжёлой. Не по весу, а по смыслу, по той силе, что исходила от неё. Она пахла озоном после грозы и старым, намоленным камнем, что лежал в центре родового святилища Перуна. Это была не просто вода. Это был сок Мирового Древа, стекающий в жилы Иномирья, кровь самой земли.
Пей, – шептал измученный жаждой разум, готовый на всё ради глотка влаги.
Не пей, – кричало что-то глубинное в сердце, помнящее, что в этом мире ничто не даётся даром и за всё приходится платить.
Воздух над ручьём внезапно задрожал, застыл, словно лёд. И из самой глубины, из водоворота мерцающих струй, поднялась она – Водяница. Не ведьма, не демон, а дух-хранительница источника, чья плоть была соткана из струй, чьи волосы – из длинной тины и речных водорослей, чьи глаза – два чёрных омута, не имеющих дна и не знающих времени. Она не угрожала. Она просто была. Так же естественно, как сама река, как ветер в кронах, как долг, что висел на душе Дарины.
«Моя вода, – прозвучало в голове девочки, голосом подводных течений и шелеста камыша. – Жизнь моя – в ней. Возьмёшь – отдашь. Таков закон. Плати».
«У меня… ничего нет, – выдохнула Дарина, поднимая глаза на духа. Голос её дрожал, но не срывался в плач. Она не просила милостыни. Она лишь констатировала факт, признавая свою нищету перед силой источника.
Взгляд Водяницы, тяжёлый и пронзительный, скользнул по сжатому кулаку девочки. Там, в складках загрубевшей ладони, пряталась последняя ягода черники – сморщенная, почти высохшая, но всё ещё хранящая в себе отголосок лета. Это было последнее, что связывало Дарину с Явью: с солнечным полем за околицей, с тёплым, напевным голосом матери, с ощущением безопасности и дома.
«Всё имеет свою цену, дитя Яви, – прошелестел в её сознании голос духа, похожий на шорох прибрежного тростника. – Память. Голос. Годы, что тебе отпущены. Чувство, что греет душу. Выбирай, что оставить у моего ручья. Или уйди – и умри. Их смерть будет на твоих руках, и твой дух не найдёт покоя в полях Нави».
Дарина закрыла глаза, пытаясь поймать и удержать в себе самое дорогое. Она вспомнила мать – Весею, вдову с руками, вечно пахнущими ржаной мукой и дымом, пекущую лепёшки с толокном и тихо поющую старинные песни под мерный гул прялки. Она вспомнила, как лежала на пригорке за деревней, закрыв глаза, и чувствовала, как летнее солнце пронизывает её всего, до костей, наполняя таким глубинным, таким мирным теплом. Это было не просто воспоминание – это было само ощущение жизни, её суть.
А теперь перед ней, в её руках, бились два сердца. Два хрупких дыхания. Одно – человеческое, другое – зверя. Но оба стали частью её самой.
«Я отдаю… – прошептала она, разжимая пальцы. Тёмный, почти чёрный сок сморщенной ягоды медленно стек по её ладони и упал в мерцающую воду, на мгновение окрасив её в цвет крови, прежде чем раствориться без следа. – Память о тепле солнца на коже. За воду. За их жизни».
Водяница медленно кивнула. В её бездонных глазах мелькнуло не одобрение – признание. Как старейшина рода признаёт правильную, достойную жертву, принесённую на родовом капище.
«Пей», – был её последний, не терпящий возражения приказ.
Дарина снова зачерпнула ладонями. Сначала осторожно влила несколько капель в полуоткрытый ротик младенца. Потом поднесла воду волчонку, и тот жадно принялся лакать тёплую влагу. Затем, наконец, сделала глоток сама. Вода обожгла горло, словно раскалённое железо, но, попав внутрь, разлилась по телу странной силой – чистой, холодной, древней, как сами камни на дне ручья. Туман в голове рассеялся. Дрожь в руках и ногах утихла. Даже всепоглощающий страх отступил – не исчез, но занял отведённое ему место, перестав владеть ею полностью.
Но когда она попыталась сознательно вызвать в памяти то самое чувство солнечного тепла, то обнаружила лишь пустоту. В памяти осталась картинка: она лежит на траве, светит солнце. Но самого ощущения – того, как тепло проникает в кожу, согревает кровь, наполняет мир покоем, – не было. Оно исчезло. Словно его кто-то вырезал острым ножом, оставив лишь бледную, безжизненную тень воспоминания.
По её щекам снова потекли слёзы. Не от горя, не от отчаяния – от холодного, трезвого осознания произошедшего. Она заплатила. И Лес принял плату без скидок и отсрочек.
«Запомни этот закон, дитя, – произнесла Водяница, её тело уже начинало растворяться в струях, становясь частью течения. – Ты теперь в долгу. Всегда. Лес даёт – но лишь в обмен на что-то равноценное. И рано или поздно он потребует главного. Того, без чего ты не мыслишь себя. Твоей сути».
Она исчезла полностью. Остались только вечное журчание ручья и всеобъемлющая, безжалостная тишина Иномирья.
Дарина сидела на холодном мху, автоматически покачивая на руках заснувших, напоённых детей. Волчонок, Храпок, прижимался к её бедру, младенец – к груди, ища защиты и тепла. Она была спасена. Напоена. Силы понемногу возвращались к ней. Но она чувствовала себя обокраденной, обедневшей. Навсегда.
Она больше не была случайной гостьей в этом лесу, забредшим за ягодами ребёнком. Отныне она стала его должницей, связанной с ним прочнее, чем железными цепями.
Глава 4. Старуха у Порога
Дни в деревне, притулившейся у самой кромки дремучего, неласкового леса, сплетались для Весеи в одно сплошное, серое полотно горя. Каждое утро начиналось с немой, привычной уже боли: проснувшись под первый крик петуха за стеной, она на миг забывалась в дреме, и сердце замирало в сладком, обманчивом ожидании. Вот-вот раздастся стук быстрых, лёгких ног по стёсанным половицам, звонкий, как ручеёк, голос прокричит: «Матушка, а солнышко-то уже высоко! Пора!» – но встречала её лишь гнетущая, беспросветная тишина пустой, осиротевшей избы. Руки её, заскорузлые от вечного труда, механически выполняли привычные движения: доили смирную козу Белуху, месили в дубовой деже грубую ржаную муку, пряли на веретене кудель, свивая ровную, прочную нить. Душа же была вывернута наизнанку, не находя утешения даже в этом вековом, успокаивающем ритме.
Раньше этот низкий сруб, пропитанный насквозь душистым запахом печёного хлеба и сушёных у печи трав, звенел, как на праздник Макоши. Теперь каждый скрип половицы отзывался в ней свежей, острой болью. Даже огонь в глинобитном очаге горел как-то иначе – угрюмо, неохотно, словно и его дух покинул вместе с детским смехом.
На колодец или за хворостом в ближний перелесок она выходила, опустив глаза и избегая встречных взглядов. В глазах соседей и родичей из рода Бобра читалось разное: у старых подруг – искренняя, горькая жалость; у воинов, помнивших её мужа, – суровое, молчаливое понимание; а иной раз, краешком зрения, она ловила иное – тайное, постыдное облегчение, что страшная беда обошла стороной их собственный дом. Эти взгляды жгли её сильнее раскалённого железа. Судьба и без того была к ней, овдовевшей, неласкова. Муж, Твердослав из рода Бобра, человек силы редкой и души честной, сложил свою буйную голову на дальней заставе, отбивая лихое нападение балтских наездников. Осталась она одна с малой дочкой на руках, выбиваясь из сил, чтобы поставить дитя на ноги. А теперь Лес отнял и её – последнюю отраду, свет очей своих.
Соседки, встречая у обветшалого плетня, качали головами, суя в руки тёплые лепёшки: «Бедная ты наша, горемычная… Испекла немного, подкрепись, родная…» Но их простая, сердечная жалость лишь глубже вгоняла в душу острое жало одиночества. Слышала она и иное, пролетающее краем уха, в бабьем куте у прясла: «Говорила же покойная Улита… В роду у Бобров неладно с Лесом было… Прадед ихний, слышь, дерево священное подрубил… Может, рок такой на роду положен?» Эти шёпоты, суеверные и несправедливые, ранили, но давали странное, горькое оправдание – будто не просто так, не зря.
Вечер третьего дня выдался особенно тоскливым и промозглым. Холодный осенний дождь отчаянно стучал по тисовой крыше, резкий ветер завывал в щелях сруба, словно голодный навий дух, просящийся в тепло. Весея сидела за грубым дубовым столом, сколоченным когда-то руками Твердослава, и смотрела на пустую лавку напротив, где всегда присаживалась Дарина. Слёзы текли беззвучно, неудержимо, оставляя тёмные, быстро впитывающиеся пятна на шершавой столешнице. В избе стоял густой, почти осязаемый сумрак, но зажечь лучину было невмоготу – свет лишь болезненно подчёркивал пустоту, выгрызающую сердце.
Внезапно собаки на дворе, обычно задорно лаявшие на всякий шорох, не залились тревожным лаем, а жалобно, по-волчьи запищали и разом затихли, будто их прижала к земле и принудила к молчанию невидимая длань. И сквозь шум дождя послышался мерный, негромкий, но настойчивый стук в дверь – словно стучали не кулаком, а старым, увесистым посохом, знающим дорогу через все миры.
Сердце Весеи ёкнуло, замерло на мгновение, а потом забилось с бешеной, дикой силой, требуя ответа. В такую погоду, в такую глухую пору никто не ходил по деревне без смертельной, крайней нужды. Рука сама, помимо воли, потянулась к тяжёлому дубовому засову.
– Кто там? – сипло, почти беззвучно окликнула она, прижимаясь горячим лбом к прохладной, шершавой поверхности двери.
Стук повторился – тот же неторопливый, полный необъяснимой, древней силы, не терпящий отказа. Пальцы её дрогнули. Что-то в этом звуке было не от мира сего, не от мира людей. Медленно, со скрипом, будто движущая камень, отодвинула она массивный засов. Дверь нехотя, вздохнув, поддалась внутрь.
На пороге, окутанная мокрой, непроглядной тьмой, стояла Старуха. Её почти не было видно под широким, ниспадающим складками капюшоном, с которого тонкими струйками струилась дождевая вода. Но Весея всей кожей, каждым нервом почувствовала немыслимый возраст, исходивший от этой согбенной фигуры – не лет, не зим, а целых тысячелетий, тяжёлых, как пласты земли. Воздух в сенях затрепетал, запахло мокрой пылью с дальних, никем не хоженых дорог, прелой листвой из-под первозданных елей и чем-то горьким, терпким, как свежесобранная полынь.
– Войди, с дороги, – прохрипела Весея, отступая вглубь избы и давая путь. Голос её был чужим.
Старуха переступила порог, и дождь с ветром, казалось, остались за её спиной, за невидимой чертой. Она медленно, без суеты, откинула капюшон. Лицо её было изрезано морщинами, глубокими, как трещины на коре старого дуба, но глаза… глаза были светлыми, пронзительными, всевидящими. Они смотрели не на вещи, а сквозь них, прямо в душу, в самую суть.
– Садись к огню, грейся, – негромко сказала Старуха, не дожидаясь приглашения, и опустилась на лавку спиной к порогу, как делают лишь сильные ведуны и кудесники, не боявшиеся ни навьих, ни тёмных духов. Её взгляд, тяжёлый и оценивающий, скользнул по пустому, погружённому в траур дому, по заплаканному, искажённому горем лицу Весеи. – Горюешь, мать? По чаду своему? По кровиночке ненаглядной?
– Ушла, – выдохнула Весея, чувствуя, как подкатывает к горлу знакомый, давящий ком. – В лес… За ягодами поздними… Не вернулась. Лес её забрал. Как и того мальчика, Светозарова…
– Лес никого не забирает силой, – холодно, без тени сочувствия, возразила Старуха. Голос её был скрипуч, как трущиеся друг о друга ветви древней ивы, но полон неоспоримой, безраздельной власти. – Он принимает лишь то, что само к нему пришло. Или то, что ему принадлежит по праву кровному, по праву древнему. Он не вор, не лихой человек, он – хранитель. Строгий и неумолимый.
– Она была моей дочерью! – голос Весеи сорвался на крик, в котором была вся её выстраданная боль, всё отчаяние. – Моей плотью и кровью! Моей!
– Была, – спокойно, будто констатируя факт, согласилась Старуха, и в её словах не было жестокости, лишь безжалостная, как удар топором, правда. – Теперь её плоть – это кора вековых деревьев. Её кровь – это сок, что течёт по их жилам и питает Лес. Она не умерла, дитя. Она стала иной. Для мира людей, для твоего мира, её больше нет.
Весея закрыла лицо натруженными руками, сгорбившись, будто от физического удара. Эти слова были страшнее, чем весть о простой смерти. Они хоронили её дочь заживо, навсегда отлучая от рода, от памяти, от самой возможности упокоиться в родовом кургане.
– Но… – Старуха сделала паузу, и в ней, казалось, повисла не только тишина, но и сама судьба, готовая качнуться в ту или иную сторону. – Есть нить. Одна-единственная. Тонкая, как паутинка в утренней росе. Сможешь ли ухватиться за неё, мать? Хватит ли сил не порвать?
Она медленно, с трудом разгибая узловатые пальцы, протянула руку. Пальцы её были похожи на старые, перекрученные коренья, видевшие начало мира. На иссохшей ладони лежало семя – крупное, неровное, словно выточенное рукой небрежного бога из тёмного, почти чёрного дерева. Сквозь шершавую, потрескавшуюся оболочку проступал серебристый, живой свет, словно внутри была заключена крошечная, пульсирующая луна. Оно было тёплым на ощупь и отдавалось в пальцах лёгкой, ритмичной вибрацией.
– Возьми, – приказала Старуха, и это прозвучало как заклятье. – Посади у порога твоего, где встаёт солнце и падают его первые лучи. Поливай водой из своей собственной, из единственной чаши. Дели с ним свой хлеб, свой обед. Говори с ним, как говорила с ней. Но вот вопрос, мать, главный вопрос: сможешь ли принять её новой? Не девочкой своей, не плотью от плоти, а духом леса, силой древней и чуждой? Или твоё сердце, человеческое сердце, разорвётся от тоски по прошлому, по тому, что было и чего уже не вернуть?
Весея смотрела на мерцающее в полутьме семя, не в силах отвести взгляд. В нём была та же чуждость, что и в самом Лесе, тот же древний ужас, но и надежда – страшная, пугающая, несущая неизвестность, но единственная.
– Что… что из него вырастет? – прошептала она, и голос её был слаб, как у ребёнка.
– Мост, – без малейших колебаний ответила Старуха. – Мост меж мирами. Меж Явью и Навью. Или… могильный камень. Над последней твоей надеждой. Всё зависит от тебя. От силы твоего сердца.
Она бережно положила тёплое семя на стол, прямо перед Весеей, поднялась с лавки с неожиданной, кошачьей лёгкостью и так же беззвучно направилась к двери. На пороге обернулась в последний раз, и её зимние, светлые глаза, будто два осколка льда, пронзили Весею насквозь.
– Она зовёт тебя. Тихо, без голоса, одной лишь мыслью. Дерево услышит. Если сумеешь услышать ты.
Дверь закрылась за ней бесшумно, не оставив и следа своего прихода. Весея осталась одна в полумраке, перед таинственным, пугающим даром. Внутри её бушевала жестокая борьба. Страх и надежда, отчаяние и упрямая воля к жизни сцепились в смертельной схватке. Посадить это нечто? Принять в свою и без того полную горя жизнь ещё больше магии, чуждости, неизвестности? Или выбросить его в ночь, вырвать с корнем саму память и пытаться забыть, продолжать существовать, как пустая оболочка?
Она не знала, сколько просидела так, не двигаясь, глядя на пульсирующий в такт её собственному сердцу кусочек иного мира. Но из глубин памяти, сквозь пелену горя, стали всплывать живые, яркие, до боли знакомые образы: смуглое, веснушчатое личико дочери, её живые, словно два уголька, глаза, её звонкий, заливистый смех, когда она бегала босиком по двору, поднимая куриный переполох… Живая. Настоящая. Её девочка.
И решение пришло само собой – ясное, твёрдое, выстраданное. Судьба, будто насмехаясь, бросила ей вызов, и она, мать, принимала его. Она была матерью, а матери не сдаются, даже если шансов нет вовсе.
Твёрдой, не дрогнувшей рукой схватив заскорузлый деревянный заступ, она вышла в промозглую, промокшую насквозь ночь. У самого порога своей избы, там, где утром должны были упасть первые, косые лучи осеннего солнца, она с силой, рождённой отчаянием, вонзила железо в чёрную, напитанную влагой землю. Пальцы её дрожали, но не от страха, а от странной, новой решимости, когда она опускала в небольшую ямку тот тёплый, светящийся груз – свою надежду и свою тоску, сплетённые воедино. Присыпала землёй, аккуратно, бережно, и похлопала ладонью, как укладывая спать родное дитя.
– Возвращайся, дочка, – прошептала она, и горячие, солёные слёзы смешивались с холодной дождевой водой, уходя вместе с надеждой в чёрную, принимающую землю. – Какой бы ты ни стала… какой бы ни была… Возвращайся. Я жду. Я всегда буду ждать.
Ничего не произошло. Ночь оставалась такой же холодной, безмолвной и равнодушной. Усталая, промокшая до костей, но с новым, твёрдым, как кремень, чувством внутри, Весея рухнула на свою одинокую постель, провалившись в тяжёлое, безрадостное забытьё.
А под окном, в сырой, принимающей земле, семя уже тихо пульсировало, словно второе, нарождающееся сердце, в такт её разбитому, но не сломленному окончательно сердцу. Тонкие, невидимые глазу, белые, как снег, ростки уже протягивались вглубь, в холодную мглу, начиная свой долгий, непостижимый путь в самую глубь Иного Леса – на поиски той единственной души, что была для него путеводной звездой. Чтобы стать мостом. Мостом домой.
Глава 5. Обет у Древа
Иной Лес не ведал ни дня, ни ночи, как их понимают люди Яви. Время текло здесь иначе – его мерой было медленное мерцание мхов, поворот гигантских, похожих на кувшинки цветов к невидимому источнику света и глухой, низкий гул, поднимающийся из самых недр земли, будто сама планета дышала во сне. Дарина давно потеряла счёт шагам, привалам, сменам состояний. Она шла, ведомая не разумом и не зрением, а внутренним зовом – той самой серебристой нитью судьбы, что исходила от человеческого младенца и неумолимо вела её в самую глубь чащи. Двое детей на её руках спали глубоким сном, покорённые магической, подавляющей тишиной этого места. Их дыхание было ровным, глаза плотно закрыты. Казалось, Лес не просто усыпил их, но принял, признал пока что молчаливо.
Вокруг постоянно менялся облик Леса, будто он не имел постоянной формы. Сперва это были заросли светящихся грибов, отливавших перламутром стволы призрачных берёз, туманы, что не просто висели в воздухе, а тихо пели, словно хор далёких предков. Потом пейзаж сменился на исполинский. Дубы, сосны, ясени, чьи стволы были толще крепостных ворот родной деревни, а их кроны терялись в вечной, переливающейся дымке, что заменяла в этом мире небо. Воздух здесь пах живительной смолой, прелой, вековой корой и чем-то невыразимо древним – как в заброшенном святилище, куда не ступала нога человека сотни зим.
И всё это время, через все метаморфозы пейзажа, незримая нить вела её вперёд, не давая сбиться.
Наконец, чаща неожиданно расступилась, и она вышла на поляну.
Она была идеально круглой, как щит богатыря, и абсолютно пустой, как жертвенная чаша перед приношением духам.
И в центре этого круга стояло Оно. Древо.
Не дерево. Не дуб, не ясень. Именно Древо – мировая ось, корень всех времён, немой хранитель границ между мирами. Его ствол был чёрным, как ночь перед великой грозой, испещрённым глубокими трещинами, похожими на морщины, хранящие память тысячелетий. Ветви его, каждая толще векового дерева, казалось, не просто росли ввысь, а физически поддерживали небесный свод этого Иного мира. От него исходило молчание – густое, осязаемое, как сама земля, и безмолвная мощь, от которой ныли и дрожали кости.
Дарина, не в силах выдержать тяжесть этого взгляда, опустилась на колени. Осторожно, бережно положила детей на мох у самых корней – мох был необычайно мягким, как заячий пух, и на удивление тёплым, словно живое, дышащее тело. Мальчик, которого она мысленно назвала Ведарем, спал спокойно, его личико было безмятежным. Волчонок же, её Храпок, чуть вздрагивал во сне, будто слышал что-то, лежащее за гранью обычного слуха.
«Что теперь?» – пронеслось в её голове, чисто по-человечески.
Она их спасла. Вынесла из погони. Принесла сюда, в самое сердце силы. А что дальше? Как жить? Как защищать?
И вдруг, будто в ответ, вспомнились слова Водяницы, вложенные ей прямо в душу у ручья с мерцающей водой:
«Лес даёт. Но лишь в обмен. Ты в долгу. Всегда.»
Да. Она в долгу. За их спасение. За указанный путь. За то, что Лес не сглотнул их, как мух, а позволил дойти.
Чтобы остаться здесь. Чтобы защитить их. Чтобы вырастить – ей нужна сила. Не чужая, а своя.
Не меч, не заклятие, не уловка. А право. Право находиться здесь, право называть их своими, право быть их матерью и щитом.
Она не знала сложных обрядов, не умела читать витиеватые заговоры, как деревенские ведуньи. Но она знала язык крови. Знало чувство долга. Знала суть жертвы.
Разорвав подол своей простой домотканой рубахи, она обнажила ладонь. Нашла среди мха острый камень – чёрный, как ночной уголь, с зазубренным, режущим краем. Сжала зубы, собрав всю волю. Резко, без колебаний провела им по коже.
Кровь выступила мгновенно – тёплая, алая, словно капля живого огня.
Она прижала окровавленную ладонь к шершавой, древней коре Древа.
– Внемли мне, – прошептала она, и её шёпот был громче любого крика в этой тишине. – Хранитель. Дедушко-Лес. Я – Дарина, дочь Твердослава, из рода Бобра. Принесла тебе чужих детей, отнятых у смерти. Не ради славы. Не ради власти над тобой. Ради жизни. Они – мои теперь. Моя кровь. Моя боль. Моя клятва.
Она замолчала, давая словам просочиться в толщу древесины. Глотнула воздуха, тяжёлого, как вода на дне глубокого омута.
– Бери мою прежнюю жизнь. Все дороги, что вели назад, в мир людей. Все зори, что я могла бы встретить в своей деревне. Все песни, что не успела спеть у очага. Всё, что было девочкой Дариной, – тебе. В обмен… – голос её окреп, в нём зазвучала сталь, – дай мне стать их стражем. Их матерью. Частью тебя. Даруй мне силу и право стоять здесь!
Она не просила. Она давала обет. Скрепляла его собственной кровью.
Ответ пришёл не словом, не звуком – целой волной видений, хлынувших в её сознание.
Тепло, идущее из самой глубины коры, разлилось по её руке, перешло на грудь, ударило в виски. Перед её внутренним взором, сменяя друг друга, вспыхнули и поплыли образы:
Исконные.
Существа без лица, без постоянной формы, рождённые в безвременье, ещё до первых слов богов и имён стихий. Они спят вечным сном под сетевидными корнями Древа, в самых тёмных углах Нави, но их сны – чистейший яд для мира Яви. Их дыхание – разлагающая гниль. Они жаждут вырваться на волю, чтобы испепелить, сжечь дотла мир людей, как пожар выжигает сухую траву. Они – первозданный хаос, против которого Древо воздвигло себя стеной.
Стражи.
Люди. Не духи, не демоны. Плоть и кровь – из сильных родов Волка, Медведя, Рыси, Ворона. Они пришли сюда добровольно, в разные времена, когда трещина между мирами начинала рваться и угрожала гибелью всему живому. Они отдали свою свободу. Отдали человеческий облик. Отдали возможность жить, любить, умирать в мире людей.
В обмен Древо, признав их жертву, слило их души с тотемом их рода. Воин из рода Волка стал Праволком – зверем ярости и молчания, чья скорость не знает равных. Воин из рода Медведя стал Медведегигантом, чьи лапы ломают скалы, а рёв обращает в бегство самих Исконных. Они не оборотни, не проклятые. Они – живое, страдающее, но несгибаемое оружие Леса.
Их долг – вечно стоять у провалов, тонких мест, где дышат и шевелятся Исконные. Сдерживать их напор. Гасить их выбросы. Умирать – и силой Древа вставать вновь, чтобы занять своё место в строю.
Их цена – вечное заточение в Ином Лесу. Ни шагу за его пределы. Ни единого взгляда на родную землю, на лица оставленных жён и детей.
Дарина всё поняла.
Тот воин из рода Оленя у опушки – не слепой враг. Он – страж внешнего рубежа, первая линия обороны. Он видел в волчице, несущей младенца, лишь угрозу: живую, чужую душу, что по незнанию могла привести прямиком в пасть Исконных, вскрыв проход. Он не знал её жертвы, её отчаянной любви. Он действовал по своему суровому долгу. Его жестокость – не злоба, а холодный, выстраданный страх за весь мир Яви.
И теперь, принеся сюда свою кровь и свою волю, она – часть этой вечной, незримой войны.
Когда волна видений отхлынула, Дарина медленно открыла глаза.
Мир вокруг стал иным – тем же, но пронизанным миллионами новых смыслов. Она видела пульс жизни в каждом шевелящемся листе, в каждом лежащем камне. Чувствовала медленное, величественное дыхание самого Древа – глухое, подземное, но неумолимое, как ход времени. И осознала тяжесть принятого долга – он легла на её плечи, как железный, не снимаемый обруч.
Из тени, отбрасываемой массивными корнями, вышла Стрибога.
Старуха, похожая на высохший корень, опиралась на посох из причудливо изогнутой ветви ольхи. Её глаза – светлые, прозрачные, как лёд на реке в ясное утро после сильного мороза – смотрели на Дарину без удивления, без одобрения. Лишь с глубокой, древней печалью.
– Ну что ж, – сказала она, и её голос был сух, как потрескавшаяся кора в летний зной. – Видела? Знаешь теперь, в какую игру, в какую битву ввязалась по своей воле. Не в дочки-матери играть будешь здесь, девочка. Ты совершила. Отдала – и приобрела. Отныне ты – не гостья, не путница. Ты – приёмная дочь Леса. Хранительница чащ. Воин в войне, которой не видит никто из твоего бывшего рода.
Она кивнула на спящих детей.
– Но им, при всём твоём желании, не место здесь, у самых ран мира, у подножия Древа. Человеческое чадо, Ведарь, не вынесет близкой силы Исконных. Его душа сгинет – или, что страшнее, станет проводником для них в мир Яви. Волчий детёныш, Храпок, одичает до полного безумия, станет исчадием, что будет нести смерть и самому Лесу.
Дарина инстинктивно прижала детей к груди. В её глазах, уже видевших будущее, вспыхнула знакомая, человеческая боль.
– Не отниму, – сказала Стрибога, прочитав её мысль, как открытую книгу. – Но вырастить их здесь, в эпицентре бури, – значит погубить в зародыше. Им нужно пограничье. Место, где миры сходятся, но ещё не смешиваются. Где воздух Яви ещё не успел стать густым от дыхания вечной битвы.
Она указала узловатым посохом куда-то на север, в сторону, где деревья стояли чуть реже.
– Моя изба стоит на самой меже. На самом краю Иного. Я выращу их. Научу мальца – Ведаря – чувствовать пульс Леса под ногами, видеть суть вещей за пеленой видимого, помнить обеты и знать цену слова. Волчонка – Храпка – научу слушать голоса Леса, знать все тропы, быть тенью, когтем и зубами для тех, кто посягнёт на его мир.
А ты… – Стрибога посмотрела прямо в глаза Дарине, и её взгляд стал тяжёлым, как свинец. – Ты теперь кровью связана с Древом. Твой путь лежит не на окраине, а в самой глубине. Учись чувствовать биение этой войны в каждой травинке, в каждом клочке земли. Впитывай силу Леса. И когда придёт твой час – а он придёт непременно – встань в строй Стражей. Займи своё место.
Дарина молчала, переваривая сказанное. Её сердце, ещё не до конца остывшее от человечности, рвалось на части. Она только что, ценою всей прежней жизни, обрела их, признала своими… И вот уже должна отдать?
Но её разум – уже не девичий, не крестьянский, а разум стража, воина – понимал железную логику происходящего. Это был не просто вариант, не один из путей. Это был единственный способ сохранить им жизнь и дать будущее.
Она поднялась с колен. Её движения, ещё недавно такие угловатые и усталые, стали плавными, грациозными, как у лесного зверя, знающего каждую кочку на своей территории. Взгляд, устремлённый на Стрибогу, стал твёрдым, непоколебимым, как отполированный водой речной камень.
Она наклонилась и поцеловала мальчика в лоб, ощутив тепло его кожи. Потом – волчонка, почувствовав шершавость его шёрстки.
– Растите сильными, – прошептала она, и в голосе её не было дрожи, лишь тихая, стальная уверенность. – Растите мудрыми. Мы встретимся. Обязательно. Я – часть Леса теперь. А вы – часть меня. Самая главная.
И она передала детей – сначала спящего Ведаря, потом вздрагивающего Храпка – в руки Стрибоги.
Старуха взяла их на руки легко, будто это были не живые существа, а пушинки, невесомые и хрупкие.
– Время здесь течёт иначе, – сказала она, глядя поверх головы Дарины в глубь леса. – Для них, на меже, пройдут годы. Для тебя, у Древа, – может, миг, а может, и целая вечность. Встретимся, когда придёт срок. Твой и их. А пока – слушай Лес. Расти. Будь готова. Война не спит.
И, не прощаясь, развернулась и ушла. Не в чащу, а в саму тень, отбрасываемую Древом, и растворилась в ней, как утренний туман растворяется под лучами восходящего солнца.
Дарина осталась одна у подножия Мирового Древа.
Но одиночество больше не давило на неё, не пугало своей безысходностью. Оно стало другой субстанцией – пустотой перед решающей битвой, чистой, собранной, напряжённой, готовой в любой миг принять на себя удар судьбы.
Она вновь приложила ладонь, уже затянувшуюся тонкой розовой плёнкой, к шершавой коре Древа.
– Что теперь? – спросила она мыслью, уже зная, что будет ответ.
Древо ответило ей не словом, а последним, завершающим видением:
Она видела саму себя – но не девочку, а взрослую, могучую женщину, с кожей, отливающей цветом весенней листвы, с глазами, полными мудрости и боли, с волосами, сплетёнными из живого плюща и древесных побегов. Она стоит, недвижимая, как скала, на страже у чёрного, дышащего зловещим светом провала в самой глухой чащобе. Рядом с ней, как тени, замерли фигуры Праволков и Медведегигантов. Она – не человек и не зверь. Она – Древень. Новый, но полноправный страж. И её место – здесь.
Её путь только начинался.
Путь длиною в вечность.
Путь войны, ставшей её судьбой.
Глава 6. Первое Посещение
Три дня.
Три дня, густых и тягучих, как дёготь после выжигания смолы, прошли для Весеи в едином сплошном бдении. Сон не шёл – лишь короткие провалы в чёрную бездну, откуда она выныривала с криком, хватаясь за пустоту. Питалась она глотками воды из деревянного ковша и краюхой черствого хлеба, оставленного Гостеной у порога. Но даже хлеб, обычно пахнущий солнцем и житом, казался ей безвкусным прахом. Живот не болел от голода – боль сидела выше, в самой груди, где сердце билось не в такт смене дня и ночи, а в такт одному лишь ожиданию.
Каждую ночь, едва луна поднималась над чёрными кронами, Весея вскакивала. Крик филина на тёсовой крыше, шорох лисы в овраге, даже шелест крыльев летучей мыши у слухового окна – всё казалось ей шагами дочери. Она бежала к двери, рука дрожала на дубовом засове… Но за дверью – лишь осенний ветер и непроглядный мрак.
С первыми проблесками зари, едва небо начинало тлеть свинцовым светом, она выбегала на крыльцо. Не надеясь. Не веря. Но нуждаясь в этом, как в глотке воздуха. Глаза её, впавшие и воспалённые от слёз, впивались в тот самый клочок земли у порога – влажный, чёрный, безмолвный. Ни ростка. Ни трещины. Ни намёка на обещанную жизнь. Лишь комья холодной, слежавшейся глины, к которым прилипли жухлые былинки.
Сомнения, чёрные и липкие, как мох на болотной кочке, точили её изнутри, подтачивая последние силы.
Не помрачился ли разум от горя? Не наслала ли Старуха, явившаяся в ту ночь, морок – злую, изощрённую насмешку, дабы усугубить и без того всепоглощающую тоску? А может, семя и впрямь помирает в земле, отвергнутое духами за её маловерие, за её слабость?
Она прислонялась горячим лбом к прохладному, шершавому косяку и плакала – беззвучно, как плачут матери, чьи дети ушли в Иной мир, куда не ступить живой ноге.
Соседи замечали. Гостена, приносящая похлёбку в глиняном горшке, качала головой у колодца, переговариваясь с другими женщинами:
– Совсем Весея из ума выжила, горюша наша. Целыми днями у порога сидит, на землю смотрит, словно клад ищет. И мужа-то доброго, Твердослава, потеряла, и дитя… Не вынести ей одной такой доли. Сердце не камень.
Мужики, проходя мимо её избы с топорами на плечах, крестились – не христианским крестом, нет, а древним, искони вечным знаком Чура, ограждая себя от чужого горя, – и спешили по своим делам. Не зная, как утешить вдову, чья потеря была безмерна и непонятна им. Обычное утешение – для тех, кто потерял тело, кого можно оплакать и предать земле. А Весея потеряла душу – ту, что была ей продолжением, смыслом и светом.
Она слышала их шёпот сквозь толщу собственного отчаяния. Но не обижалась. Люди всегда боятся того, чего не понимают. А Лес – не для понимания. Он – для принятия. Или отвержения.
Вспоминала она Твердослава. Его сильные, жилистые руки, что рубили лес и ласкали её волосы. Его ясный, прямой взгляд, что видел сквозь слова, в самую суть.
«Что бы ты сделал, милый?» – мысленно взывала она к нему, к его тени, что, казалось, всё ещё витала в этом срубе. «Ты бы не сомневался. Ты бы верил. До конца.»
Вспоминала его гибель – изрубленное тело, привезённое с дальней заставы на щите, сколоченном на скорую руку из дубовых щепок. Свою немую, ушедшую внутрь печаль тогда. Тогда её держала на этом свете, не давала последовать за ним маленькая Дарина – с глазами, как у отца, ясными и смелыми, и с заразительным смехом, как звон лесного ручья. Теперь не стало и её.
На четвёртое утро небо не зажглось – оно проснулось тяжёлым и серым.
Серый, безнадёжный рассвет, как будто сам Чернобог устал от человеческой боли. Весея вышла на крыльцо, почти не надеясь, движимая лишь привычкой отчаяния. В груди – ледяная пустота. Во всём теле – усталость, тяжёлая, как мельничный жёрнов. Она даже не смотрела вниз – боялась, что не вынесет очередного удара.
Но воздух изменился.
Он стал гуще. Слаще. Пах озоном после далёкой грозы и цветочным мёдом, что капал с диких сот в потаённом святилище Макоши. И – тихий звон. Не колокольчик, не бронзовый оберег. А голос. Высокий, чистый, звенящий, как первый луч весеннего солнца, пробивающийся сквозь лёд.
Она медленно, почти против воли, опустила глаза.
На месте той самой ямки стояло Деревце.
Высотой ей по пояс. Оно не было похоже ни на берёзу, ни на осину, ни на дуб из окрестных лесов. Стройный, гибкий ствол его был цвета тусклого, благородного серебра, будто выточен из самого лунного света и отполирован бесчисленными прикосновениями ветра до матового, внутреннего свечения. Редкие листья, больше смахивающие на лепестки диковинных, неземных цветов, отливали живым перламутром и были нежно сложены, словно крылья спящих ночных мотыльков.
От него исходил тот самый внутренний свет, в котором медленно, словно в танце, кружились золотистые пылинки – не простая пыль, а живые, трепетные искры силы.
Сердце Весеи бешено заколотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Медленно, боясь спугнуть мимолётное, хрупкое видение, опустилась она на колени на холодную, влажную землю. Не чувствуя ни холода, ни промозглой сырости.
– Доченька? – прошептала она, и голос её сорвался в детский, беспомощный шёпот. – Родная моя… Это… ты?
Ветерок не шелестел листьями. Воздух вокруг деревца замер, натянулся, как тетива туго натянутого лука перед смертоносным выстрелом.
И тогда в самой его сердцевине, в самой гуще света, тот самый свет сгустился, заиграл всеми цветами радуги и стал медленно обретать форму. Словно сквозь толщу струящейся, искрящейся воды, увидела Весея смутный, колеблющийся силуэт.
Очертания проступили чётче, обретая плоть из света и тени. Вот длинные, спутанные пряди волос, знакомые до боли. Вот бледное, исхудавшее лицо с резко очерченными скулами. Вот большие, широко раскрытые глаза, в которых плескался тот же немой ужас и бездонная тоска.
Дарина.
Стояла она, точь-в-точь как в день исчезновения, в той же запачканной землёй и хвоей домотканой рубахе, но вся состояла из дрожащего, мерцающего света – словно отражение в треснувшем зеркале, вот-вот готовое рассыпаться.
Смотрела она на мать, и в её глазах читался немой, животный вопрос, смешанный с изумлением и бесконечной, щемящей тоской по дому.
– Мама? – донеслось до Весеи. Голос был тонким, эховым, отдалённым, будто долетал из-под толщи вод или из самой глубины земли.
С рыданием, в котором смешалась вся накопившаяся боль, отчаяние и безумная, невероятная радость, протянула Весея руку, чтобы коснуться щеки дочери, ощутить под пальцами родную плоть.
Но пальцы её, шершавые от бесконечной работы, не встретили ничего, кроме прохладного, упругого, пульсирующего незримой силой воздуха. Они прошли сквозь сияющее видение, лишь слегка исказив его, словно провела рукой по поверхности воды, оставив рябь на отражении.
Не могли они коснуться друг друга. Разделяла их непостижимая толща миров, законов, иной сущности бытия.
Подняла и Дарина свою полупрозрачную, светящуюся ладонь. Совпали их руки в воздухе, почти слились в очертаниях, но плоть не встретила плоть.
– Я… я не могу, – дрогнул голос Дарины, и в нём послышались слёзы. – Я здесь, мама, я тут, но меня нет. Это дерево… оно как оконце. Маленькое, хрупкое. Могу я смотреть, видеть тебя, слышать… но войти не могу. Я по эту сторону. Я в Ином.
– Где ты? Что с тобой? Жива ли? – засыпала её вопросами Весея, смахивая ладонью слёзы, что ручьями текли по её исхудавшим, впавшим щекам.
– Я… жива. Цела. Но не там, где ты, мама. В Лесу я. В Ином. Туда, куда меня привела волчица, спасая детёнышей… – с усилием, подбирая слова, говорила Дарина. – Приняло меня Древо, великое и мудрое, что стоит в сердце чащи. Даёт оно мне силу, кормит меня соками земли, оберегает от тёмных сущностей.
Сделала она паузу, и глаза её потемнели – не от страха, а от тяжести нового знания, что легло на её юные плечи.
– Со мной дети. Малыш-человечек и волчонок. Живы они, целы. Мы… мы просто в другом месте. В мире, что существует рядом, но отдельно.
Слушала Весея, и тяжёлый, давящий камень с души её медленно сваливался, сменяясь новой, странной и не менее гнетущей тревогой. Жива была дочь её. Не сгинула в пасти зверя, не умерла от голода. Но заточена. Стала частью чужого, непонятного, пугающего мира. Не мёртвой была она, но и не живой в привычном, человеческом смысле. Потеряна для рода, для мира Яви.
– Вытащу тебя я! – с прежним, яростным материнским запалом воскликнула она, вскакивая на ноги. – Соберу людей, родичей, придём с топорами и огнём, вырубим этот проклятый лес до последней травинки! Вырвем тебя оттуда!
Лицо Дарины исказилось гримасой чистого, неподдельного страха.
– Нет! Мама, нет, ни в коем случае! Ничего не понимаешь ты! Сюда, в эту чащу, нельзя с железом и огнём! Другие здесь законы! Железо режет саму жизнь этого места! Приняли меня здесь, дали приют. Но вас – всех, кто придёт с шумом и гневом, – поглотят. Или сломают, исказят. Не вытащишь меня так. Погубишь лишь себя и других. Услышь меня!
Она умолкла , переводя дух. И появилась в её призрачных, но живых глазах твёрдая, не по годам взрослая, суровая мудрость.
– Дерево это… наш мост. Хрупкий он, как первая осенняя паутинка. Держится на силе любви твоей и тоски моей. Разрушить его можно – дурным словом, чёрным помыслом, ударом топора… Ищут его уже те, кому не нужна связь меж мирами, кому выгодна тьма и раздор.
Смотрела Весея на сияющий, ненастоящий образ дочери, и дошло до неё наконец. Страшное, неизбежное, горькое понимание.
Не в плену была девочка её. В изгнании. В добровольном заточении, принятом ради долга или спасения. И долг её материнский теперь – не спасать её ценой собственной и чужой жизни, а… принимать. Быть якорем. Единственной нитью, связывающей дочь с землёй родной, с миром живых.
– Что… что же мне делать? – спросила она, и был в голосе её уже не испуг, не паника, а покорная, выстраданная решимость.
– Говори со мной, – тихо, но чётко ответила Дарина. Мерцать начал её образ, расплываться по краям, как рисунок на мокром песке. – Говори с деревом. Как говорила со мной. Рассказывай о дожде, о хлебе, о самых малых мелочах. Слышать буду. Сквозь кору, сквозь землю, сквозь границу миров… Слышать буду. И приходить я буду, когда смогу. Это… всё, что можем мы сейчас. Всё, что дозволено.
– Буду, – выдохнула Весея, и была в этих двух простых словах клятва, крепче любой железной. – Ждать буду. Говорить буду. Каждый день.
Слабо, едва заметно улыбнулась Дарина, и была улыбка её похожа на трепетный, неуверенный отсвет солнца на закопчённой стене избы.
– Зовут они. Пора… Прощай, мама… Береги себя… Помни…
Дрогнул образ её, задрожал и рассыпался на мириады сверкающих, как алмазная крошка, пылинок, растворившихся в свежем утреннем воздухе.
Стояло Деревце на своём месте, лишь слегка, почти неуловимо покачивая перламутровыми листьями, будто в такт уходящему эху.
Осталась Весея сидеть на холодной земле. Но одиночество её более не было безнадёжным, всепоглощающим. Появилась в нём странная, выстраданная, тихая цель. Стояние. Ежедневное, неуклонное, терпеливое стояние на страже у моста между мирами.
Поднялась она, зашла в прохладную, тёмную избу и вынесла оттуда деревянный, почерневший от времени ковш с чистой водой из родника. Осторожно, с бесконечной, почти священной нежностью, полила она землю у корней серебристого деревца.
– Расти, доченька, – прошептала она, и звучал в голосе её уже не разрывной боль, а печаль тихая, светлая, принятая. – Расти крепкой. С тобой я. Всегда.
Слёз более не было. Их место заняла воля.
Но в тот же день, когда солнце стало клониться к закату, окрашивая небо в багряные тона, Весея принесла из старого сундука кусок небелёной холстины – ту, что берегла и шила на новую рубаху Твердославу. Разостлала её у корней, как праздничный ковёр. Принесла глиняную чашу с остатками ржаного хлеба. Поставила рядом берестяную, расписную коробку с сушёной малиной – любимой когда-то ягодой Дарины.
– Вот, доченька, – сказала она, садясь на корточки прямо на землю. – Хлеб наш, ржаной, с твоего поля. Ягода – с лета, с нашего леса. Вода – из родника, что у оврага. Всё, что есть. Делим, как делили всегда.
И начала рассказывать. Просто, без прикрас.
О том, как коза Милка утром опрокинула ведро с молоком. Как петух Буян на крыше дрался с наглой вороной. Как вчера шёл долгий дождь, и капли ровно стучали по тёсу, как пальцы по барабану. О том, как вспомнила, как Дарина, совсем крошкой, впервые пошла – споткнулась о порог, упала, но не заплакала, а засмеялась.
Говорила она тихо, без пафоса, без надрыва. Просто – как с живой, находящейся рядом.
И вдруг – листья деревца шевельнулись.
Не от ветра, которого не было. Самостоятельно. Медленно, плавно, как кивок.
Весея замолчала на полуслове. Сердце её замерло в груди.
Потом губы её тронула улыбка – первая за эти три долгих дня.
– Слышала, – прошептала она с безмерным облегчением. – Знаю. Чувствую.
С тех пор каждый её день приобрёл черты священного обряда.
Утром – чистая вода из родника для полива. Днём – хлеб, ягода, иногда – кусок варёной репы или горсть орехов. Вечером – неторопливый, душевный рассказ. О погоде. О соседях. О снах, что снились. О том, как она скучает.
Иногда – просто молчание. Она сидела на своей холстине, глядя на серебристый ствол, чувствуя под ладонью, прижатой к земле, лёгкий, едва уловимый пульс, что шёл из самых корней.
Люди постепенно отвыкли от неё, оставили в покое. Гостена перестала приносить похлёбку – не из злобы или равнодушия, а из смутного, неосознанного уважения. Поняла, видимо: Весея не сошла с ума. Она вступила в иной круг, в иную долю, недоступную простому пониманию.
Однажды старый, седой как лунь волхв из соседнего селения, проходя мимо с посохом, покрытым рунами, остановился. Вгляделся в Деревце пристальным, острым взглядом. Поклонился ему в пояс – не Весее, а самому Древу.
– Храни тебя Мать-Сыра Земля, – сказал он ей, поворачиваясь. – И Дедушко-Лес. Ты теперь – на страже. Не забывай: мост меж мирами держится не только силой любви. Но и силой молчания. Не болтай о нём. Не зови чужих, праздных глаз.
Весея лишь кивнула в ответ. Больше не нуждалась в посторонних словах. Её диалог был с деревом.
Прошла неделя. Потом – ещё одна.
Деревце росло медленно, почти незаметно для глаза, но неуклонно. Ствол его крепчал, становился более рельефным. Листья – густели, наливаясь внутренним светом. Иногда, в глубокой тишине ночи, Весея, прислушиваясь, слышала тихий, мелодичный напев – не голос, а вибрацию, что шла из-под земли, от самых корней.
Однажды утром она обнаружила у подножия ствола нежный, хрупкий цветок.
Не простой, не луговой. Не ландыш и не лесной колокольчик. Цветок с лепестками, прозрачными, как капли утренней росы, и с сердцевиной, что слабо светилась изнутри, как тлеющие угольки в очаге.
Она не тронула его, не сорвала. Просто села рядом на свою холстину и сказала тихо:
– Красивый. Как ты. Такой же нежный.
И в тот же вечер Дарина пришла вновь.
Не полностью, не во весь рост. Лишь её лицо – отражённое в самой сердцевине того цветка. Глаза – большие, уставшие, но спокойные, нашедшие покой.
– Мама… – прошелестело в голове Весеи, не через уши, а прямо в душу.
– Я здесь, – так же мысленно ответила она. – Всегда. Рядом.
– Спасибо… за хлеб. За твои слова. За то, что не бросила, не отреклась.
– Как можно бросить своё собственное сердце? – отозвалась Весея.
Дарина улыбнулась своей призрачной улыбкой – и образ её растаял, впитался обратно в светящуюся сердцевину.
Но цветок остался. И с тех пор цвёл каждый день, не увядая.
Весея окончательно поняла: это – не возвращение прошлого. Это – зарождение новой жизни. Не той, что была. Но единственно возможной теперь.
Она больше не ждала чуда. Она сама, каждым своим словом, каждым глотком воды, каждой минутой молчаливого стояния, творила его – день за днём.
Её сила – не в мече. Не в громком крике. А в выборе. В том выборе, что она сделала, опуская семя в землю.
Выборе принять. Принять новую суть дочери. Принять свою новую долю.
И стоять. Непоколебимо.
Даже если весь мир забудет, отвернётся, перестанет понимать – она будет стоять у порога своей избы, на том месте, где миры сходятся, соприкасаются, где тонкая граница стала чуть проницаемой.
Мать. Страж. Живой якорь.
Глава 7. Приёмный Сын Путницы
Хижина Старухи-Путницы вросла в землю на самом острие мира – там, где бытие Яви истончалось, как стынущая кожица на парном молоке, обнажая изнанку Нави. Это было не место, а состояние – зыбкая грань, тончайшая перепонка, что отделяла знакомый шум деревни от вечного, бездонного гула Чащи. Воздух здесь был густым, тяжёлым, словно напоённым дрожжами иного бытия; он звенел в ушах неумолчным высоким звуком, похожим на напряжение тетивы перед выстрелом. Сюда не долетали ни звон топоров, ни запахи печёного хлеба – лишь холодное дыхание прели, хвои и влажного камня. Свет, пробивавшийся сквозь частокол исполинских елей, лежал на земле призрачными, косыми лучами, окрашивая мир в зыбкие, потусторонние тона.
Именно сюда, завернув в грубый, пропахший дымом и пылью дорог плащ из волчьей шкуры, Стрибога принесла двух существ – мальчика Ведаря и слепого ещё волчонка. Младенец не плакал. Он лежал, уставившись в потолок из сведённых кореньями, огромными, не по-детски ясными глазами цвета грозового неба, словно прислушивался к тайной музыке этого места. Рядом, прижавшись к его боку, дрожал волчонок, тихо поскуливая – не от голода, а от утраты, от страха перед огромным, незнакомым миром.
Старуха не причитала и не убаюкивала. Её действия были отточены веками: суровые, точные, лишённые сантиментов. Соскоблив кору с корня девясила, что прятался в тени её порога, она разжевала горькую мякоть и вложила её в рот ребёнку – чтобы с молоком впитал крепость подземелий. Волчонка напоила тёплым овечьим молоком из старого, отполированного руками рога. Брызнула в глотки обоих отвара из трёх трав – от лихоманки и дурного глаза. И наконец, бормоча древние слова заклятья, обмазала их ладони и стопы липкой, пахучей смолой древней сосны.
– Чтобы земля Нави признала вас своими, – прозвучал её скрипучий голос, исполняющий ритуал причащения. – Чтобы помнили, откуда ноги ваши растут. Чтобы были крепки, быстры и неуловимы, как тень меж стволов. Чтобы не ступили по ошибке туда, где вашему шагу не рады.
Так началась их жизнь – не детство, а ученичество. Их миром стала плетёная из лозы люлька, подвешенная к потолочной балке так, чтобы они впитывали всё: и шёпот заговоров над котлом, и таинственное плетение узлов-оберегов, и наступающие за окном сизые сумерки Иномирья. Их игрушками служили не свистульки, а шишки, отполированные водой камешки, сухие душистые травы. Они рано поползли, а потом и пошли.
Границей их мира стал круг, очерченный Старухой на земле странными знаками – невидимой, но непреодолимой чертой.
– Слушай, – говорила она, когда над Чащей проносилась стая ворон. – Их карканье – не просто крик. Одно – к дождю, другое – к ветру, третье – к беде. У каждого звука есть цена и значение.
– Смотри, – наставляла она, поворачивая лицо Ведаря к едва заметному следу на влажной земле. – Медведь прошёл на водопой. Старый, седой вожак. Видишь, как коготь задел корень? Он не охотится, он пьёт. Его можно не бояться. А вот это… – её голос становился твёрдым, как булат. – След косолапый, но не медвежий. Мелкий, да злой. Дух-бродяга. Его следы обходи стороной. Выследи и отметь сам.
Главным и нерушимым запретом была Граница – та самая, что отделяла их пристанище от мира людей.
– Никогда не ступайте за эти меты, – указывала Стрибога на зарубки на деревьях, на испещрённые рунами камни. – Там – мир людей. Твой мир, Ведарь… но больше не твой. Твоя кровь будет звать тебя туда, но твоя доля – здесь. Там тебя ждёт только смерть или изгнание.
– Почему? – как-то спросил он, уже подросший, лет пяти; его ясный взгляд был полон упрямого вопроса.
– Потому что та дорога, что принесла тебя сюда, сожгла за собой мосты, – сурово ответила старуха. – Ты рождён людьми, но спасён Навью. Ты принадлежишь обоим мирам, а значит, в глазах каждого из них – наполовину чужой. Там тебя назовут поскрёбышем, окаянным, приспешником нечисти. А здесь… здесь ты сможешь выжить. Если будешь умён. Если будешь быстрее, тише и хитрее всех. Твоя сила не в мускулах, мальчик. Она – здесь. – Она ткнула костяным пальцем ему в лоб. – И здесь. – И в сердце.
Она рассказала им об Оборотнях – не сказку, а суровую, кровавую быль.
– Они – Стражи. Воины, что добровольно приняли в себя дух тотема, чтобы сражаться с Исконными на самых тёмных рубежах. Их сила велика, но и цена велика. Они не могут вернуться. Их договор – вечное заточение. Их взгляд, их запах – всё выдаёт в них иное. Попытка переступить Засеку – верная смерть. Они – плоть от плоти Леса, его когти и клыки в вечной войне.
И однажды, в сизых, холодных сумерках, они увидели одного из них. Издалека. Гигантскую, покрытую серой шерстью фигуру Волкомира. Он нёс на плече тушу кабана, словно пушинку, и шёл неспешной, мощной походкой. От него веяло такой древней, дикой силой, что у Ведаря перехватило дыхание, а волчонок, уже подросший и получивший имя Храпок, прижался к земле, затаив дыхание, но не со страхом, а с жгучим любопытством.
– Хочешь быть таким? – спросила Стрибога, наблюдавшая за ними, а не за воином.
Мальчик, не отрывая взгляда от чащи, покачал головой.
– Хочу быть сильным. Чтобы защищать. Но не таким. Он сильный. Но громоздкий. Его видно и слышно за версту. Я хочу быть… тихим. Быстрым. Неуловимым. Как тень. Чтобы враг не знал, откуда ждать удара.
Храпок тихо взвизгнул, как бы подтверждая его слова, и потрепал зубами его посконные порты.
Старуха хмыкнула, но в её глазах, холодных, как зимнее небо, мелькнуло нечто похожее на одобрение.
– Умный ответ. Их путь – не ваш. Они получили грубую силу ценой свободы. Вы же должны быть другими. Ваше оружие – здесь. – Она снова ткнула пальцем в его лоб. – И здесь. – В сердце. – Ваша сталь – это тишина и неожиданность. Радосвет из рода Куницы одной хитростью может сделать больше, чем иной воин секирой. Учитесь. Берите лучшее от каждого.
Их упражнения изменились. Теперь они учились не просто выживать, а становиться оружием. Стрибога учила их бесшумно ходить, падать, замирать, сливаясь с фоном. Ведарь часами бросал камешки в цель, стремясь к абсолютной точности. Храпок учился подкрадываться и кусать точно в горло – одним молниеносным движением. Они плели сети из лиан, рыли ловушки, учились использовать лес против сильного и глупого противника.
Спустя недели Стрибога вывела их к ручью-границе, вода в котором была тяжела и мерцала, как расплавленное серебро.
– Протяни руку над водой. Не касаясь. Слушай. Что слышишь?
Сначала – лишь журчание. Затем – обрывки чего-то чужого, тёмного. Гул. Немой визг. Шёпот злобы, тоски и всепоглощающей, древней ненависти.
– Здесь страшно, – выдохнул Ведарь, почувствовав, как по спине бегут мурашки.
– Это не здесь страшно. Это – отзвук. Эхо Исконных. Тех, что спят глубоко под корнями Древнего Древа. Запомни этот звук. Этот вкус страха на языке. Это твой главный враг. Против него бесполезны любые клинки. Но он уязвим. Уязвим для остроты ума, для быстроты ног, для верности друга. Они – хаос. А ты должен стать идеальным порядком. Их смертью.
Глава 8. Южная Засека
Солнце южной степи было не светилом, а карателем. Оно не согревало, а выжигало дотла, обращая траву в хрустящую пыль, а землю – в потрескавшуюся глиняную скорлупу. Воздух над раскаленными холмами колыхался, словно струился невидимый жаркий поток, и в нем плясали миражи – то ли озеро, то ли вражеская конница. Пыль, взбитая копытами десятка коней, стояла столбом, медленно оседая на потные, загорелые лица, на потрескавшиеся от зноя кожаные латы и посконные плащи, пропахшие потом, конской сбруей и далью дорог.
Отряд был невелик – всего десяток всадников, но подобран так, что каждый стоил целого десятка в бою. Впереди, на могучем гнедом жеребце, чья грива была заплетена в боевые косы с вплетенными медными бубенчиками, ехал сам князь Ратибор. Лицо его, обветренное и жесткое, словно дубленая бычья шкура, было непроницаемой маской. Но под этой маской клокотала буря мыслей. «Зачем я повел ее с собой? Дочь, единственную кровинку… Жена не простила, была бы жива. Но терем не укрыть от мира. Мир сам ломится в ворота. Лучше пусть научится смотреть опасности в глаза, чем однажды окажется перед ней безоружной». Взгляд его, серый и холодный, как речная сталь, безостановочно сканировал горизонт, выискивая малейшую угрозу.
Сбоку, не отставая ни на полкорпуса, – его тень и правая рука, Горислав. Старый дружинник, лицо которого скрывал простой железный наносной шлем, а тело – добротный, но небогатый доспех из кованых пластин, насаженных на кожаную основу. Он не просто смотрел – он читал степь, как летопись. Беспокойный взлет жаворонка – не от лисицы ли? След на обочине, чуть присыпанный пылью, – конский, но подкова не славянская, мелкая, с острыми шипами. Едва уловимая тень в ложбине – может, курганный суслик, а может, и притаившийся лучник. Его мозг, отточенный десятками лет сторожевой службы, без устали складывал эти знаки в единую картину, пока еще неясную.
Следом, отчаянно стараясь держаться в седле с той же небрежной твердостью, что и отец, скакала Милана. Девчоночьи наряды остались в тереме. Ее вьющиеся, цвета спелой ржи волосы были туго заплетены в косу и скрыты под дорожным платком. На ней – подшитая по росту грубая посконная рубаха и порты, а поверх – отцовский старый кольчужный панцирь, тяжелый и не по размеру, натирающий плечи даже через толстую подкладку. За спиной – неудобно болтающийся круглый щит с выцветшей краской и меч в простых деревянных ножнах. Каждый мускул ныло от непривычной нагрузки, но она стискивала зубы, вспоминая отцовы слова: «Княжья дочь должна знать не только терем да светлицу. Она должна знать землю, которую ей предстоит держать. Не на пиру, а в поле, в пыли и в поте». Спорить было бесполезно. Да и в глубине души ее обуревало не только отчаяние, но и жадное, почти детское любопытство к огромному, пугающему и манящему миру за крепостными стенами.
Замыкали шестеро дружинников – бородатые, молчаливые, с руками, привыкшими к топору и луку больше, чем к плугу. В самом же хвосте отряда ехали двое: молчаливая кочевница Сармата на своем низкорослом, но не знающем устали степном коне и юный Вадим. Его взгляд, полный трепетной преданности и страха, то и дело прилипал к стройной, хоть и неуверенно сидящей в седле фигуре Миланы. Пальцы бессознательно сжимали и разжимали древко легкого копья, на ладонях проступали мозоли, еще не успевшие загрубеть. «Увидеть бы хоть тень опасности первым… Встать перед ней… Может, тогда он, князь, взглянул бы иначе… А она…» Он сглотнул сухой ком, не смея додумать.
-– Стой! – внезапно скомандовал Ратибор, резко вскинув руку в прочной кожаной рукавице.
Отряд замер, будто врос в землю. Только кони беспокойно зафыркали, почуяв напряжение вожака. Князь медленно, с едва слышным хрустом в позвонках, повернул голову к кочевнице. Его взгляд был вопросительным и жестким.
-– Ну? Чуешь что, степнячка?
Сармата, не отвечая, прикрыла глаза с темным, словно у старой вороны, налетом на веках. Ее тонкие ноздри расширились, вбирая воздух. Она не просто нюхала – она читала степь, как шаман читает трепетное трещание костей у огня. Каждый запах был для нее словом, каждое дуновение – фразой. Она слушала шепот «матери-степи», ощущала тонкую дрожь в земле, не доступную другим.
-– Дым, – выдохнула она наконец. Ее голос был хриплым, словно скрипела пересохшая кожа. – Не от костра овчара. Жжёное дерево. Много. Срубы горят… И… железо. Раскаленное. Кровь. Свежая. Еще парная.
Горислав, не сводящих, прищуренных глаз с линии горизонта, мрачно хмыкнул.
-– Чуяло сердце мое, княже. До заставы рукой подать. Едва ли нас там встречают с медовым караваем да сыром.
-– Вперёд, – одним словом бросил Ратибор. В его голосе не было ни капли страха или сомнений – только холодная, ярая решимость волка, идущего навстречу стае. – Без лишней суеты. Копья наготове. Щиты с плеч.
Они двинулись рысью, уже не по ковыльной глади, а обходя открытые пространства, прижимаясь к редким, чахлым порослям кустарника, что цеплялись за жизнь в каменистой почве. Вскоре и остальные, не обладавшие нюхом Сарматы, смогли почувствовать то, что уловила она: едкий, горький запах гари, несущий с собой привкус пепла и смерти. А потом и увидеть.
Южная застава, один из ключевых форпостов княжества, представляла собой печальное и гневотворное зрелище. Невысокий, но крепкий частокол из заостренных дубовых бревен был частично разобран и сожжен, черные, обугленные ребра торчали к небу, словно кости великана. Ворота, обитые железными полосами, были выломаны из петель и валялись на земле, истоптаны, изрублены. На бревнах и у входа темнели пятна запёкшейся крови, черные и липкие, вокруг которых вьются первые мухи.
Внутри было пусто и тихо. Слишком тихо. Не слышно было ни привычного гула голосов, ни звона кузнечного молота по наковальне, ни даже мычания скота из загонов. Только зловещий, давящий звон в ушах. Милана, глядя на разруху, мысленно воссоздавала живую картину, которую видела здесь полгода назад: дымок из печной трубы низкой длинной бани, запах свежеиспеченного хлеба, смех детей, бегающих между амбарами, знакомое лицо дядьки Лучемира, подносящего ей, тогда еще девочке, глиняную свистульку… Теперь здесь царила мертвая тишина, которую не решались нарушить даже степные ветра.
Ратибор соскочил с коня, не дожидаясь, пока тот окончательно остановится. Он вошёл внутрь, не спеша, с щитом на руке и обнаженным мечом. Горислав – его тень – был рядом, его секира лежала на плече, готовая к взмаху. Милана, сжимая рукоять своего меча так, что пальцы побелели, последовала за ними, преодолевая подкативший к горлу холодный ком страха и горя. Вадим бросился следом, прикрывая ее спину.
Они нашли их у дальней, западной стены, куда защитники были оттеснены в последней, отчаянной схватке. Человек десять. Лежали в неестественных, скрюченных позах, окружённые телами нападавших – их было почти вдвое больше. Их оружие – мечи, секиры, рогатины – было сломано, перерублено, доспехи изрублены, пробиты в десятках мест. Земля здесь была утоптана, смешана с кровью и щепой, свидетелями яростной сечи.
Староста заставы, знакомый Милане дядька Лучемир, сидел, прислонившись к уцелевшему бревну частокола. В его груди, прямо под ключицей, торчала короткая, толстая срезень – метательный дротик, пробивший кольчугу. Руки его, могучие даже в смерти, сжимали окровавленный боевой топор с чужой, не славянской гравировкой на обухе, вырванный у кого-то из нападавших.
Князь опустился на одно колено перед умирающим воином. Тот медленно, с трудом поднял налитые кровью глаза, в которых уже плясала тень Навьего царства.
-– Осударь… – прохрипел он, и из уголка его рта выступила алая пена, окрашивая седую бороду.
-– Кто? – одним словом, точным и резким, как удар клинка, спросил Ратибор. Его лицо оставалось каменным, лишь в глубине глаз шевельнулась черная тень ярости.
-– Люди… – выдохнул Лучемир, каждый звук давался ему мукой. – Но… недолюдки… Глаза мутные… будто пеплом засыпаны… Шли молча… как сонные… А бьются… с яростью… загнанного зверя… Железо их… черное… будто обугленное… наш клинок брал… с трудом… звенит… будто по камню…
Он замолчал, пытаясь собрать дыхание. Взгляд его затуманился, цепляясь за что-то важное, что ни в какую не хотело вспоминаться.
-– Они… своих павших… подбирали… Тащили за собой… словно мешки с поклажей… И шептали… что-то… на своем… гортанном… – Старый воин сглотнул, и новый поток крови выступил на губах. – Про «дитя» … и «волчью… матку» …
Милана, стоявшая позади отца, застыла. Ледяная струя пробежала по её спине, заставив похолодеть пальцы. «Дитя… на волчице?» Безумные, на первый взгляд, слова странным эхом отозвались в самой глубине памяти. Не сон, не игра воображения – а словно вспышка света из давно забытого прошлого. Ей вдруг, с пугающей четкостью, привиделось: бегущая через лесную поляну, залитую лунным светом, крупная волчица-переярок, а в зубах у нее – светлый свёрток, из которого доносится тихий, не детский плач… Она тогда спросила у няньки, та перекрестилась и прошептала: «Не гляди, дитятко, это морока. Лесные духи балуются». И велела забыть.
Ратибор недовольно сморщился, не поняв или не приняв бред уходящего.
-– Знаки? Штандарты? Хотя бы трофеи с них? – настаивал он, привыкший к ясности и воинскому порядку.
Но Лучемир уже не слышал. Его голова бессильно склонилась на грудь. Он ушел в мир предков, унеся с собой главную загадку.
Горислав, тем временем, обыскавший несколько тел нападавших в странных, темных, словно промасленных доспехах, подошел к князю и молча протянул ему найденный предмет. Это была не поясная пряжка, не нашивка на одежду. Это была небольшая, грубо отлитая из темного, почти черного, матового металла фигурка. Не зверь, не птица, не человек. Нечто угловатое, асимметричное, словно сломанный кристалл или осколок горной породы с острыми, неровными гранями. От нее так и веяло немой, древней, неодушевленной злобой. И холодом. Она была ледяной, будто ее только что вынули из зимней проруби, несмотря на палящий зной.
Ратибор сжал находку в ладони. Костяшки его пальцев побелели от усилия.
-– Ничего не понимаю, – угрюмо прорычал он, вглядываясь в безликий кристалл. – Ни следов знакомого племени, ни намёка на соседей-хазар… Язык непонятен, знаков нет… Как призраки.
-– Не призраки, – тихо, но чётко и твердо сказала Сармата. Она стояла над одним из убитых нападавших, откинув его голову грубым движением руки. – Глядите.
Все, оторвавшись от мертвого Лучемира, подошли. Лицо убитого было иным – скуластым, с уплощенным носом и узким разрезом темных, почти черных глаз. Кожа – смуглой, загорелой до цвета старой меди. Но это было не главное. Его кожа, особенно вокруг глаз, у крыльев носа и в уголках рта, была испещрена мелкими, темными, почти черными прожилками. Они проступали из-под кожи, словно проросшие корни ядовитой плесени или тонкие трещины на старой фреске. А из полуоткрытого, оскаленного в посмертной гримасе рта доносился слабый, но отчётливый, въедливый запах : старого, мшистого камня, сырой, непрогретой земли и чего-то неуловимо чужого, не принадлежащего этому миру.
– Это не их знак, – кивнула Сармата на фигурку в руке князя. – Это их клеймо. Изнутри. Болезнь. Или… порча. Дух каменной немочи. Видела такое лишь раз. У стариков в одном стойбище далеко на востоке, у подножия Каменных Сестер-гор. Они молились камням, что падали с неба, черным и холодным. Те давали им силу – руку не дрогнет, боль не чуять, спать не нужно. Но плата – душа и разум. Они становились руками и ногами своей каменной богини… Ее голодными пальцами. Обращались в рабов. Звали тех рабов… Исконные. Или Глубинные. Память моя стирает то, что лучше не помнить.
Слова кочевницы повисли в тяжёлом, раскалённом воздухе, ставшем вдруг ледяным. Даже непоколебимый Ратибор смотрел на странную фигурку с новым, напряжённым вниманием, смешанным с глубочайшей настороженностью.
Внезапно Вадим, стоявший на страже у развороченных ворот, резко, по-птичьи свистнул. Все мгновенно обернулись, пальцы сами собой сжали рукояти оружий. Степь молчала, затаившись. Но на самом краю горизонта, в мареве зноя, возникла еще одна, едва различимая тень. Одинокий всадник на низкорослой лошади. Он не двигался, просто наблюдал, будто сама степь смотрела на них бездушным взглядом. Затем, словно мираж, всадник развернул коня и исчез, растворившись в колышущемся горячем воздухе.
-– Лазутчик, – буркнул Горислав, плюнув на иссохшую землю. – Их глаза. Теперь знают, что мы здесь.
Ратибор медленно поднялся во весь свой богатырский рост. Лицо его было сурово.
-– Кончайте с ними, – мрачно приказал он, кивая на тела нападавших. – Сложить в кучу и спалить. Очистить огнем место от скверны. Своих – бережно на погребальные дровни. У каждого найти знак, имя запомнить. Отпоем по-людски, с почестями, как подобает воинам, живот свой положившим за землю свою. Эту штуку, – он бросил ледяную фигурку Гориславу, – вези при себе. Надо будет показать старейшинам на севере. Или ведунам в глухих лесах. Кто там у них разбирается в этой… каменной нечисти.
Он окинул взглядом погибшую заставу, эту выжженную рану на теле его земли, потом посмотрел на север, туда, где за бескрайними степями уже синели, манили и пугали дремучие леса.
-– Похоже, мои северные родичи , дочка, знают о чём-то, о чём мы, степняки, и не слыхивали. И это что-то, – он ткнул пальцем в сторону сожженной фигурки, – идет к ним в гости. Надо предупредить. И разузнать. Ибо беда, что пришла, не разбирает, чья земля – степная или лесная.
Милана молча кивнула. Ее прежнее, почти детское любопытство и страх сменились холодной, тяжелой, как булава, взрослой решимостью. Воспоминание, волчица, младенец… Фигурка, словно вырезанная из самой тьмы… Слова Сарматы про каменную богиню… Всё это было не просто игрой ума или старой сказкой. Это были разрозненные части чего-то огромного, старого как мир и смертельно опасного. Она чувствовала это кожей, как чувствуют приближение грозы.
Отряд, помрачневший и удручённый увиденным, совершив короткий и торопливый, но исполненный глубочайшего почтения обряд над своими, двинулся дальше. Они не просто ехали на север. Они ехали навстречу тайне и войне, о которой мир людей еще не знал, но которая уже стучала в его ворота коваными сапогами и дышала в лицо ледяным дыханием древнего камня.
Глава 9. Совет Родов
Воздух в Большой Избе, что стояла на отшибе, у самого края деревни, под сенью старого священного дуба, был густым, спёртым и тяжёлым. Его пропитали запахи дегтя и пота, влажной овчины и дыма из центрального огнища-каменки, над которым уже третьи сутки без перерыва томился в чугунном котле лесной сбор – горький, как полынь, отвар для больных овец. Но главным был не этот чад, а тяжёлое, немое напряжение, висевшее между собравшимися, густое, словно смола, и такое же липкое. Дым от лучины, воткнутой в железный светец у двери, стелился под потолок, уходя в чёрное подволокье, где за века накопилась не только сажа, но и тишина былых советов, былых споров, былых решений, стоивших кому-то жизни.
Здесь, под низкими, почерневшими от времени и дыма матицами, на которых были вырезаны и подновлены краской тотемы родов – Медведь, Волк, Куница, Олень, – собрался Совет Старейшин. Не для пира, не для дележа добычи, а для суда над собственной судьбой, что катилась под уклон, словно телега с выбитой осью.
Не все старейшины сидели на резных, грубых лавках вдоль стен, покрытых выцветшими от времени вереями-полотенцами с вышитыми обережными знаками. Некоторые, помоложе и покрепче, стояли, прислонившись к мощным стенам из лиственницы, скрестив на груди руки, покрытые боевыми шрамами и старыми ожогами от кузнечного горна. Их лица, освещённые неровным светом живого огня и мигающей лучины, были суровы и непроницаемы, как каменные болваны на дальних межах.
Весея, как вдова и мать «уведённой в Навь», имела право стоять в самом дальнем, тёмном углу, у приоткрытой двери, чтобы дышать воздухом и наглядно, своим молчаливым присутствием, напоминать всем о тихой, ежедневной жертве их рода, о горе, которое не умещается в слова советов и споров. Она чувствовала на себе тяжёлые, мимолётные взгляды – одни с жалостью, другие с неловкостью, а иные с тайным, глухим упрёком, словно её потеря, её незаживающая рана была дурным знаком, сглазом, павшим на все их дело. «Смотрят, будто я сама виновата, что Чаща взяла мою кровь… Будто мое горе – зараза, что может перекинуться на их дома», – думала она, глядя в пол, на плотно утоптанный глинобитный пол, испещрённый чёрными точками упавших искр.
Во главе стола, на почётном месте у огнища, опираясь на массивный посох с набалдашником в виде медвежьей головы, вырезанной из мореного дуба, сидел Борислав, старший рода Медведя. Мощный, как вековой дуб, с седой, лопатой бородой, в которую были вплетены три медных кольца – по числу одержанных им больших побед, – и взглядом маленьких, глубоко посаженных глаз, способным сбить с ног молодого бычка, он вёл Совет. Рядом с ним, на скамье, лежала связка дубовых палок-бирок с зарубками – немой учёт долгов, людей, поставок, словно позвоночник их общей жизни, где каждый заруб – позвонок, и вынуть один – значит, сломать хребет.
– Хлеб на исходе, – начал Борислав без предисловий, его голос глухо пророкотал под низким потолком. – Дичь ушла на запад, будто гонимая нечистой силой. Река мелеет не по сезону. Зима стучит копытом в дверь, а мы тут сидим, как птенцы в гнезде, когда уж коршун кружит над кровлей.
Он обвёл собрание тяжёлым, медвежьим взглядом, останавливаясь на каждом.
– Заставы по Синюхе держатся последними силами. Медведи просят пять человек. Не юнцов, а крепких воинов, чтобы можно было сменяться.
Всеволод, вожак рода Волка, сидевший спиной к двери, мрачно провёл ладонью по своим седым усам.
– Мои волки костьми ложатся на тех заставах, Борислав. Не просишь – требуешь. А требовать не с чего. У Волков вдоль частокола уже вдовы с малыми детьми сторожа несут – больше некого ставить. Каждого третьего парня мы тебе уже отдали.
С края, из тени, раздался спокойный, но насмешливый голос Радосвета из рода Куниц:
– Интересно, кто будет ваши доспехи чинить, Волки? Кто будет меха на соль менять, чтобы вы не околели с голоду? Наши люди нужны здесь. Без нас вы с торговыми караванами и двух слов связать не сумеете.
– А без хлеба и торговля встанет, – поднялся коренастый Мирослав из рода Оленей. – Мы землю пашем. После падежа волов едва новину подняли. Если нас на полях перебьют – все ваши заставы пустыми останутся. Сначала пашня, потом война.
Борислав ударил посохом об пол. Глухой удар прокатился по избе, заставив смолкнуть начавшийся ропот.
– Вы все правы, – сказал он неожиданно тихо. – И все ошибаетесь. Волки правы – без застав нас сожгут в наших же домах. Куницы правы – без ремесла и торговли мы одичаем. Олени правы – без хлеба любая победа будет пиром во время чумы.
Он медленно поднялся, опираясь на посох, и его тень огромной и неподвижной заполнила стену у огнища.
– Но вы все смотрите только на свою часть правды. А я должен видеть целое. Если падёт род Волка – западные племена сожгут и ваши мастерские, Куницы, и ваши пашни, Олени. Если род Медведя ослабеет – некому будет новые топоры ковать. Мы – не разные племена под одной крышей. Мы – одно целое.
Всеволод мрачно усмехнулся:
– Мудро говоришь, Борислав. Только от мудрых слов сыт не будешь и врага не остановишь.
– Поэтому и решение будет не мудрым, а тяжёлым, – отозвался Борислав. – Каждый род отдаёт ещё по два человека на заставы. Добровольно или по жребию – ваше дело. И ещё – готовим посольство на юг.
В избе на мгновение воцарилась тишина, а затем взорвалась возмущёнными голосами:
– На юг? К тем, с кем отцы наши не водили хлеб-соль?
– Сейчас не время для посольств!
– Кого пошлём? И так людей нет!
Борислав переждал шум, не перебивая. Когда голоса стихли, сказал:
– Время именно сейчас. Если беда идёт с запада – нужно искать союзников. Если с юга – нужно знать, что нас ждёт. Посольство пойдёт не с пустыми руками. Возьмём меха, мёд, лучшие клинки.
Радосвет из рода Куниц кивнул, его цепкий ум уже оценивал выгоду:
– Дорого будет стоить такое посольство. Но может окупиться. Если найдём союзников…
– Если не найдём – потеряем лучших людей и последнее добро, – мрачно закончил Всеволод.
– Если не попробуем – потеряем всё, – твёрдо сказал Борислав. – Решение принято. Каждый род знает, что делать.
Совет был окончен. Старейшины молча, не глядя друг на друга, тяжело поднимались с мест, кряхтя и опираясь на посохи, и стали расходиться, унося с собой в душах тяжкий груз принятого решения, что ляжет новым камнем на плечи их родичей.
Весея вышла одной из первых, спеша покинуть душную, наполненную мужским горем, яростью и страхом избу. Ей нужно было домой. К своему тихому, пустому, холодному без дочкиных голосов срубу. К молодому деревцу у порога, что она когда-то посадила с Дариной. Полить его живой водой из колодца, вырытого ещё её прадедом. Рассказать ему, шептать ему о том, что мир людей слеп и глух, что он сходит с ума от страха, готовясь к одной войне, которую, возможно, уже проиграл, даже не начав, ибо настоящий враг, самый страшный, не ходит с копьями и под знамёнами, а приходит бесшумно, из мира теней, из самой что ни на есть древней тьмы, что поджидает у каждого порога.
Она шла по деревне, мимо запертых на засовы амбаров, мимо пустых загончиков для скота, и ветер с запада, резкий и холодный, предвестник близкой зимы, нёс с собой не только запах прелой, побитой первыми заморозками листвы, но и едва уловимый, далёкий, но оттого не менее жуткий запах дыма. Не печного, родного, пахнущего хлебом и жизнью, а горького, палёного, чуждого, как чужды были их лесу степи, лежащие за много дней пути.
И ей стало страшно не за себя, не за свой холодный очаг и скудный хлеб, а за ту, что стояла по ту сторону тихого, серебристого под луной деревца, в самом сердце иного мира, в мире Нави, куда нет хода живым.
Ибо если рухнет этот хрупкий, погрязший в междоусобных распрях мир людей, рухнет и её последний, тонкий, как паутинка в осеннем инее, мост к дочери. И тогда они обе останутся совсем одни, каждая в своём мире, разделённые не только древней, нерушимой границей между Явью и Навью, но и всеобщим хаосом, надвигающимся с запада и, быть может, уже стучащимся в ворота южных застав, о которых здесь, в глухом лесном поселении, пока знали лишь по слухам да по тревожному запаху чуждого дыма на ветру.
Глава 10. Уроки Волкомира
Время в Иномирье текло иначе, чем в мире людей. Не линейной рекой, а густым, тягучим мёдом, где прошлое и будущее сплетались в причудливые узоры. Для Ведаря и Храпка годы слились в череду суровых, но мудрых уроков Старухи-Путницы. Из спасённых младенцев они превратились в мальчика лет семи-восьми с взглядом, видевшим глубже поверхности вещей, и в стройного, жилистого молодого волка с умными, жёлтыми глазами, в которых светилась не звериная, а почти человеческая мысль. Их мир по-прежнему ограничивался полянкой у хижины Стрибоги на самом краю Межи, но границы их умения раздвинулись до горизонта, который здесь был не линией, а живой, дышащей гранью между мирами.
Они уже не просто слушали – они слышали. Слышали разницу между предгрозовым карканьем вороны и её тревожным криком, предвещавшим появление у границы чего-то чужеродного и злобного. Они не просто смотрели – они видели. Видели, как муравьи спешно меняют тропу перед тем, как из-под земли просочится ядовитый туман Исконных, и как листья на одном конкретном дубе поникали за час до того, как сгустки тьмы начинали ползти по рубежу. Стрибога научила их не бояться тишины, а слушать её, ибо в тишине часто звучали самые важные предостережения.
Их связь, рождённая в страшные дни скитаний с Дариной, окрепла и превратилась в неразрывную, прочнее любой верёвки, крепче кровного родства. Они спали, прижавшись друг к другу для тепла в холодные ночи, когда иней покрывал шкуру Храпка и волосы Ведаря, делили скудную пищу – корешки, сушёные ягоды, редкие куски вяленого мяса, и понимали малейшие движения, взгляды и даже изменения в дыхании друг друга. Храпок стал его ушами и носом, а Ведарь – его разумом и речью. Они были не хозяином и питомцем, а братьями по оружию, ещё не обагрённому кровью, но уже закалённому в трудах и лишениях.
Однажды утром Стрибога, вернувшись с очередного своего бесшумного странствия вдоль Межи, не стала, как обычно, приниматься за приготовление скудной трапезы или разбор сушёных трав в своей бесчисленной коллекции. Она остановилась перед ними, опираясь на свой посох из свилеватой берёзы, и её зимние, всевидящие глаза с непривычной суровой печалью изучали их, будто взвешивая на незримых весах.
– Пришла пора, дитятки, – произнесла она, и её скрипучий голос прозвучал особенно громко в звенящей тишине утра, нарушаемой лишь шелестом листьев. – Мои уроки для вас закончены. Вы выучили всё, что могла дать вам старая Путница. Вы знаете язык леса и умеете читать знаки на земле, на воде и в воздухе. Вы стали тенью, которой не видно, и шорохом, которого не слышно. Выросли. Окрепли.
Ведарь, обычно молчаливый и вдумчивый, насторожился, почуяв в словах наставницы не просто констатацию, а прощание. Рядом с ним встал и Храпок, уловив напряжение и необычную серьёзность в голосе старухи, его уши насторожились, а тело напряглось.
– Но этого мало, – продолжала Стрибога, и её взгляд стал твёрже. – Слишком мало для той бури, что собирается на границах. Дыхание Исконных становится чаще и злее. Старая стена, что держала их веками, даёт трещины, и сквозь них сочится древний ужас. Мои знания уберегут вас от одной беды, но не прибавят сил для схватки с другой. Пора вам учиться у тех, кто знает в этом толк. Чьи когти и клыки веками сдерживают тьму. Кто платит за каждый шаг своей кровью и памятью.
– К оборотням? – тихо, почти шёпотом спросил Ведарь, и в его голосе прозвучала не боязнь, а жгучее, давнее любопытство, смешанное с трепетом. Он помнил рассказы Стрибоги о воинах, слившихся с тотемами своих родов, о тех, кто добровольно принял двойную природу, чтобы стать щитом для всего живого. Помнил того исполинского волка, которого видел лишь раз, мельком, в сумерках, – Волкомира, предводителя Засеки, чьё имя произносили с почтением и страхом.
– На Засеку, – подтвердила старуха, кивнув в сторону глухой чащи. – К Волкомиру и его стае. Туда, где ваше место отныне. Где из вас выкуют оружие, а не оставят беспомощными путниками.
– А мы… мы вместе? – выдохнул Ведарь, невольно кладя руку на голову Храпка, ощущая под пальцами тёплую, грубую шерсть.
– Волк идёт с волками, а путник – с путником, – ответила Стрибога, и в её глазах мелькнула тень нежности, тут же погашенная суровой решимостью. – Вы – одна упряжка, одна воля. Ваша сила – в вашем единстве. На Засеке это поймут. Или… вы докажете это сами. Силой, хитростью и верностью.
Она не дала им времени на раздумья или страхи. Собрав их нехитрые пожитки – запас вяленого мяса, мешочек с целебными травами, острый нож из оленьего рога для Ведаря, который мальчик научился держать не как игрушку, а как орудие, – она повела их вглубь Чащи, туда, куда им было строго-настрого запрещено ходить одним.
Дорога заняла не час и не два. Они шли целые сутки, минуя знакомые рубежи, углубляясь в такие дебри, где свет едва пробивался сквозь сомкнутые кроны исполинских деревьев, чьи стволы были толщиной с целую избу. Воздух становился гуще, тяжелее, звенел незримым, колким напряжением, пахнущим остывшим железом, старой кровью и чем-то ещё – древней, неумолимой силой. Наконец, они вышли на край огромной поляны, и дыхание Ведаря перехватило, а Храпок невольно прижался к его ноге, издав тихое рычание.
Это была не крепость из брёвен, как в деревне людей. Это было живое укрепление, участок Леса, пропитанный такой концентрацией древней магии, боли и несгибаемой воли, что стволы вековых дубов казались высеченными из стали, а воздух дрожал, словно от зноя. Повсюду двигались, сидели у холодных, зеленоватых костров или стояли на страже фигуры, в которых с трудом угадывались люди. Одни были почти человечьими, лишь с жёлтым блеском в глазах и звериной, потрясающей грацией движений. Другие – застывшими меж двух форм, покрытые бурой или серой шерстью, с когтистыми лапами и вытянутыми мордами. Третьи – огромными волками, чьи взгляды, полные древней, беспросветной усталости, источали железную решимость. От всего места веяло нечеловеческой мощью, вечной скорбью и неумолимой готовностью к бою, который здесь не прекращался ни на миг.
И тогда из тени самого большого, испещрённого шрамами, будто изрубленного в бесчисленных битвах дуба, вышел он. Волкомир. Вожак. Он был в почти человеческом облике, но казался вытесанным из гранита и старого морёного дуба. Его лицо было изрыто шрамами, а глаза, цвета зимней грозы, холодные и пронзительные, мгновенно оценили, взвесили и пронзили насквозь обоих пришельцев, заставив Ведаря выпрямиться, а Храпка насторожить уши.
– Привела, Стрибога? – его голос был низким, хриплым, точно скрип камня о камень, рождённый в глубине веков.
– Привела, Волкомир, – кивнула старуха, её статная, хоть и сгорбленная фигура не выглядела слабой перед исполином-оборотнем. – Мальчик и зверь. Кровь человечья и дух волчий. Выкормыши Нави, вскормленные на меже. Они готовы принять свою долю. Нести свой долг.
Волкомир медленно, с лёгкой, привычной хромотой, выдававшей старую, плохо зажившую рану, обошёл их. Его тяжёлый взгляд скользнул по тонким, но жилистым рукам Ведаря, по его спокойным, вдумчивым глазам, не опущенных в землю, затем перешёл на Храпка, который, хоть и поджал хвост от врождённого почтения к вожаку, но не отвёл взгляда, тихо рыча где-то глубоко в глотке, демонстрируя не агрессию, а готовность постоять за себя и своего друга.
– Мал. Оба, – бросил он, и в его словах не было насмешки, лишь констатация факта, холодная и беспристрастная. – Пахнут твоей хижиной и миром, которого больше нет, старуха. Зачем они мне? Мои воины гибнут у провалов каждый месяц, их кости белеют на рубежах. Мне нужны бойцы, а не щенки для выкармливания. Мои волки, оголодавшие и озлобленные, сожрут их в первую же голодную ночь. И я не стану их останавливать. Слабость здесь – смертный приговор.
– Сила бывает разной, Волкомир, – не смутилась Стрибога, её голос прозвучал твёрдо и ясно. – Ты сам знаешь. Они видят и слышат то, что твои заскорузлые в бою воины могут пропустить, ослеплённые яростью или привычкой к грубой силе. Мальчик научен читать лес, как свиток, видеть узоры там, где другие видят хаос. А зверь чувствует ложь Исконных кожей, чует их яд за версту, слышит шёпот тьмы сквозь грохот битвы. Они – твои будущие глаза и уши на тех тропах, где грубая сила бессильна. Вырасти из них стражей – будет тебе честь и новая мощь для Засеки. Погубишь по своему недомыслию – твоя потеря и твоя вина перед Лесом, что доверил тебе свою защиту.
Волкомир хмыкнул, коротко и сухо, но в его холодном, как зимняя река, взгляде мелькнула искра неожиданного интереса. Он пристальнее, внимательнее посмотрел на Храпка, который, почуяв внимание вожака, насторожил уши, всем видом показывая и готовность к бегству, и любопытство, и некую врождённую гордость. – Волчонок… не из нашего рода. Дикая кровь. Чистая. Не испорченная договором с людьми. Сильная. – Он медленно повернулся к Ведарю, и его взгляд, казалось, проникал в самую душу мальчика. – А ты, человечий отпрыск… Готов ли ты к тому, что здесь нет места слабости? Готов ли ты убивать тварей, что даже не дышат, как мы, не испытывают страха и жалости? Не для забавы, не для славы, а чтобы защитить ту тонкую, хрупкую грань, что отделяет жизнь от хаоса? Готов ли ты, что твой первый друг, – он кивнул на Храпка, – может пасть рядом с тобой, и ты должен будешь шагать дальше, не оглядываясь, не поддаваясь горю, ибо долг важнее сердца?
Ведарь, стиснув зубы, выпрямился во весь свой невеликий рост. Он посмотрел на Храпка, который в ответ ткнулся мокрым, тёплым носом ему в ладонь, словно говоря: «Я с тобой». Потом его взгляд скользнул по суровым, отчуждённым, вечно усталым лицам оборотней, выглядывавших из тени деревьев и из-за камней. Он вспомнил тишину хижины Стрибоги, её уроки, полные терпения и мудрости, и понял – его место не в уютной безопасности прошлого, а здесь. На этой проклятой и святой стене. Не для славы, а для долга. Того самого долга, что когда-то приняла на себя Дарина, его мать, ушедшая в Навь, чтобы защитить его.
– Готов, – выдохнул он, и в его голосе не было детской дрожи, лишь твёрдая, выстраданная решимость, не по годам взрослая.
– Ладно, – коротко бросил Волкомир, и в этом слове была не похвала, а лишь допущение, пробное принятие. – Слова – ветер. Дело покажет, чего ты стоишь. – Он сделал отрывистый, резкий знак рукой, и тень у дальнего валуна шевельнулась. – Крак! К Моране твои шкуры, вылезай!
Из группы оборотней, чинивших у дальнего валуна порванные сети и сбрую, отделился молодой, худощавый воин. В его движениях была не медвежья мощь старших воинов, а хитрая, расчетливая грация лесного хищника, рыси или росомахи. Его глаза, светло-жёлтые, блестели насмешливым, оценивающим огоньком.
– Это твои подопечные, – указал Волкомир на Ведаря и Храпка. – Учи их. Не битью сперва – уму-разуму. Тому, в чём сам силён. Как видеть незримое и слышать безмолвное. Как быть тенью, которая предупреждает об опасности раньше, чем она станет явью. Как выживать, а не просто сражаться. Понял?
Крак, насмешливо, с прищуром оглядев новичков с ног до головы, кивнул. – Будет сделано, вожак. Уж я-то с ними развлекусь. Покажу, где раки зимуют и как тени вьются.
Стрибога, не проронив больше ни слова, не прощаясь, не оборачиваясь, развернулась и ушла, растворившись в Чаще так же бесшумно, как и появилась, оставив за собой лишь лёгкий шелест листьев. Ведарь и Храпок остались одни среди чужих, недружелюбных или равнодушных взглядов, в этом лагере воинов, пахнущем кровью, потом и вечной войной.
С этого мгновения и начались их настоящие уроки. Если Стрибога учила их понимать Лес, чувствовать его душу, то Крак учил их выживать в той его части, что была вечным, безжалостным полем боя. Его уроки были жестокими, лишёнными всякой ласки и снисхождения, но пронизанными суровой, безжалостной логикой войны на уничтожение.
– Сила – в умении избегать силы, – твердил он, заставляя их часами, до изнеможения, отрабатывать уходы от воображаемых атак, падения, перекаты, умение использовать малейшее укрытие. – Лучшая победа – та, которой не было. Вас не заметили – вы уже победили. Мёртвый герой – это просто мёртвый, а живой трус, сохранивший заставу и предупредивший о враге, – вот кто настоящий воин Засеки. Запомните это, щенки.
Он учил их движению. Не просто красться, а становиться частью пейзажа – шевелящимся листком, качающейся веткой, скользящей тенью. Подстраивать дыхание под шум ветра, шаг – под шелест листьев, сердцебиение – под ритм самого леса. Он заставлял их часами лежать в засаде у зловонной, тёмной расщелины, откуда иногда выползали мелкие, похожие на скорпионов, но слепые твари, слуги Исконных, чтобы они запомнили их запах, повадки, тот особый, скрежещущий звук их передвижения, который сводил скулы.
Ведарь и Храпок, связанные годами совместной жизни и единой судьбы, действовали как единое целое. Мальчик видел то, что ускользало от зверя – странный блеск в траве, неестественный изгиб ветки, игру света и тени, не подчинявшуюся солнцу. Волк чуял то, что было невидимо и неслышимо для человека – затаившегося в засаде духа-бродягу по едва уловимому запаху тления и страха, приближение опасности по мурашкам на своей шкуре и едва уловимой дрожи земли. Они научились общаться без слов – жестом, взглядом, едва уловимым движением руки или поворотом головы. Крак, поначалу настроенный скептически и любивший подшутить над их неопытностью, вскоре стал смотреть на них с растущим, невольным уважением, скрываемым под маской насмешки.
– Ладно, не совсем бесполезные выросли, – как-то раз бросил он, увидев, как они слаженно, без единого звука, обнаружили и, не вступая в бой, аккуратно обошли хитрую ловушку, поставленную на звериной тропе одним из духов-отщепенцев.
Волкомир наблюдал за их обучением со стороны, не вмешиваясь, не хваля и не ругая, но его тяжёлый, всевидящий взгляд всегда был на них направлен, оценивая, взвешивая. Однажды, когда первые навыки уже укрепились, он устроил им настоящее, жестокое испытание. Он сам отвёл их на самый край Засеки, к древнему рубежу, отмеченному чёрными, обугленными, будто прокалёнными в аду, камнями, от которых веяло ледяным холодом пустоты и древним, всепоглощающим ужасом.
– Стойте здесь, – приказал он, и в его голосе не было места возражениям или просьбам. – До рассвета. Не двигаться. Не издавать звука. Что бы ни увидели, что бы ни услышали, что бы ни почуяли. Сделаете шаг – уйдёте отсюда навсегда. Считайте, что вас здесь и не было. Вы – камень. Вы – мёртвое дерево. Вы – пустота.
Та ночь стала самой долгой и страшной в их жизни. Из тёмной, неестественно безмолвной чащи за камнями доносились скрежещущие, шипящие звуки, не принадлежащие ни одному живому существу, от которых стыла кровь в жилах. В воздухе плавали бледные, безликие, расплывчатые тени, от которых веяло смертельным холодом и всепоглощающей тоской. Пахло старым камнем, прахом, тлением и всепоглощающей, древней, бессмысленной злобой. Воздух становился густым, ядовитым, им было трудно дышать, каждое вздрагивание Храпка отзывалось в сердце Ведаря. Волк, дрожа всем телом, прижимался к его ноге, издавая тихое, почти неслышное, полное страха поскуливание. Мальчик, сам чувствуя, как леденящий, парализующий ужас подбирается к его горлу, сжимает грудь, клал руку на загривок друга, гладил грубую, знакомую шерсть, и это молчаливое, тёплое прикосновение, эта связь успокаивала их обоих, давая опору в мире безумия. Они не были больше мальчиком и волком. Они стали камнем, деревом, частью ночи, затаив дыхание и волю, слившись с холодной землёй под ногами.
Когда первые лучи бледного, холодного, не дающего тепла солнца Иномирьья тронули макушки самых высоких деревьев, рядом с ними, словно из ничего, возник Волкомир. Он молча, долго и пристально осмотрел их – заиндевевших, бледных, с впавшими от усталости и напряжения глазами, но непоколебимых, не сдвинувшихся с места ни на пядь.
– Годится, – произнёс он коротко, односложно, и в этом слове, прозвучавшем как высшая оценка, была заключена целая повесть о принятии. – С завтрашнего дня – в дозор. С Краком. На ближние рубежи. Ваша задача – видеть, слышать и предупреждать. Не геройствовать. Не лезть в драку. Живые и молчаливые ценнее мёртвых героев. Поняли?
Это была победа. Настоящая, выстраданная, оплаченная ночью леденящего ужаса. Возвращаясь в лагерь, Храпок, сбросив с себя напряжение страшной ночи, радостно, по щенячьи прыгал вокруг Ведаря, тычась мокрым носом в его ладонь, виляя хвостом. Мальчик, преодолевая онемение в ногах и дрожь в коленях, впервые за долгое время улыбнулся – скупой, но настоящей, светлой улыбкой, в которой была и радость, и гордость, и облегчение. Он посмотрел на свою руку, покрытую мозолями от тренировок с деревянной палицей и работой с ножом. Она больше не была рукой ребёнка. Она была рукой стража. И у него был брат, с которым они прошли через ад и остались вместе.
Вечером у общего, зеленоватого, холодноватого огня Засеки, вокруг которого собирались оборотни, чтобы погреться в молчаливом братстве и помолчать, глядя в пламя, Крак тихо сказал, не глядя на них, уставившись на языки пламени: – Чуете, щенки? Воздух колет, как иголками. Земля поёт злую, тревожную песню. Исконные шевелятся. Не как обычно, по-хозяйски, а с яростью. Скоро ваши уроки пригодятся по-настоящему. Не для тренировки. Для дела. Для крови.
Ведарь молча кивнул, глядя на своего друга, который, прижавшись к его ноге, внимательно слушал, уши его были направлены вперёд. Он чувствовал. Лёгкую, едва уловимую дрожь земли под босыми ногами, металлический привкус страха и решимости на языке, который теперь нужно было глотать и превращать в сталь. Война, о которой он знал лишь из рассказов Стрибоги и Крака, приближалась. Её дыхание было уже слышно в шелесте листьев, в напряжённой тишине леса. Но он больше не боялся так, как прежде. Он и Храпок были разной крови, но одной судьбы, одной воли. Они нашли свой дом не в тёплой, безопасной избе, а здесь, на этой проклятой и святой земле, среди этих изувеченных, озлобленных, но несгибаемых воинов. Они были новой стеной. Невидимой, тихой, но готовой устоять перед надвигающейся тьмой. И они были готовы платить за это любую цену. Вместе.
Глава 11. Явь и Навь у Порога
Ритуал повторялся каждое утро с тех самых пор, как на пороге её курной избы пробился из земли нежный, серебристый росток. Едва первые лучи осеннего солнца, бледные и холодные, золотили коньки на крышах соседних хат и разгоняли ночную хмарь, Весея уже стояла на пороге. В её огрубевших от постоянной работы руках деревянный, выдолбленный из липы ковш с чистой, студёной водой из колодца, что находился в самом низу деревни, у подножья холма. Воздух пах дымком, прелой листвой и влажной, засыпающей на зиму землёй.
Она осторожно, с безмолвной молитвой, поливала корни Деревца. Оно стояло уже выше её роста, стройное и непохожее ни на одну породу из окрестных лесов. Его ствол, цвета лунного света, был гладким и прохладным на ощупь, а редкие листья-крылья отливали живым перламутром и тихо звенели от каждого её прикосновения, словно глиняные колокольчики-обереги, что вешали в хлеву от дурного глаза. Воздух вокруг него был гуще, слаще, пах мёдом и свежестью после грозы, резко контрастируя с привычным миром, полным запахов дыма, земли и человеческого жилья.
«Вот, доченька, – начинала она свой ежедневный, односторонний разговор, усаживаясь на заскрипевшую от времени и непогоды лавку, поставленную тут же, лицом к чуду. – Ночью ветер с запада дул, в щели свистел. Думала, частокол старый повалит. К утру стихло. Небо в тучах, к ненастью, видать. Собрала вчера последние ягоды калины в овраге, насушила на зиму. В закромах пусто, но хлебушка из последней муки на неделю хватит…»
Она вела эти беседы о быте, о погоде, о мелочах деревенской жизни. О том, как соседка Гостена приходила, принесла лепёшку ячменную. О том, как старый пёс Полкан заныл на луну, чуя что-то недоброе. О том, как скучает. Как вспоминает её, маленькую, бегущую босиком по двору. Эти разговоры были её молитвой, её заклинанием, тонкой нитью, связывающей два мира. Она почти отвыкла плакать. Острая, режущая боль первых дней и недель уступила место глухой, привычной, ноющей тяжести на сердце, как ноет непогода в костях у старых людей. Её жизнь теперь чётко делилась надвое. Была Явь – дневная, полная тяжкого, но знакомого труда: дров наколоть, скотину покормить, скромную трапезу приготовить. И была Навь – утренняя, тихая и таинственная, уходящая корнями в самую сердцевину Иномирьья. Час у Деревца был её личным стоянием на рубеже, её долгом и её единственной надеждой.
Иногда, нечасто и всегда нежданно, ей отвечали.
В один из таких дней, когда воздух уже плотно пах осенней прелью и дымом из печных труб, ствол Деревца задрожал, словно от порыва ветра, которого не было. Воздух вокруг застыл, натянулся, как тетива лука перед выстрелом. И в самой его сердцевине, среди тонких ветвей, свет сгустился, заиграл всеми цветами радуги и стал принимать форму. Словно сквозь плотную, струящуюся воду, Весея увидела смутный силуэт.
Очертания стали чётче, обретая плоть из света и тени. Вот длинные, знакомые до боли пряди волос, вот бледное лицо, вот большие, широко раскрытые глаза. Дарина. Но это была уже не та испуганная девочка, что ушла в лес за ягодами. Её черты стали резче, взрослее, в них появилась неуловимая глубина и отрешённая мудрость, не по годам спокойная. Она выглядела как юная жрица древних сил, стоящая по ту сторону бытия.
– Мама, – её голос звучал яснее, теряя прежнюю эховую размытость. Он был похож на шелест листвы и тихий перезвон хрусталя.
– Дочка! Родная моя! – Весея вскинулась, сердце её, привыкшее к тихой тоске, заколотилось с новой силой, смесью радости и щемящей боли. – Как ты? Жива ли? Здорова ли? А дети? Малыш, волчонок?
– Живём, – ответила Дарина, и её слова были медленными, обдуманными, будто ей приходилось вспоминать человеческую речь. – Растём. Великое Древо оберегает, кормит нас своими соками. Волчонок… он уже не волчонок. Храпком его зовут. Стал стройным, сильным. Ходит с Оборотнями на рубежи, учится у них. У Крака. – Она сделала маленькую паузу, её светящийся взгляд будто уходил куда-то далеко. – А малыш… Ведарь. Он молчит. Но его глаза… они всё видят. Всё понимают. Он растёт с знанием этого места.
– А ты? – выдохнула Весея, вглядываясь в сияющие черты дочери. – Ты… становишься другой. Чужой.
Дарина посмотрела на свои полупрозрачные, светящиеся изнутри руки. – Я становлюсь собой, мама. Тем, кем должна быть здесь. Голосом Древа. Его волей. Его частью. Здесь… здесь время течёт иначе. Здесь иначе дышится, иначе думается. Я помню тебя. Помню запах печёного хлеба из нашей печи. Помню, как отец… Твердослав… качал меня на плече. Но эти воспоминания… они как чужие. Как страница из берестяной книги, которую я когда-то читала в другой жизни. Они больше не греют изнутри.
Весея сглотнула горький комок, подступивший к горлу. Её дочь уходила от неё не в смерть, что конечна и понятна, а в нечто непостижимое, вечное и оттого вдвойне страшное. С каждым таким разговором, с каждым её появлением родная кровиночка отдалялась, превращаясь в духа леса, в Древень, как назвала её когда-то Старуха-Путница.
– Я… я принесла тебе кое-что, – спохватилась Весея, желая вернуть хоть крупицу былой близости. Она зашла в прохладную, пропахшую дымом и сушёными травами избу и вынесла аккуратно свёрнутый узел из грубого холста. – Рубаху новую сшила. Долгими вечерами. Из того льна, что самотканкой нынешним летом уродился, мягкий такой. Бабка Гостена говорила, ткань, сотканная с заговором да с любовью, силу особенную имеет… Может, пройдёт? Примете?
Она развернула ткань. Это была простая, без лишних украшений рубаха, кроем какая носили в их деревне. Но каждая ниточка в ней была спрядена и соткана её руками, с мыслями о дочери, с надеждой. Дарина молча смотрела на дар, и в её глазах, полных иной мудрости, мелькнула тень чего-то тёплого, человеческого. Затем она медленно, будто преодолевая невидимое сопротивление, протянула свою полупрозрачную руку.
И случилось чудо, малое и великое одновременно. Ткань не прошла насквозь. Кончики её светящихся пальцев упёрлись в шероховатую льняную ткань, и по поверхности рубахи пробежала лёгкая, зыбкая рябь, словно от брошенного в воду камня. Дарина смогла взять её. Она прижала материнский подарок к своей невесомой груди, и на её вечном, отрешённом лице впервые за всё время этих встреч появилось что-то похожее на настоящую, человеческую улыбку – тёплую, благодарную и бесконечно печальную.
– Спасибо, мама, – прошептала она, и её голос на миг стал прежним, девичьим. – Она… пахнет домом. Настоящим. Солнцем и … покоем.
В этот миг безмятежности с запада, со стороны главной улицы деревни, донёсся нарастающий шум – грубые, взволнованные голоса, тяжёлый, учащённый топот кованых сапог по утоптанной земле. Весея вздрогнула и резко обернулась, сердце ёкнув от предчувствия беды. К её двору, ломая утреннюю тишину, шли несколько мужчин из рода Медведя. Впереди – Ярополк, его лицо, обветренное и суровое, было искажено яростью и усталостью.
Силуэт Дарины дрогнул, задрожал, как отражение в воде от брошенного камня. – Их гнев… он жжётся, как огонь, – прошептала она, и её голос снова стал далёким,как эхо, уходящим в бесконечность. – Я не могу… их сила грубая, она рвёт нить… Прощай, мама… Береги себя…
Её образ расплылся, рассыпался на миллионы сверкающих пылинок и исчез. Деревце замерло, лишь листья его тихо и тревожно зазвенели, словно предостерегая о надвигающейся буре.
– Весея! – рявкнул Ярополк, не глядя на странное растение, которое все в деревне уже сочли либо проклятием, либо знаком благосклонности тёмных сил, и предпочитали обходить стороной. – Бросай свои ворожбы! Готовь припасы, знахарка! Раненых везут!
Весея, всё ещё держа в руках пустой деревянный ковш, кивнула, мгновенно переключившись на суровую реальность своего мира. Горевать и удивляться было некогда. – Сколько? Кто? – коротко спросила она, голос её стал твёрдым и деловым.
– Трое. Из рода Волка. На западной тропе, у Чёрного ручья, проклятое племя со стороны курганов устроило засаду на наш обоз. С солью и железом от купцов. Один тяжело, кишки чуть не наружу… Остальные порезаны. Вези свою траву, коренья, все свои снадобья! Быстро, я сказал!
Не говоря больше ни слова, Весея бросилась в избу. Её сердце, только что наполненное тихой печалью, теперь сжималось от знакомого холода страха. Там, у порога, оставался её хрупкий, как паутинка, мост к потерянной дочери, к миру Нави. А здесь, в Яви, её уже ждала своя, земная война – с болью, кровью и смертью. Раненые мужчины, её сородичи, нуждались в её руках, в её знании трав и кореньев, передаваемом из поколения в поколение.
Она на мгновение остановилась на пороге, окинув взглядом и серебристое, звенящее деревце, и удаляющиеся к центру селения спины воинов. Два мира, два долга. Оба требовали её целиком, без остатка. Она была матерью для двоих. Для дочери-духа, нуждавшейся в её памяти, любви и вере, чтобы не оборвалась последняя нить. И для всей деревни, для своего рода, нуждавшегося в её силе, в её умении залечивать раны и стоять рядом в горе.
Сжав в натруженной руке туго набитый узел с сушёными травами, берестой и чистыми тряпицами для перевязки, она сделала твёрдый шаг вперёд – навстречу приглушённым стонам, что уже доносились с площади, навстречу своей земной, тяжёлой доле. А за спиной у неё, как напутствие и как вечное напоминание, тихо и печально звенели листья Деревца, провожая её в мир, который она всё ещё могла защитить и исцелить.
Дорога к большой избе, где уже собирались старейшины и куда несли раненых, показалась ей бесконечно длинной. Она шла, глядя под ноги, но внутренним взором видя перед собой бледный, ускользающий лик дочери. «Расти, доченька, – мысленно шептала она. – Расти крепкой. Я с тобой. Всегда. И тут, и там». Её жизнь была мостом, и она знала, что должна держаться, чтобы не рухнули оба берега. Эта мысль придавала ей силы, заставляя выпрямить спину и ускорить шаг, оставляя у порога своё тихое, личное горе. Впереди была работа, боль и суровая правда мира Яви, который ждал от неё не слёз, а деятельной руки и твёрдого сердца.
Глава 12. Первая Кровь Ведаря
Западный рубеж Засеки был местом, где сама ткань мироздания истончалась до предела, словно ветхая ткань, протёртая на сгибах временем и непогодой. Его не отмечали ни валом, ни частоколом из заострённых брёвен, как это делали люди в своём мире. Его границу знали по иным, куда более зловещим признакам, понятным лишь тем, чьи души срослись с этой землёй. Воздух здесь становился вязким и тяжёлым, словно сироп, и звенел незримым напряжением, от которого закладывало уши и сводило скулы. Деревья, некогда могучие и прямые, росли здесь скособоченными, их стволы покрывались неестественным, маслянистым сизым налётом, а листья, даже самые зелёные, казались окаменевшими, не шелестели на ветру, а лишь тихо позванивали, словно ледяные сосульки. Тишина стояла абсолютная, мёртвая, не нарушаемая ни пением птиц, ни стрекотом насекомых. Лишь изредка из-под земли доносился глухой, скрежещущий гул, от которого стыла кровь в жилах и холодела душа. Это было преддверие Глубин, щель в полунощной стороне мира, откуда веяло дыханием северных Исконных – существ древнего хаоса, порождений изначального льда и безмолвной, всепоглощающей пустоты, что существовала ещё до рождения первого духа.
Именно сюда, на эту «обкатку», Волкомир привёл небольшую группу молодых, ещё не обстрелянных оборотней и с ними – Ведаря. Пятнадцатилетний юноша, выросший в суровых условиях пограничья, уже не был тем испуганным мальчиком, которого когда-то привела под крыло хижины Стрибога. Длинные, жилистые конечности, собранные в постоянной пружинистой готовности, цепкий, всё замечающий взгляд, привыкший выхватывать малейшее движение в хаосе теней и листвы, – он напоминал молодого хищника, ещё не познавшего всю меру своей силы, но уже чувствующего её в каждом мускуле. Его лицо, лишённое детской мягкости, было отмечено печатью сосредоточенного знания, а в глазах цвета летней грозы жила глубокая, не по годам взрослая серьезность, оттенённая вечной тенью пограничья.
