Первый тайм
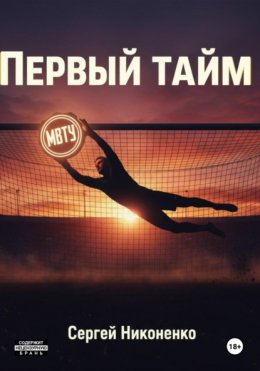
Краткое предисловие. Впрочем, кому как.
– Девушка, вы откуда?
– Я с АСУ.
– Так я и не спрашиваю, чем Вы занимаетесь.
Мне интересно, откуда Вы.
Анекдот Советского времени
Много воды утекло. А, может, не только воды. Пока есть ещё определённая живость в членах, нужно … да что там, просто необходимо напомнить себе, родным, знакомым и заодно однокурсникам, как оно было. И да, в смысле, нет, это не автобиография. Это практически мимолётные видения тех времён, когда деревья были большими. Когда сиреневые кусты цвели только для тебя и твоей любимой девушки, когда ты возвращался в общагу с последним составом метро, а жизнь расстилалась перед тобой как ковёр – самолёт. Многое забылось. А что-то имело значение только для меня.
Итак, в 1983 году я поступил в Московское Высшее Техническое Училище имени Н.Э. Баумана. А в 1989 году победоносно его закончил. Примерно об этом времени и пойдёт речь. Долго думал, писать ли от своего имени, или от имени какого-нибудь лирического героя – а потом махнул рукой. От себя писать куда проще. Потом размышлял о подмене имён своих друзей. Наверняка так было бы честнее, и это позволило бы быть посмелее … в характеристиках и оценках, но опять же лень накатила и взяла своё.
Извиняться за лень как-то глупо, но вы, друзья мои, не обессудьте. Да и эпиграф дурацкий какой-то. Пошлый, конечно. Но мне смешно. Если ещё какую гадость вспомню – обязательно вставлю. Чтобы был повод по-детски похихикать. Название, правда, пафосное: Первый тайм. Ну, вы поняли. Вроде как уже отыграли. А иногда мне кажется, что ещё и не начинали, и под трибунами продолжается незримый торг судьбы.
Хотел было затронуть тему поколения, пережившего … ну, что-то там такое особое пережившего. Но родителям нашим было куда сложнее. А уж про дедов и бабуль говорить нечего. Смотрю на детей и внуков – у них свои сложности. То буллинг, то кринж, то ещё какая-то хрень появляется и обрастает заимствованными словами и неясным смыслом. Так что ничего такого уж особенного мы и не пережили. Просто жили и живём как можем.
Но так хочется, чтобы нами кто-то гордился, ставил в пример и говорил, возбуждённо тыкая пальцем: – Видал, какой? Шоб я так жил!
Потому я и взялся за эту писанину. Хочу поблагодарить Олю Доценко, которая буквально не судом заставила меня это сделать. Ну, а что? Давно хотел заняться литературой, но раньше всё как-то литература занималась мной, приходя на помощь в минуты счастья и мгновения отчаяния.
Ну-с, друзья мои, приступим.
Топает малыш
Топ-топ, топает малыш,
С мамой по дорожке,
Милый стриж.
Маленькие ножки не спешат,
Только, знай себе, твердят.
Топ-топ, очень нелегки,
В неизвестность первые шаги,
А в саду дорожка так длинна,
Прямо к небу тянется она.
Михаил Ольгин, песня Майи Кристалинской
Приступим то мы, приступим, конечно. Но, как любого болтуна, меня отчётливо ведёт далеко в сторону уже в самом начале истории. Да ведь и правда – надобно прояснить, как я умудрился стать, вопреки своим интересам, инженером и пронести факел технического просвещения через жизненные пути многих людей. Возможно, даже погубив их коптящим светом и даже этого не заметив.
Научился читать я рано, вот в чём дело. Мама рассказывает сейчас, как я из своей кроватки постоянно сообщал: – Мама, я читаю. Она мне не верила сначала. Сейчас то этим никого не удивить. Дети либо уверенно читают, одновременно сминая материнскую грудь, либо вообще не понимают, о чём идёт речь, если «в книжке нет картинок или хотя бы стишков». Даже помню, что моя первая книжка была большого детского формата и про богатырей. И даже пахла богатырями. Пластмассовыми. Я выбирал слово, складывал его из кубиков и показывал маме. Маме нездоровилось, она лежала, укутавшись, на диване, но по-матерински терпеливо сносила потуги сыночка к просвещению. Главное, спустя некоторое время, я уже вполне самостоятельно разбирал написанное без содействия кубиков и помощи мамы. Но безмерное тщеславие и жажда похвалы раз за разом толкали меня к демонстрации. Только бы услышать ослабевший голос: – Молодец, Серёженька. Кстати, время прошло, но ничего в этом смысле и сейчас не изменилось.
Для гостей нашей семьи было придумано отдельное пикантное развлечение. Меня ставили на стульчик, и я с выражением перечислял фамилии членов Политбюро ЦК КПСС, включая кандидатов в этот гм… орган. Запинался только на Мжаванадзе. Ну, послушайте, на этом парне запнулся бы и более искушенный оратор, а не только прелестное дитя в моём лице.
В детском саду читал сказки своим друзьям вместо воспитательниц. Подруг в этом возрасте ещё не было, поэтому девочки тоже были друзьями. Только в футбол с нами не играли. Занимались своими дурацкими куклами и мягкими игрушками. Особых дивидендов мне это не приносило, но, честно говоря, на них и не рассчитывал. Просто нравилось быть в центре внимания. Так то мальчики добиваются этого, играя на гитаре, или просто становясь хулиганами, фриками или великими спортсменами. Ну а у меня, как видите, своя фишка: работать языком. В фонетическом смысле.
На собеседовании при поступлении в 1 класс директор Пётр Иваныч попросил почитать букварь. Ухарски открыв последнюю страницу, я без запинки оттарабанил теперь уже и не вспомню, что именно. Картинку запомнил: Красная площадь и Мавзолей Ленина. И какая-то тётя с ребёнком с благоговением смотрит вдаль в сторону ГУМа. Возможно, это просто сестра вела маленького брата в музей. Не исключено, что сейчас я всё искренне переврал. Моё почтение!
В школе любил писать сочинения. Причём писал всякую чушь, похлеще, чем вот это всё бурное многословие. Нина Фёдоровна относилась к моему графоманству снисходительно, и свои опусы я проверял сам. Её совет был бесценен: – Серёжа! На экзаменах пиши простыми предложениями. Подлежащее, сказуемое и там разве что дополнение. Мама мыла раму. Понятно?
К сожалению, Серёжа был слишком туп и самоуверен, чтобы внимать чужим советам, и в будущем он неизбежно много раз поплатится за этот педагогический дефект. Наконец, в 14 лет этот недоросль закончил 8 классов и встал перед нелёгким выбором.
Гуманитарий не состоялся
Ветер летит полями
Штирлиц сожрал салями
Интерпретация 8 «Б» класса выпуска 1983 года
средней школы № 29 г. Тамбова
Мне то, кстати, казалось, что нет ничего легче. Можно было подать документы на дальнейшее обучение в «немецком» классе, либо выбрать «математический». Как раз, кстати, я не хотел быть пожарником или космонавтом. Немецкий язык мы учили со 2 класса, я свободно читал и даже разговаривал. Вполне естественно, что наша «немка» Марина Александровна всячески мотивировала меня на дальнейшее развитие в этом направлении, чтобы с лёгкостью допрашивать немецких фашистов, если они опять появятся и полезут на рожон. То есть, на нас. Кроме этого, раскрывались блестящие перспективы посещений ГДР, катаний на пластиковых Трабантах, прослушивания ост-роковых групп вроде Пудиса и Карата и созерцаний Бранденбургских ворот и Рейхстага до кучи.
Так что я выбрал «немецкий» класс и в прекрасном далёко – роскошную гуманитарную карьеру.
Математичкой у нас была великая Вера Фёдоровна, к которой пытались пристроить своих чад амбициозные родители со всей округи. Более того, она совмещала математические розги для своих учеников с нашим классным руководством. Мы по недомыслию и малолетству даже не понимали, насколько нам повезло в жизни. Где она меня заловила и прищучила – не помню уже. Допустим, в учительской, в которой, кроме нас, почему-то никого не было. Мистика! И Вера Фёдоровна очень убедительно показала, что все мои друзья записались на математику, что немецкий язык при желании никуда не денется, а математика всегда пригодится. Вдобавок, логарифмической линейкой можно отгонять мух. А таблицами Брадиса обмахиваться в целях прохлады и личного комфорта. На следующий день, сгорая от стыда, я забрал своё заявление из «немецкого» класса, выслушав множество возражений и допущений в стиле: Да ты подумай ещё! Мне кажется, ты торопишься! Зачем ты ставишь на себе крест? Donnerwetter! – И всё в таком духе.
Последние два школьных года я отучился в «математическом» классе, математика у нас шла парами каждый день, разделённая между Матанализом, Алгеброй и Геометрией. Нельзя сказать, что я хватал какие-то необыкновенные звёзды с математических небес. Сочинения, между прочим, я продолжал строчить в своём дурашливом многословном стиле, с обилием причастных и деепричастных оборотов. Однако чего уж там: пятёрошный аттестат, золотая медаль и значок ЦК ВЛКСМ, на которые меня вытянула незабвенная и уважаемая Вера Фёдоровна, открыли все возможные парадные входы и аварийные выходы, только выбирай, да не ошибись. И я выбрал. Не знаю, удивитесь ли вы, но моя цель была очень далека от математики – Филологический факультет МГУ. Большим плюсом было и то, что экзамены в Университет проходили в июне-июле, а в остальные ВУЗы – в августе. Так что можно было в случае полного провала попробовать свои неимоверные силы ещё разок. Но я то… я то был в себе уверен как Илья Муромец, сползающий с печи после оздоровительных процедур перехожих калик. Таким образом, в июле 1983 года Серёжа отправился в Москву, чтобы стать выдающимся филологом, лингвистом и, да что там! – великим словесником, труды которого потрясут воображение потомков и основы Бытия. Вместе со мной отправилась мама, ибо её сыночка хоть и мнил себя незаурядным умником, но надо же как-то питаться, гладить штаны, в смысле брюк, и вдохновляться грядущими событиями. Нужно было сдать один основной экзамен на «пять», и, благодаря золотой медали, Вася оказался бы в тапках. Ну, конечно, не Вася какой-то мифический, а вполне конкретный Серёжа. Ну и, понятно, не в тапках, а в прекрасном здании МГУ на Ленинских горах. А экзамен этот – Сочинение.
Мама в своё время училась в Москве в заочном инженерно-строительном институте. Иногда на сессию мы сопровождали её в разнообразном семейном составе. Так что, с большой долей вероятности, меня сложно было удивить Москвой. Бывали и в Третьяковской галерее, и в Донском монастыре, и в Коломенском и даже в Загорске. Не говоря уже о картинке из букваря, только наяву. Но в этот первый раз, когда я явился в столицу абитуриентом и считавшим себя взрослым дядей, всё было иначе.
Квартира, которую мы снимали у знакомых, располагалась на 16-ой Парковой улице. От Павелецкого вокзала добрались на метро до станции Первомайской, а оттуда – на трамвае вдоль по Первомайской же улице до искомого перекрёстка. Москва встретила нас ярким солнечным утром, улица была тенистой и заросшей лохматыми деревьями, а навстречу катили поливалки – сразу несколько в ряд. Вроде бы ничего особенного, но именно мокрая мостовая, вся в искрах от солнечных зайчиков, запала мне в сердце. Так глубоко в митральный клапан, что я твёрдо решил, что обязательно буду здесь жить. Не работать, не учиться, это само собой, а именно жить. В квартире оказался работающий магнитофон и несколько катушек с плёнкой. Господи, да какая плёнка! Магнитная лента, 10 тип! Впервые в жизни я услышал Депеш Мод и песню Хозяин и Слуга именно здесь. Везде написано, что она записана в 1984 году. Ну что же, значит я путешествовал во времени, не иначе! Послушал – пожал плечами. Воспитанный братом Андрюхой на Дип Пёрпл, Юрай Хип и шедевральной дворовой песне «Водосточная труба», к Депешам отнёсся скептически. Так, пищат там чего-то. Особенно в припеве.
Думаю, что я подал таки документы, ведь каким-то образом очутился на экзамене, в конце концов. Катался на какие-то консультации, а потом неожиданно для себя вышел на станции Ленинские горы, которая находилась и находится, только под другим названием, посреди Москва – реки на мосту. В сущности, это называется метромостом, но я засомневался в правописании. Что на метромосту, что на метромосте – не благозвучно. Кстати, пока я учился, эта станция по неизвестной мне причине постоянно была закрыта. Ну, это просто Собянина тогда ещё не было. По крайней мере, в Москве. Где-то он прохлаждался в своём Ханты-Мансийске, а народ в первопрестольной страдал и никак не мог перейти с одного берега на другой.
Так вот, вышел на этой чудесной станции, спустился на травяной пляж и решил окунуться. Привык к летним омовениям в своём Тамбове и думал, что везде одинаково. Не обратил внимания, что народ то практически не купается, а так стоит, демонстрируя любопытным гражданам в поездах метро свои впуклости и выпуклости. Занырнул и по привычке открыл в пучине очи. Батюшки! А вода же ярко-оранжевого цвета! Так и глазам вытечь в эту яичницу недолго. Вылетел из воды как пробка, а по реке идёт себе теплоход с гражданами отдыхающими и разносится из репродукторов песня «Как скучно жить без светлой сказки» голосом Александра Монина, вокалиста группы «Круиз», приписанной к Тамбовской филармонии. И такая гордость меня взяла. Необыкновенная, доложу вам. В столице этой, куда не плюнь, везде следы тамбовских выдающихся деятелей. Вот какая гордость! Пообсохнув и оставив свои следы на горячей траве, отправился восвояси домой.
И тут началось. Мне завтра на экзамен, понимаешь, белая рубашка отутюжена мамой, опять же брюки – нечаянно складкой обрезаться можно. Всё в полной готовности, а у меня жар. И, знаете, такая крупная дрожь, словно кто-то залез в нутро и оттуда безнадёжно икает, сотрясая хрупкий организм. Можно, конечно, сослаться на оранжевую воду, да только экзамен этим не перенесёшь. У меня таким Макаром, оказывается, панические атаки протекают, как я самолично для себя установил. Первый раз это случилось в школе, уже и не припомню, какой именно экзамен тогда готовился сдавать. И вот снова здорово. К утру, правда, всё стихло, температура вернулась в зону слабости, анемии и дистрофии, а мальчик всё-таки отправился на свой самый главный экзамен. Сочинение рожать на пока неизвестную тему.
По-моему, был дождь. А, значит, я шёл под зонтом, нарядный и непотопляемый. В поточной аудитории, где проводился экзамен, у абитуриента захватило дух. И не мудрено, ведь всюду, куда не посмотри, сидели, стояли, мило беседовали и плавно расчёсывались девочки, девушки и тёти. Вот это – думаю – повезло мне! Хоть бы одна мысль мелькнула, что я выбрал себе какую-то женскую профессию – куда там! Конечно, некие частные вкрапления пацанов имели место. Все, как китайцы, на одно лицо. Только дамы блистали незаурядной внешней индивидуальностью. У одной, скажем, рыжие волосы и веснушки, у другой – пышная грудь волнами гуляет при каждом вдохе, у третьей чувственные пухлые губки, а у четвёртой – такие ушки – маленькие, аккуратненькие – просто прелесть! Но вообще-то, кто их знает теперь, какими были эти красавицы. Сел посередине длинного полукруглого ряда, а справа, слева, ниже и выше – сплошь красотки, стремящиеся в филологию. Вместе со мной.
Выбрал тему сочинения по рассказу «Крыжовник» Антона Палыча Чехова. Ничего, что так фамильярно? Чехова люблю за то, что «Вишнёвый сад» у него комедия, а в большинстве рассказов в конце повествования все умирают. А ещё, а ещё – сейчас я путаю «Крыжовник» с «Ионычем». Конечно, когда поступал, то не путал ничего. Но суть прозы Чехова понятна – бедные, несчастные люди, никчёмная и бессмысленная жизнь, не приносящая радости ни себе, ни окружающим. Поспорьте со мной. Только как следует!
Так или иначе, расписал весь этот жизненный конфликт пространно и с энтузиазмом. Надо было бы перечитать, переписать начисто, вложить всю душу и несостоявшийся талант, но … традиционно подумал, что и так сойдёт. Страшно захотелось в туалет. Ну то есть вообще невыносимо. Ко всему прочему кругом девочки, а я так застенчив, что аж самому противно. И, главное, сдуру уселся посередине ряда. Чтобы выйти, придётся поднимать десяток очаровашек, а потом ещё возвращаться. И все, все без исключения в курсе, зачем я выхожу и что собираюсь там делать. Здравый смысл должен был подсказать, что всем, по большому счёту, фиолетово. Но несущееся галопом воображение было уже не остановить. Так что я собрал свои листочки, поднял пол – ряда и сдал сочинение одним из первых, если не первым. Преподаватель изумлённо таращился. Вот, собственно, и всё. Столько эмоций и буквально физических страданий, а вспомнить то и нечего!
Не было раньше никаких Госуслуг и прочих полезных штукенций и приблуд, поэтому за оценкой я отправился очно. Лично. Или, как сейчас сказали бы, офф – лайн. Листочки с оценками красовались на стенде под стеклом. И ещё сверху такая крышечка была двухскатная. Чтобы атмосферные явления не донимали. По крайней мере, верхние строчки. По привычке долго искал себя среди пятёрок. Мелькнула мысль, что перепутали, должно быть, фамилию. Настроение сразу ухнуло вниз. Посмотрел четвёрки. И там нет. Люди, да этого просто не может быть! Здесь явно какая-то ошибка! Тройки даже не разглядывал, взгляд сразу упал на двойки – и опа! Здесь то я и очутился. Как и рассчитывал – первым. Только в непривычном для себя положении. Как маме сказать – не знаю даже. Спотыкаясь, куда-то пошёл для подачи апелляции. Назначили на завтра. Ну что же. Есть хлеб – будет и песня. Так начинается книжка Леонида Ильича Брежнева «Целина». Цитирую эту пословицу в том смысле, что мы де ещё повоюем. Впрочем, на дворе было время Андропова. Время разнообразных патрулей, выявляющих тунеядцев и прочий асоциальный элемент в рабочее время, когда пролетарии умственного труда у кульманов умножают валовый продукт социалистического Отечества. И я временно стал одним из таких праздношатающихся.
На апелляции сутулый преподаватель протянул мне исчёрканный красными чернилами текст моего сочинения. В панике начал искать ошибки, но к своему удивлению не обнаружил ни одной. Вообще я тогда считал, что являюсь счастливым обладателем врождённой грамотности. Все красные волны и подчёркивания обозначали ошибки стилистические. Ну, например, из того, что я запомнил, было выделено такое: Подбородок на подбородке сидит и подбородком погоняет. Почему-то я решил, что это крайне остроумно в отношении Николая Иваныча с его крыжовником. Да что там! Весело, искромётно, оригинально! Слово «креативно» я тогда ещё не знал. А так то да, креативно. Проверяющий придерживался прямо противоположного мнения. И тут я вспомнил советы Нины Фёдоровны: Подлежащее, сказуемое, дополнение. «Николай Иваныч купил усадьбу». «Николай Иваныч взял крыжовник». «Николай Иваныч выпил водки». Какие, к чёрту, погоняющие подбородки? Началась затяжная дискуссия. Универовский деятель, наконец, вздохнул и молвил: – Молодой человек, ну хорошо. Допустим, поставим мы Вам три. Да пусть даже четыре. Пять мы после двойки ставить не имеем права. Что с того? У нас конкурс – десять человек на место. Вы только время зря потратите! – Тут я разродился безотказным, как считал, доводом: – Вам что, мальчики не нужны? – Сегодня это расценили бы как двусмысленное предложение. А тогда – ровно так, как спросил. Преподаватель неопределённо пожал плечами, и тут, наконец, у меня получилось рассмотреть его повнимательнее. Во-первых, лысина и куцый венчик волос, невесомо просвечивающий на солнце. Во-вторых, неровный слой перхоти на голове и плечах. Мощные диоптрии в очках, потускневших от прилежных занятий языковыми формами, демонстрировали всему миру будто удивлённые глаза. И ещё: стоптанные каблуки на ботинках с какими-то будто обкусанными шнурками. Это что же, я тоже таким стану в старости, которая наступит немедленно после того, как мне исполнится тридцать лет? И тут я малодушно сдался. Попытки получить в приёмной комиссии документы обратно были отбиты. Оказывается, нужно было ещё взять справку из общежития, что я там не обитал, погрязнув в разврате, и не спёр примус из кабинета пожилой комендантши. Общага была где-то на проспекте Вернадского, и на свежем, звенящем от радостного ветра воздухе я, наконец, разрыдался. Это был жизненный крах. Нелепица. Сюр. Позор. Так накрылась преподавательской перхотью моя заветная мечта: нести людям Свет Существительных, Глаголом жечь сердца и Наречиями указывать дорогу к простому человеческому Счастью.
Так что гуманитарий из меня не состоялся. Не получился. Что же мне делать то, Господи, научи!
Смена курса
Молодые специалисты, окончившие
один – МАИ, а другой МВТУ,
поступили работать в один отдел.
Но вот незадача, у маишника оклад 140 рублей,
а у бауманца – 120.
Парень идёт разбираться в кадры.
– Ну, что же Вы хотите! Ваш коллега
институт закончил, а Вы всего-навсего Училище!
Анекдот Советского времени
Ведь есть же среди ваших знакомых особого качества люди. Их жизненное кредо – только вперёд. Не стоит оглядываться по сторонам, а, тем более, стенать по прошедшим неудачам. Последняя страница перевёрнута. Книга прошлого закрыта. Впереди – новые вызовы, и встречный ветер ворошит волосы, ведь в будущем – только хорошее. Может показаться, что я к таким людям отношусь с неудовольствием. Не знаю наверняка. Кого-то, с другой стороны, может раздражать моё постоянное копание в прошлом опыте и давно отживших отношениях. Тут уж ничего не поделаешь, терпите. Без прошлого не бывает настоящего, а без настоящего – будущего, пусть это и банально звучит. Я действительно люблю возвращаться не то, чтобы к событиям или обстоятельствам, но к людям, которых я любил или люблю до сих пор. Уверен, что в каждом из нас есть особое место в душе, где стоят маленькие домики, тепло озарённые светом изнутри. И в них живут наши любови и привязанности из того самого времени, когда эта любовь или привязанность давала нам силы жить и быть счастливыми. Главное, чтобы этот свет никогда не погас, независимо от того, можно ли туда вернуться или путь уже заказан. Иначе, откуда же черпать эти силы? Только из любви. А «только вперёд» тоже работает. Просто, я не знаю, как.
На следующий день после своего эпического провала я подал документы в МВТУ. На факультет Приборостроения, сокращённо «П». И тут же вернулся в Тамбов, чтобы подготовиться, как следует. А готовиться было к чему. Золотая медаль никуда не делась, и нужно было просто успешно сдать первый экзамен. Базовым первым экзаменом, конечно, было не сочинение, а физика. С физикой же в нашей прекрасной спецшколе были определённые проблемы. Не исключено, что эти проблемы были вызваны моей личной тупостью, ведь по результатам 1 четверти 9 класса в дневнике красовался трояк. Потом ситуация выровнялась, благодаря победоносной Вере Фёдоровне, но при оценке знаний по этой дисциплине мы испытывали определённое напряжение. В нашем классе физику вела Валентина Арсентьевна Барсукова. Не смог я с ней найти общего языка, ну никак. Сейчас уже бессмысленно оценивать уровень преподавания, а заодно и усвоения материала, но физику я практически не знал. Особенно тяжело давались задачи. Лично мне Валентина Арсентьевна запомнилась по объяснениям закона Бойля – Мариотта. Ей по какой-то неведомой причине очень нравилось словосочетание «гофрированный цилиндр», и она в разных вариациях повторила его раз десять, так что даже я запомнил этот несчастный цилиндр на всю жизнь. Дети потихоньку хихикали, но, к сожалению, знаний им это не прибавляло.
Оказывается, для оценки моих знаний по физике Вера Фёдоровна организовала целую комиссию городского отдела образования, которая меня экзаменовала. Так мне рассказывает мама. У меня этот факт абсолютно вылетел из головы. Будто некто нажал на волшебную кнопку в памяти и вычеркнул начисто этот критический момент. Или растущий детский организм таким склерозом защищался от стресса? Якобы я был признан годным по физике, и с тех пор не имел проблем с оценками. Подчёркиваю: якобы. Но кем бы мы стали без помощи хороших людей?
В отделе учебников книжного магазина приобрёл «Пособие по физике» Мясникова, и недурно проводил время на пляже Красненьского карьера. С утра до обеда занимался заданиями, прерываясь на короткие заплывы. Практически каждый день в обед на город наползала недовольная чем-то туча, и приходилось возвращаться домой под горячими струями летней грозы. Прорешал весь задачник три раза подряд и выучил пособие практически наизусть, загорел как чёрт, а жизнь словно застыла в нежелании расставаться с летом. С последним летом моего детства.
Тем временем, папа и мама убеждали меня отдохнуть, хотя уставшим я себя совершенно не чувствовал, как следует подготовиться и поступать на следующий год. Скажу больше, по возвращению из Москвы дома меня ждал виниловый проигрыватель, точнее, дека высшего класса Рижского радиозавода Радиотехника – 001, усилитель и небольшие колонки также рижского производства S-30. Интересно то, что проигрыватель сломался буквально в первый же день, но после быстрой починки служил мне верой и правдой больше десяти лет, периодически перемещаясь между Тамбовом и Москвой. А усилитель собрал мой старший брат Андрюха. Он то у меня рукастый и головастый, а на мне природа решила отдохнуть, да разморилась и уснула на солнцепёке.
Год оказался в определённом смысле переломным не только для меня, но и для брата. Он как раз закончил Тамбовский институт Химического Машиностроения, и был призван в ряды Советской армии. Так что ему до отъезда также остались считанные недели. Поступи Андрюха в своё время в Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники – судьба сложилась бы совсем иначе. Но братан хитроумно слился из Череповца, не без оснований полагая, что отслужить пару лет ещё туда-сюда, а служить всю жизнь, отдавая честь направо и налево в неизвестных удалённых и, вероятно, весьма горячих точках – ему не с руки.
В общем, несмотря на солидную музыкальную поддержку, лукавый родительский план не сработал. Вновь закуплены билеты на 31 московский поезд, опять мы с мамой поздним вечером в него погрузились, и на следующий день проехались уже известным маршрутом на 16-ю Парковую улицу к границе заросшего всякой растительной всячиной Измайловского парка.
В детстве мама научила меня играть в шахматы. По крайней мере, двигать фигуры. И как-то хозяин квартиры, горя энтузиазмом, предложил мне сыграть партию. Я долго отнекивался, справедливо полагая себя слабым игроком и совершенно не желая проигрывать. Но он был крайне настойчив. К моему удивлению, мужик не имел ни малейшего представления о «детском» мате в три хода, который я ему и продемонстрировал. Так что всегда найдётся кто-нибудь слабее даже в тех вопросах, где вы читаете себя абсолютным слабаком, вот вам мой финальный вывод.
В большой аудитории в старом корпусе Училища проходила профессиональная ориентация. Разглагольствовал качающийся на стуле то ли аспирант, то ли студент старших курсов, то ли электрик хозяйственного подразделения. Жизнерадостный парень, вправляющий мозги абитуриентам. Планировал я было поступать на специальность П-6 «ЭВМ и системы», но консультант со смехом меня разубедил. Оказывается, туда берут только москвичей, и существует большая разница в баллах. Для иногородних вступительный балл – 20, то есть все пятёрки, а для москвичей – 17. Можно подумать, да какая мне разница, если собирался сдавать только один экзамен? Но сомнения и отсутствие жизненного опыта одолевали.
– Что же тогда выбрать? – робко поинтересовался у молодого знатока.
– Да вот же, Автоматизированные Системы Управления! Туда идут одни иногородние. И общагу дают. Будете все вместе жить и учиться. Красота, одним словом!
В общем, я перестал сомневаться и определился с будущей, как свято надеялся, специальностью. П-5, «АСУ». Подписал какую-то бумажку и был свободен до экзамена. Пособие Мясникова у меня было с собой, посему быстро нашлось увлекательное занятие: очередное штудирование задачника, пока глаза не полезли на лоб от удовольствия и умственного избытка.
Не знаю, сдаёт ли нынешняя молодёжь какие-нибудь экзамены, вроде тех, через горнило которых прошло моё поколение. Ну, как горнило. Слово нравится, есть в нём что-то птичье, а смысл не очень. То ли дело: ЕГЭ. Слово какое-то потешное, но жизнеутверждающее во всех смыслах. Всех завели в огромную аудиторию, пофамильно обилетили и персонально приголубили, обеспечили бумагой и рассадили по местам. За каждым столом размещался индивидуально взволнованный абитуриент и трясущимися руками разглаживал экзаменационный билет, пытаясь уразуметь, о чём там, собственно, идёт речь. Момент был настолько напряжённый, что я до сих пор помню вопросы, которые мне предстояло, так сказать, осветить при сдаче. И всё это враки, что в Бауманке сложные вопросы в билетах. Здесь они были элементарны, и при желании я бы и сейчас смог вытащить из себя парочку уместных фраз про гофрированный цилиндр.
Первый вопрос про относительное движение. Это, когда поезда выходят навстречу друг другу, один из Бологого, а второй … да пусть из Твери, и нужно определить кто относительно кого, да с какой скоростью, и когда, наконец, произойдёт счастливая встреча двух одиноких сердец. Главное для машинистов, чтобы они не по одним и тем же рельсам катились. Ещё неплохо, когда они, наоборот, разъезжаются. И тут вдруг один из поездов проскакивает Бологое и поворачивает на Москву за своим нехитрым железнодорожным счастьем.
Это я настрочил быстро и вдохновенно. Второй вопрос был тоже про движение. Броуновское движение в газах. Это только кажется, что вокруг нас ничего нет. Оказывается, повсюду молекулы, которые двигаются хаотично и постоянно сталкиваются, грозя нарушить общественное равновесие и гомеостазис Вселенной. А, если их ещё, как следует, разогреть, то они так и норовят преодолеть земную гравитацию и раствориться в космических далях. Ответ на эти два больных вопроса мироздания занял у меня от силы минут двадцать. Венцом же билета была задача, рисунок которой и условия занимали отдельную страницу. Какие-то фантастические свинцовые шары разной массы и один железный подвешены, кто на чём. Кто на верёвке, кто на леске, кто … в общем, главное, не на соплях. А ещё какие-то катаются по желобам. То стукаются друг о друга, то притягиваются, а то вдруг отталкиваются и оттягиваются. В общем, всё как у людей. Требовалось вообразить их взаимное расположение спустя некоторое время непрерывного взаимодействия.
Я бы никогда не смог даже подступиться к такой задаче, если бы не одно «но». Какой-то ленивый преподаватель с кафедры физики тупо позаимствовал её из небезызвестного вам пособия Мясникова один в один. Даже условие не изменил. Понятно, что мне не составило особого труда после четырёх решений решить её в пятый раз. Скачал сейчас из Интернета пособие и попытался найти в нём эту задачу. Не нашёл. Видимо, всё-таки несколько переврал какие-то конкретные моменты, но смысл остался тем же в плане сложности.
Итак, спустя примерно час после начала экзамена, я поставил жирную точку и начал, легка подпрыгивая от возбуждения, тянуть руку, чтобы меня вызвали и примерным образом допросили. Однако неслышно перемещающийся консультант попросил опустить руку и дождаться, пока меня вызовут. Таким образом, я провёл в аудитории ещё пару часов. Прыгал. Ёрзал. Пытался помочь соседу сзади. Сидел неподвижно как истукан. Однако всё когда-нибудь да и кончается. Услышав свою фамилию, вспорхнул в проход и уселся на жёсткий стул перед женщиной -преподавателем с безумно утомлённым лицом и усталыми глазами. Которыми сразу впилась в задачу и, спустя минуту, отложила её в сторону. Задала какой-то незначительный уточняющий вопрос про Броуновское движение и подвинула к себе экзаменационную ведомость.
– Ну, что же пять, молодой человек.
У меня даже в голове зазвенело от счастья и глубины самореализации. И я так с детским восторгом:
– А Вы знаете, я медалист!
Женщина на мгновение подняла на меня ничего не выражающее общее выражение лица и тихо произнесла:
– В коридоре рядом с дверью висит объявление, где завтра состоится собрание для вас. Всего хорошего!
Тут я полетел по лестницам Училища и никак не мог приземлиться. Через некоторое время полёта безнадёжно заблудился. Вошёл в альма-матер со стороны 2-й Бауманской улицы, а вышел, в конце концов, со стороны речки Яузы. И долго кружил по окрестностям, постоянно переспрашивая встречных прохожих о станции метро и шарахаясь от звонко трезвонящих трамваев. Ещё какая-то подвода медленно прокатилась по переулку, и я почувствовал себя практически Ломоносовым. Промелькнул Бауманский рынок, тогда ещё существующий и вполне жизнеспособный. И вот я в метро.
Мама в это время не находила себе места от волнения. Уже дело к вечеру, а этого недоучившегося олуха всё нет. На щёках и лбу на нервах вздулись разноцветные шишки, но мама их не замечала. Трель входного звонка. В дверях, упершись одной рукой в притолоку, другой, лихо подбоченясь, стоит сыночка и, как всегда, неумно острит:
– Ну, мать, заказывай панихиду!
Мама хватается за сердце.
– Поступил!
Мама заливается слезами.
– Ну вот! Не поступишь – плачут, поступишь – плачут. Не поймёшь вас!
И, страшно довольный собой, сыночек обнимает маму и устремляется на кухню.
Почти студент
Шумел вокзал, как праздничный базар
Подали поезд на второй перрон
Какой-то непонятный был азарт
Когда входили сразу все в вагон
И подали состав и чай подали
И поезд побежал в далекий край
И ровно так колеса застучали
Не забывай, не забывай, не забывай!
Не забывай, как в салочки игра
Она – ему и он обратно ей
Как будто все ребята со двора
Сбежались проводить своих друзей
Владимир Харитонов, песня Яака Йоалы
Не зря мне папа с мамой виниловый проигрыватель купили. Это правда. В школьном детстве, когда я вовсю заслушивался запилами зарубежных рок-гитаристов на магнитофоне в компании брата и его приятелей, я заявил им с вызовом:
– Вот вырасту, и будут у меня пластинки. И я их стану слушать, а не эти ваши магнитофоны.
На что все дружно рассмеялись и начали меня подначивать, да знаю ли я, сколько одна пластинка стоит, да в курсе ли, где их берут. С общим итоговым выводом: это просто невозможно, потому что такого не бывает в принципе. В общем, это резонно. В Советском Союзе было прекрасно поставлено дело с записями классической музыки, частично, джаза и Аллы Пугачёвой. В качестве заменителя рок – музыки населению предлагались Вокально – Инструментальные ансамбли. Как правило, эти коллективы вываливались на сцену табуном, в котором обязательно на фоне поющих парней выделялись поющие девушки, а также с полдюжины исполнителей духовой секции. Среди доступных лицензий в стране преобладали итальянцы, а также популярные в стране поп- и диско- группы, вроде АББА. Особый интерес представляли так называемые «демократы», то есть исполнители из стран социалистического блока Восточной Европы и лицензии, которые издавались там же. Это было гораздо увлекательнее. Впрочем, брожение умов началось уже давно, и молодёжь заслушивалась магнитоальбомами, то есть, переписанными на магнитофон аналогами настоящих виниловых альбомов советских групп. Искренне считаю, что рока, как такового, там тоже не водилось, даже среди горячо обожаемых мной «Карнавала», «Динамика», «Круиза», «Диалога» и «Воскресенья». А «Машину Времени» я и тогда почему-то не любил. В отличие, скажем, от «Аквариума».
Сейчас в каждом городе есть, по крайней мере, один магазин, торгующий виниловыми пластинками. Кроме Нового Уренгоя, хотя допускаю, что я чего-то не знаю. В Тюмени этим занимается мой приятель Сергей на Холодильной улице в магазине «Меломан». В Тамбове тоже имеется полуподвал на пересечении Октябрьской и Базарной. В Москве в студенческую пору лично у меня было четыре излюбленных точки. Фирменные магазины «Мелодия» на Калининском и Ленинском проспектах, ГУМ на Красной площади, куда можно было в то время ходить не на экскурсию, а за покупками и платформа Тарасовская, на которой в годы перестройки поставили ярмарочный павильон, с торговлей лицензиями и фирмОй по выходным дням. Приезжал туда за час до открытия, и всё равно выстаивал в очередях.
На следующий же день после своего оглушительного экзаменационного успеха я отправился на Калининский проспект с целью непременного ознакомления и возможного приобретения какого-нибудь невозможного и дефицитного винила. Для тех, кто не в теме: Калининский проспект – это сейчас Новый Арбат, а, вместо «Мелодии», помещение занимают какие-то совершенно не музыкальные кофейни. Если, разумеется, их не прихлопнула вездесущая пандемия. Откуда у меня деньги взялись? Мама дала. Сейчас почему-то стыдно об этом вспоминать.
И, что вы думаете? В магазине я обнаружил новейший, с пылу с жару, альбом группы «Пудис» из Германской Демократической Республики. Хотел было написать по-простому ГДР, но вдруг осознал, что многие не смогут толком расшифровать. Альбом под названием «Карьера компьютера», зелёненький такой. Тогда это было модно. То «Крафтверк» запишет «Мир компьютеров», то Лариса Долина споёт про любовь персональной электронно-вычислительной машины к практикантке Кате. Конечно, я немедленно приобрёл новый альбом и поехал с ним в МВТУ на послеэкзаменационное собеседование. Не скажу, что нас было много, счастливых отличников. Что наполнило меня самомнением по самую макушку. И даже превысило где-то, судя по шевелюре торчком. Получив ценные рекомендации по устройству в общагу и по графику торжественных мероприятий для новообразованных студентов, покатил домой, пока что на 16-ю Парковую. Хотя, между прочим, мог бы спокойно устроиться в общагу и привыкать понемногу к студенческому быту без поездок туда-сюда.
Значительно позже, экономя на питании, купил у фарцовщиков альбом Алана Парсонса «Глаз в небе» за 55 рублей, а у дипломника в общаге, распродающего свои винилы, «Burn» незабвенной «Deep Purple» за 60 рублей. А сколько мог бы съесть еды! Хорошо, что родители об этом ничего не знали.
Рано утром на Павелецкий вокзал из Тамбова должен прибыть состав, с которым в столицу приезжает мой братан Андрюха для транзита в ряды Советской Армии. Поезд прибывал настолько рано, что на метро мы никак не успели бы его встретить, поэтому наутро поехали на такси. И я ещё захватил с собой пластинку похвастаться. Всё – таки я был какой-то прикольный дурачок. Будущий служивый народ выпал из поезда в разобранном и частично невменяемом состоянии. Ребята бухали всю ночь напролёт, и теперь, выкатив красные белки глаз, устремились к зданию вокзала в поисках безалкогольных жидкостей и пищевых добавок к ним. Пока мама обнималась со старшим сыном, попытался порассказать, что я теперь студент, и вот гля – кось, какая у меня пластинка теперь есть. Андрюха реагировал на маму очень уверенно, а на меня весьма умеренно. Выяснилось, что его направляют в Западную Группу Войск. То есть в Европу. Кто-то из парней занял на вокзале очередь за Фантой. Стакан стоил 20 копеек, между прочим. Для очереди стало большим сюрпризом, когда к освежающей точке неожиданно подвалил вагон духовитых и распаренных мужиков. У которых совсем скоро начиналась новая жизнь. А мне предстояло вернуться в Тамбов, сложить там пожитки и отправиться в Москву уже окончательным студентом и в гордом одиночестве. Набившая оскомину, пока я здесь про неё писал, пластинка пока осталась на малой Родине.
Кому-то может показаться, что это мелочь, которой не стоило уделять только внимания. Что сказать на это? Раз она так засела в голове, значит информация для чего-то необходима обитаемой части нашей Галактики.
Для поездки меня снабдили большим чёрным чемоданом. С ручкой. Он мне служил верой и правдой несколько десятков лет. И до сих пор устало дремлет на полке в родительской квартире. Удивительно, что для переездов почему-то не было сумок на колёсиках и других достижений цивилизации. Так полжизни я и прошатался с чемоданом. Зато в качестве позитивной компенсации получил в награду длинные красивые волосатые руки.
Общага №8 МВТУ располагалась между 6-й и 7-й Парковыми улицами прямо, можно сказать, на опушке Измайловского парка, которая называется Измайловским проспектом и в своё время была практически пешеходной. Не знаю, как сейчас. Линия метрополитена проходила открытым способом примерно в 100 метрах от входа в корпус, а за ней начинались заросли. Собственно, и станция Измайловская является открытой платформой, и занятно было наблюдать, как вынырнувший из тоннеля состав с той или другой стороны подбирается к перрону. За столько лет нисколько не приелось. С одной стороны станции темнела аллея парка, с другой —несли вахту сиреневые кусты вдоль её забора. От Павелецкого вокзала до Измайловской можно было попасть двумя способами. Первым пользовались всякие понаехавшие и лохи, которые со своими баулами не в состоянии отличить бордюр от поребрика. Вроде меня. По подземному пешеходному переходу, который когда-то украшал привокзальную площадь, нужно было протащиться метров пятьсот, а вдобавок ещё и на поверхность вылезти. С тем самым чёрным чемоданом. Затем спуститься на станцию Павелецкая Кольцевой линии и там добраться до станции Курская, что у Курского вокзала. Ещё один утомительный переход, и ты, наконец, на Арбатско – Покровской линии, она ещё тёмно-синим на схемах метрополитена обозначалась. Ну, а там каких-то 15 минут, и вот ты уже на выходе Измайловской в районе 3-й Парковой улицы. Оттуда пешком и быстрым шагом до общаги всего-то 11 минут. Засекал!
Но был (и есть) способ для продвинутых, можно сказать, коренных москвичей, которые прожили в столице уже больше месяца и чувствуют себя в метро как снулая рыба в мутной воде. Ловите лайфхак. Спускаешься прямо на вокзале на Павелецкую радиальную, и по зелёненькой линии поднимаешься до станции Площадь Свердлова. Сейчас то она Театральная в честь Большого театра, что ли. Если события будут развиваться как сейчас, думаю, что скоро её переименуют обратно. Тут нужно пересесть на станцию Площадь Революции. Причём сам пеший переход лучше игнорировать, а использовать эскалаторы на подъем, а затем спуск. Ну, а дальше всё, как в первом способе. Абсолютно без какого-либо напряга конечностей.
На платформе метро обнаруживаю своего одноклассника Лёху Рыжова, тоже с какими то авоськами и свёртками. Обрадовался ему так, поскольку после школы ни разу не видел. Лёха на уроках чистил монеты и заливал цветной эпоксидной смолой всякие узоры в деревяшках, которые сам же и вырезал долотом и стамеской. В общем, практически готовый инженер – рукоблудник.
– Лёха! Привет! Какими судьбами? Ты чего тут? Поступил, что ли, куда?
– Привет, Серёга! Ну, да, в Бауманское.
– Во как! И я в Бауманское! А на какую кафедру?
– Приборы! – Тут Лёха как-то даже ухмыльнулся.
– Смотри – ка, и я на Приборы! А специальность какая?
– П-5, АСУ.
– Лёха, скажи ещё, что группа первая.
– А как же!
Так мы оказались в одной группе П5-11 независимо друг от друга, ни разу не встретившись ни на консультациях, ни на экзаменах, ни вообще на поступлении. Вот что животворящая золотая медаль делает!
Даже в общаге наши комнаты были по соседству – у него 38, а у меня 39 на 6 этаже.
До торжественного вручения студенческих билетов, я умудрился встрять в эпичную историю разгрузки провианта для столовой Училища. Нам в деканате сухо и хмуро объявили:
– Ребята, нужно помочь!
Причём, не в главном корпусе, а напротив него, в Бригадирском переулке. Не просто мешки, а туши сырого мяса: свинина и говядина. Перетащить в подвал. Нам и в голову не пришло спорить или увиливать от работы. Правда, нас обеспечили какими-то драными халатами, дабы сохранить первозданную свежесть нарядных выходных штанов, надетых по причине визита в институт. Только вот перчаток или рукавиц почему-то не дали. Или что ли дали, но мне в них было крайне неудобно перетаскивать окровавленные и скользкие куски с торчащими рёбрами. Что справедливо, чай не неженки какие, а почти студенты. Примерно за час управились. В заключение нам позволили немного привести себя в порядок, помыть расцарапанные костями руки, умыться и … хотел было вспомнить, что покормили, но нет, не стали. Отпустили с Богом. К сожалению, у истории этой было продолжение. Через некоторое, крайне непродолжительное время, ладони, пальцы и запястья покрылись гнойными нарывами, которые не зудели, а прямо ревели мне в лицо при ближайшем рассмотрении: Займись уже нами! Самый хитрый нарыв умудрился обосноваться под ногтем большого пальца. Чтобы туда попасть, нужно было очень постараться, но он смог. Ковырял я их булавкой, ковырял. Мазал йодом, мазал. Плевал на них и в отчаяньи практиковал наружную уринотерапию. Жевал подорожник. Всё без толку. Спустя две недели я отправился то ли в травмпункт, то ли в пулуклиник, как выражался мой дед по маме Иван Корнеич Хабаров, на улице Первомайской.
В этом почтенном учреждении хирург долго смаковал мои болячки визуально. Но я не обращал на него внимания, поглощённый зрелищем великолепной рвущейся наружу из белоснежного халатика груди медицинской сестрички. И, пока девственник в моём лице будто случайно бросал взгляды на женские прелести, врач тихо и осторожно достал какие-то зверского вида кусачки и давай кромсать ноготь вместе с пальцем, искореняя нарыв, так сказать, в зародыше. Первые секунды мне даже больно не было. От шока, видимо. Тут и сестричка подскочила бинтовать то, что осталось. Так-то, товарищи! Лучшее обезболивающее и одновременно антисептик – женская красота!
Подумалось, что всё-таки у меня с головой не совсем в порядке. То ли задумываюсь частенько, то ли вообще ни о чём не задумываюсь, находясь в мыслительной летаргии. Вот взять эти несчастные нарывы. Или ещё был случай уже в довольно зрелом детстве. Шёл пешком на дачу, и тут меня обгоняет грузовик, ползущий по ямам и щебёнке немногим быстрее меня. И что я делаю, друзья? Подскакиваю к его заднему борту и повисаю на нём, чтобы, так казать, с комфортом и всеми удобствами прокатиться по жаре. Неожиданно для меня и только для меня нас встречает очередная яма. По инерции меня разматывает и плющит о борт. Весь ободранный, падаю на пыль и камни, глотая пыльный воздух. Хорошо, что дело закончилось ссадинами и испугом. С тех пор отношусь к себе с большим недоверием.
Посвящение в студенты проходило у главного входа Училища со стороны Яузы, через который меня вынесло в эйфории после экзамена. Хорошо, что погода сияла тёплом и солнцем, речка сонно качала уток на своей ядовитой воде, настроение было приподнятым. На собрании мы познакомились с однокурсниками, то есть я с ними, а они со мной. По-моему, нам был представлен Володя Лепёхин как староста группы. Хотя, кто там кого мог представлять, вряд ли. Скорее он сам себя представил. В итоге все отправились на стадион МВТУ, который красовался на другой стороне реки. По дороге я крайне хотел понравиться своим новым друзьям, безостановочно острил и рассказывал, как я считал, жизненные интересные истории. Когда мы уселись на трибуне, Андрюха Малыгин сказал проникновенно:
– Знаешь, я с тобой знаком всего пять минут, а ты мне уже надоел.
А Шура Крылов одобрительно заржал.
Становлюсь на крыло
По какой причине Разные на вкус
Кто-то словно дыня А другой – арбуз
Этот пахнет водкой Эта – молоком
И кефиром чётко Скиснет – но потом
В пост разит котлетой С жареным яйцом
А настанет лето – Свежим огурцом
Хочется конфеток Тающих во рте
Тётенек-нимфеток Склонных к красоте
Полижите пальцы У себя тайком
Вкусно словно сальце С острым чесноком
Как звучит уныло: Мойте руки с мылом
Стих мой, если что
Есть у заголовка небольшая история, связанная, правда, с новейшим временем, когда один из знакомых перебрался в Москву – жить и работать. На традиционные вопросы – Как дела? Чем помочь? – последовал вполне литературный ответ: Ничего не нужно, я становлюсь на крыло!
Понимать это нужно так, что ты начинаешь отличать вход от выхода, познакомился с окружающими тебя добрыми людьми, определил свои цели и потихоньку двинулся к ним. Обогащаясь новыми опытами человеческих отношений и производственной эквилибристики. И всё это, как понимаете, именно в Москве.
Примерно так и у меня, начиная с сентября 1983 года.
Дальнейшая история жизни разобьётся на фрагменты, которые никак не хотят складываться в картинку последовательных событий. Значит, так тому и быть. Изменился ритм жизни, ушло в прошлое привычное окружение, теперь всё зависит от Бога – и немного от нас, как поёт Николай Расторгуев.
Как домашнее чадо, никогда не ходил ни в какие рестораны и кафе. Припоминаю, был случай в раннем детстве, когда мы с папой попали под сильный дождь в центре Тамбова и завернули с ним, я имею в виду папу, а не дождь, конечно, в ресторан Центральный на Интернациональной улице. Там папа заказал цыплёнка Тапака, и, по детским понятиям, мы ждали целую вечность, пока нам не принесли его вместе гарниром из риса. Сейчас на месте этого ресторана, к сожалению, «Эльдорадо» обосновалось.
Сразу через дорогу от станции метро «Бауманская» в цоколе старого дома находилась, как теперь сказали бы, кофейня. Кстати, она и сейчас там под названием «Пан Круассан». В этом общепите разливали так называемый «бочковой» кофе половником, а за столиками нужно было стоять, положив локти на поверхность условной чистоты. «Бочковой» – это такой растворимый кофе со сгущёнкой. И, кстати, мы частенько туда захаживали, зажёвывая ядрёный напиток булкой, если не было иной возможности перехватить еды в Училище или общаге.
Для более торжественных целей служило заведение «Три коня». Не помню, как оно называлось на самом деле, только над входом свисала металлическая конструкция с изображением морд лихой лошадиной тройки. Вроде бы это было кафе, но состоящее из двух частей. На первом этаже – столовая с раздачей, а на втором – кафе с половыми … пардон, официантами и бухлом. Не был на втором этаже ни разу. По-моему. Но после экзамена или стипендии мы заходили туда в праздничной обстановке поесть чебуреков в столовой. Каждый брал по три чебурека (17 копеек каждый) и по стакану фанты (то, что он стоил 20 копеек, я уже сообщал). Никаких тебе салатов, закусок и борщей. Начинался невиданный пир, после которого студенты, покачиваясь от сытости и икая от газировки, потихоньку брели к метро. Вот написал об этом, и захотелось чебуреков: сочных и хрустящих одновременно.
На буфеты времени постоянно не хватало, поскольку там клубились очереди. У нас и в студенческом городке был и буфет, и столовая в общаге №4. И в главном корпусе Училища – целая дюжина буфетов, а также студенческая и преподавательская столовые на 1 этаже. Серьёзным образом изменились вкусовые пристрастия. Посмотрев на других ребят, начал есть сметану. В чистом виде. Ложкой. Благо, она практически всегда продавалась в буфете в стаканах (между прочим, 34 копейки), либо в полустаканах. Туда ещё хорошо макалась булка. Которую с таким удовольствием сосали я, мои товарищи и прочий учащийся элемент. Если с пары отпускали пораньше, можно было стремглав закупить жареную сосиску с томатным соусом в институтском буфете, и с тихой радостью наслаждаться ею, поглядывая на плакат с надписью:
Помоги, товарищ, нам:
Убери посуду сам!
Неизвестный крайне остроумный студент пририсовал запятую и обратную дугу к букве «С» в слове «сам», и плакат теперь выглядел так:
Помоги, товарищ, нам:
Убери посуду, хам!
Тарелки то были не одноразовые, а настоящие, фаянсовые, и мы, конечно, относили их в специальное окно, где их забирала приземистая тётя. А кто-то оставлял на столах целой грудой с объедками и салфетками. Хамы всегда прекрасно ощущают себя в любом здоровом коллективе.
Лучше всего пропитание было организовано в нашей 39-ой комнате, в которой обретались, кроме меня, ещё три парня. Пора бы, наконец, их представить. Уже упомянутый Андрюха Малыгин, омич. Володя Лепёхин, староста нашей группы. И, наконец, Стас Тарасов. Особенностью было то, что и Володя, и Стас уже отслужили в армии, но Володя в МВТУ поступил без экзаменов после успешного окончания подготовительного отделения. А Стас только дембельнулся в мае и сдавал экзамены на общих основаниях. Ну а мы с Андреем только оторвались от маминой юбки. Уж что – что, а яичницу мы бы сварганить смогли. Но, пожалуй, не более того. Володя всё чётко организовал. У нас в комнате назначался дежурный, который занимался уборкой на выходных. А ближе к вечеру, после окончания занятий, мы занимались приготовлением коронного блюда. Публикую рецепт, записанный спёкшейся кровью на внутренней диафрагме моего студенческого живота. Едва разобрал выцветший текст.
Берётся огромная сковорода. Скорее всего, подсолнечное или постное, как его называли в нашей семье, масло наливается на полсантиметра. Конфорка включается на малый огонь. В разогретую жидкость чистится и мелко режется три средних или пусть даже крупных головки репчатого лука. Чистится картофан, по меньшей мере вровень с краями сковороды. Естественно, солится. Берется десяток молочных сосисок, каждая из которых надрезается по краю как шестерёнка. Сосиски выкладываются на готовую картошку сверху. В самом конце в блюдо выливается минимум поллитра, а лучше – больше, сметаны. Вся эта история перемешивается. Вуа-ля! Ужин готов! Сейчас бы я туда ещё чеснока забабахал. С перцем и хмелями – сунелями. Вход на кухню был примерно через коридор от нашей комнаты. Торжественное шествие сковороды привлекало общее внимание соседей. И, как только мы усаживались с ложками наготове, наши друзья как бы по делу, но тоже почему-то с ложками заглядывали «на огонёк». Так что мы не скучали вчетвером, а степенно, не торопясь, кормились из сковородки, как на Пасху в деревне, большим и сплочённым мужским коллективом. Спешить и чавкать считалось неприличным. А облизывать ложку – вполне достойным и уважительным по отношению к хозяевам занятием. Приятного аппетита! Потом сонный от объедания дежурный мыл сковородку.
История про географию
Нет в нашей жизни облегчения,
И наши души поломатые.
С одним последним утешением
Бредем в потемках наугад.
Ведь мы с тобой интеллигенция,
Нам ночью снится дивергенция,
Проклятый метод операторный
Мальтийский крест и диамат.
Виктор Отраднов, выпускник
ЭФФ ЛЭТИ 1970 года.
Кстати, в эпиграфе этой главы у бауманцев исполнялось вместо «проклятого» – «линейный» метод. Не мудрено, если учесть, какие мы тут все конкретные математики. Особенно, насчёт женского народонаселения.
Вообще, девочек в МВТУ было маловато. На иных кафедрах их вообще не было ни одной, зато учиться ничего не мешало. Исключение составляла как раз наша специальность, комплектуемая, в основном, из приезжих. В группе, в конечном счёте, с учётом перемещений и переводов, их, девочек то есть, было семеро. Правда, на дискотеках за девочку принимали ещё и Азата Муллагулова, моего друга на первых курсах, настолько он был миниатюрен и волосат. Попытки пригласить его на медленный танец вызывали у Азата самое искреннее возмущение и ажиотаж, оформленные в многоэтажный мат. Позже на факультете была организована кафедра, связанная с медициной, П-14. Студенты этой медицинской специальности ходили туда—сюда в белых накрахмаленных халатах, и большинство девушек постепенно перетекло туда. Оно и понятно, в казённом халате, чай, красивее, чем без него.
Помимо нас с Лёхой в нашей группе была ещё одна девочка из Тамбовской области. Есть такой райцентр на Тамбовщине – Ржакса. Оля Бочкова была как раз оттуда родом, хотя, соглашусь, название интригует. Вот и Оля, как полагается, очень смешливая. Инга Похосоева – из Улан – Удэ. Зульфия Курмангалиева – казашка. Впрочем, здесь я могу и ошибаться, как в фамилии, так и в происхождении; она училась вместе с нами очень недолгое время. Ольга Дергунова – из Северодвинска Архангельской области, как мне недавно шёпотом поведал Шура Крылов, а то я всё время путаю населённые пункты с ненаселёнными. Ещё Леночка Степанова из Орла. Две девочки появились немного позже. Оля Пожидаева была единственной москвичкой. А, кроме неё, у нас учился Андрюха Иванов, подмосквич. По-моему, из Сходни. Кроме Ольги и Андрея, все студенты были приезжими. Хотя, собственно, и Андрюха тоже жил в общаге. Из Сходни поди не наездишься. Мальчики жили на шестом этаже общежития №8, а девочки – на третьем. У них был свой отдельный девичий этаж, так что общее и взаимное целомудрие в половом вопросе было надёжно обеспечено администрацией и комендантом.
Ходил слух, что в Бауманку не принимают евреев. Скорее всего, враки, поскольку Миша Аджиашвили из параллельной группы сейчас прекрасно себя чувствует в Израиле. Но в то время считал это святой правдой, а Мишу – настоящим подлинным грузином. Не исключено, что в Училище тоже так считали.
В нашей группе все были либо медалистами, либо просто отличниками без медалей, либо краснодипломниками после техникумов или профессионально- технических училищ. Особую группу составляли ПОДовцы, которые отслужили в армии и отучились на подготовительном отделении. Кроме Володи, про которого я уже упоминал, ПОДовцами были Толик Демяник, молдаванин, и Юра Панфилов с Рязанщины. Был ещё Липский, про которого ничего не знаю и не помню, включая имя. Виктор, что ли. Он тоже был взрослым, по сравнению с бывшими школьниками, вроде нас, но продержался в МВТУ только первый курс. Или вообще один семестр. Одной же из самых экзотических фигур был и остаётся Андрюха Куприенко, взявший билет в одну сторону из Южно-Сахалинска в Москву. Если остальные ребята то и дело ездили домой на побывку, даже если малая Родина находилась в Бурятии или Омске, то Андрюха вообще никуда не ездил. И даже на летних каникулах оставался в одиночестве в пустой раскалённой общаге. С учётом того, что билет на самолёт стоил 150 рублей, а это почти 4 стипендии, в этом нет ничего удивительного. Можно было, конечно, добраться до побережья Тихого океана на поезде, а затем вплавь саженками до Сахалина, но, боюсь, что все каникулы ушли бы на дорогу, а силы – на преодоление водной преграды. А так то, согласитесь, впечатляет. Большая у нас страна. Протяжённая.
В общаге Андрюха жил в соседней комнате №40 и, вообще-то, также учился в параллельной группе. Кроме него, нашими соседями были Олежек Вачевских из Кирова (Вятки), Юра Катьянов – высокий блондин и знатный пермяк и Азат Муллагулов из Уфы. Юру дразнили «Катьянычем», поскольку на резонный вопрос, откуда он, собственно говоря, взялся, Юра отвечал – «дык Катьяновы мы, с Перми». Олежека называли «Вачиком», а у Азата настолько характерное имя, что само по себе уже выглядело как прозвище. Учитывая его … изящность, в ходу было «Азатец».
