В лабиринте сознания: Иллюcтрированный путеводитель по психиатрии
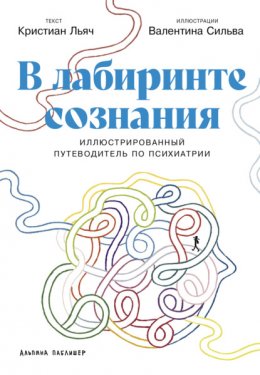
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Людмила Абракова
Научный редактор: Пётр Матвиевский, психиатр, врач высшей категории
Редактор: Юлиана Пшениснова
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Ольга Равданис
Арт-директор: Юрий Буга
Адаптация обложки: Денис Изотов
Корректоры: Оксана Дьяченко, Елена Чудинова
Верстка: Кирилл Свищёв
Леттеринг: Марина Бесфамильная
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Cristian Llach López, текст, 2023
© Valentina Silva Irarrázaval, оформление, иллюстрации, 2023
© Editorial Planeta, S. A., 2023
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2025
Всем, кто страдал или страдает
психическим расстройством
Предисловие
Психиатрия внушает людям сомнения, уважение, а порой страх. Зачастую она вызывает интерес, порождает любопытство и даже восхищает. Я еще не встречал человека, который относился бы к ней равнодушно. Именно поэтому я решил собрать воедино опыт и знания, накопленные мной в ординатуре – в то время, когда мы, медики, учились и становились специалистами. Мое первоначальное намерение при написании этой книги состояло в том, чтобы поделиться некоторыми сведениями о ментальном здоровье и психических расстройствах, тем самым пробудив по меньшей мере сочувствие к людям, которые от них страдают. Как известно, каждый стремится к тому, чтобы реализовать свою «энтелехию»[1]: это красивое слово обозначает нечто безупречное, идеальное, существующее только в воображении. Лично для меня энтелехия заключалась в особом подходе к предмету: я стремился описать научные и технические аспекты в стиле увлекательного рассказа, дать некоторое представление о том, как работает психиатр в наши дни, чтобы снабдить читателя необходимой информацией и расширить его возможности в этой сфере. Думаю, что моей идее о расширении возможностей в области психического здоровья предстоит еще пройти долгий путь.
Книга, которую вы держите в руках, позволяет посмотреть на психиатрию сквозь замочную скважину, увидеть закулисье этой науки со всеми ее слабыми и сильными сторонами и парадоксами. Я попытался объединить сведения, изложенные в наиболее авторитетных учебниках, руководствах по диагностике и в трудах корифеев этой дисциплины, чтобы преподнести читателю достоверную и исчерпывающую информацию в доступной и занимательной форме, и к тому же (почему бы и нет?) с иллюстрациями! Я стремился избежать ненужных формальностей, сохраняя при этом глубокое уважение ко всем людям, о которых не мог не думать, работая над книгой.
Сразу хочу уточнить некоторые моменты. В этой книге вы найдете ряд обобщений, касающихся психических расстройств (правильнее называть их нарушениями мозговой деятельности), но важно понимать, что каждый человек уникален и болезнь проявляется у всех по-разному. Как говорил Гиппократ еще в IV в. до н. э., нужно лечить не болезнь, а больного. Соответственно, рассуждая о какой-либо болезни, я кратко описываю то, что можно наблюдать у людей в целом, а не то, чем непременно будет страдать конкретный человек. Стоит добавить, что я сфокусировался на наиболее тяжелых формах психических расстройств (неофициально их называют тяжелыми психическими расстройствами). Это связано с тем, что, хотя у подавляющего большинства пациентов наблюдаются расстройства в легкой форме, знакомство с тяжелыми случаями позволяет лучше понять их сущность. Наконец, я старался как можно реже употреблять слово «пациент». На самом деле альтернатив ему немного, но, на мой взгляд, называть так человека неэтично, поскольку это слово подразумевает бездействие. Между тем в медицине в целом, а особенно в психиатрии, важно внедрить в коллективное бессознательное идею о том, что человек должен играть активную роль в управлении своей реальностью.
Что касается структуры, книга построена как экскурсия по лабиринту психиатрии. Сначала вы прочтете краткое введение, в котором содержатся важные пояснения и описываются инструменты, необходимые для того, чтобы сделать первые шаги и не заблудиться. Освоив практические и философские основы дисциплины, вы познакомитесь с ее историей, клиническими симптомами, несколькими концепциями нейронауки, а также составите себе общее представление о критериях психического здоровья и психопатологии. Ознакомившись с этой информацией, вы будете готовы поднять паруса, чтобы пуститься в плавание по океану наиболее распространенных расстройств, которые скрываются за каждым поворотом. Каждая глава (или остров) на нашем пути начинается с рассказов людей, страдающих рассматриваемым психическим расстройством. Затем следуют некоторые замечания общекультурного характера, описание симптомов и подходов к диагностике и лечению.
И, наконец, хочу кое в чем признаться. Пока мои руки печатали строки этой книги, из моей головы не выходили образы двух человек (вполне реальных для меня), которые стояли рядом и внимательно наблюдали за моими стараниями. Один из них призывал меня снова и снова проверять содержание и форму того, что я пишу, раз за разом уточняя: «Ты уверен?» Другой же следил за тем, чтобы написанные слова звучали доброжелательно: «Не знаю, сможешь ли ты наладить контакт с читателем». Эти два взгляда сошлись более или менее удачным образом в книге, которая сейчас перед вами. И теперь моя энтелехия состоит в том, чтобы оба этих критика, пусть и не в полной мере удовлетворенные, все же одобрили окончательный вариант.
Введение в психиатрию
Начнем с основного тезиса. Психиатрия возникла в результате особой встречи двух людей, у одного из которых были проблемы с мышлением, эмоциями и поведением (это гармоничное трио имеет большое значение для нашей дисциплины; далее я буду называть его МЭП), а у второго – стремление понять его и помочь.
Все, о чем вы прочтете ниже, появилось в результате этой встречи и сохраняется на протяжении столетий в виде размышлений, практики и исследований. Именно поэтому так важно в деталях проанализировать все, что происходит в рамках сценария, который сегодня мы называем клиническим интервью.
Клиническое интервью
Клиническое интервью, то есть диалог между психиатром и пациентом, – краеугольный камень психиатрической диагностики (а иногда и лечения). Оно позволяет понять, что случилось с человеком. В других областях медицины диагностика базируется в большей степени на результатах дополнительных обследований, таких как анализ крови, электрокардиограмма или нейровизуальные тесты[2]. В психиатрии такие тесты используются, чтобы исключить соматические[3] заболевания, которые могут напоминать психические расстройства (достаточно вспомнить анемию[4] и депрессию), или для отслеживания возможных побочных эффектов назначаемых лекарств.
Разговор обычно начинается с прямого вопроса: «Чем я могу вам помочь?», или предложения: «Вы можете начать, с чего захотите». Таким образом мы выясняем, что́ послужило поводом для обращения. На этом начальном этапе пациент и психиатр получают первое впечатление друг о друге, и формируется терапевтический альянс: взаимное доверие играет ключевую роль в понимании проблемы и осознании пациентом необходимости ее грамотного решения с помощью психотерапии[5] и/или медикаментов. Если пациенту трудно объяснить, что с ним случилось, психиатр поможет ему найти нужные слова.
В ходе интервью психиатр задает пациенту ряд структурированных вопросов, которые позволяют выбрать то или иное направление диагностики[6]. После первых общих вопросов специалист переходит к более конкретным, деликатным и личным, в зависимости от предполагаемого диагноза. Обычно они касаются соматических и психических заболеваний (самого пациента и членов его семьи), употребления психоактивных веществ и даже некоторых подробностей личной жизни пациента – так называемая социобиография, которая дает представление о последствиях психического расстройства.
Симптомы[7] и признаки[8], выявленные в ходе интервью, обычно группируются в различные синдромы (например, депрессивный синдром) и, в рамках этих синдромов, – в специфические расстройства, такие как большое или хроническое депрессивное расстройство. Важно помнить о том, что диагностирование конкретного синдрома или расстройства зависит от сложности случая и количества времени, имеющегося в нашем распоряжении. Например, при обращении за неотложной помощью обычно ставится синдромальный диагноз – нечто обобщенное, позволяющее принимать быстрые, но не вполне точные решения. Нередко и первая амбулаторная консультация заканчивается тем же самым. Но после нескольких систематических посещений (или нескольких дней в стационаре) легче уточнить и конкретизировать диагноз, а значит, и подобрать более адекватное лечение.
План лечения может заключаться в том, чтобы ничего не предпринимать, а просто успокоить пациента, если расстройства как такового нет (или оно выражено в легкой форме). Конечно, в идеале следовало бы организовать еще одно или два посещения, чтобы убедиться в достоверности этого впечатления. Но в некоторых случаях целесообразно сразу начать психотерапию или медикаментозное лечение.
Нормальность и здоровье
После клинического интервью пациент может выйти из кабинета с конкретным диагнозом или без такового. Психиатр должен определить, насколько специфичным, серьезным и отклоняющимся от нормы является состояние, описанное пациентом, и можно ли рассматривать его как совокупность симптомов или признаков, указывающих на какое-либо расстройство. После консультации человек обычно испытывает одно из двух ощущений: «Мне кажется, врач не придал моему случаю должного значения», или: «Психиатр преувеличивает». В самом деле, на чем основывается суждение о том, что нормально, а что нет? Мы посвятим несколько страниц размышлениям над этим вопросом.
Начнем с понятия «нормальность». Человеку удобно оперировать бинарными категориями: да или нет, нормальный или ненормальный, здоровый или больной, дееспособный или недееспособный, «Барса» или «Мадрид». Отнесение себя к той или иной категории дает нам чувство безопасности, ясности и принадлежности к группе, члены которой разделяют наше мнение. Кроме того, использовать такие понятия удобно и эффективно. Например, применение процентного соотношения, градации или шкалы отнимает гораздо больше сил и времени, поскольку существует множество вариантов, куда можно поместить значение переменной. А большинство людей стремятся действовать с максимальной эффективностью. Таким образом мы попадаем в одну из ловушек мышления.
Нередко разделить реальность на две категории оказывается трудно, как бы мы ни старались. Такое часто случается в медицине. Например, когда делается биопсия для диагностики онкологического заболевания и образец ткани направляется в лабораторию, патологоанатом рассматривает форму клеток под микроскопом. Порой эту форму нельзя признать совершенно нормальной, но и явных признаков злокачественности[9] тоже нет. Истина где-то посередине. Такая неопределенность вынуждает патологоанатома говорить об атипичных клетках. Как видим, границы между категориями очень размыты во многих случаях, а в психиатрии тем более. Используя термин «гипотимия» (пониженное настроение), мы проводим воображаемую линию, разделяя людей на две группы: те, у кого гипотимия есть, и те, у кого ее нет. Как мы уже говорили, данный подход эффективный, но не всегда оптимальный. Важно помнить об этом, чтобы иметь возможность критически его оценивать.
Но на этом противоречия не заканчиваются. На протяжении всей истории человечества люди не могли прийти к единому мнению по поводу того, какие переменные следует использовать для обозначения нормального и ненормального, здорового и больного. Нормальное, или здоровое, иногда понимается как идеал. Так, зубы могут быть либо абсолютно здоровы, либо нет.
Если есть какой-нибудь симптом или признак (например, небольшое пятно), значит, зубы уже нельзя назвать полностью здоровыми. В психиатрии данную модель применять трудно, ведь существует множество симптомов (печаль, тревога, бессонница), которые могут проявляться в нормальных формах на протяжении всей жизни, не превращаясь в психическое расстройство. Не следует вешать на испытывающего их человека ярлык больного (а иначе мало кто из нас мог бы считаться нормальным).
Есть и другие подходы к разрешению этого вопроса. Один из них состоит в том, чтобы объективировать наличие известной проблемы. Если, например, мы обнаруживаем абсцесс зуба, это уже не норма. В психиатрии все гораздо сложнее: на сегодняшний день мы не располагаем тестами, которые позволяли бы оценивать тысячи мельчайших нарушений, лежащих в основе психического расстройства. Другая точка зрения базируется на дарвиновской теории естественного отбора, которая признает здоровым все, что позволяет выжить и обзавестись потомством. Однако известно, что, вопреки этому утверждению, у некоторых людей, страдающих определенными психическими расстройствами, рождается больше детей, чем у остального населения, считающегося здоровым. Парадокс, да и только!
Неужели здоровые люди – это те, кто не страдает, не обращается за помощью? Делать такой вывод опасно, поскольку при некоторых серьезных психических заболеваниях, таких как шизофрения или биполярное расстройство с выраженными маниакальными эпизодами, люди часто считают себя здоровыми, хотя окружающие убеждены в обратном.
Существует мнение, будто нормальное – это то, что встречается чаще всего. Получается, достаточно применить некоторые статистические законы – и дело в шляпе. Но что значит «чаще всего»? Такой подход дискриминирует, например, людей с очень высоким уровнем интеллекта, ведь по сути это аномалия, но она способствует адаптации к окружающей среде.
Следовательно, приходится признать, что критерием нормальности служит социальная адаптация: я нормален, или я здоров, если успешно интегрирован в общество. Но, придерживаясь такой позиции, мы как будто обижаем таких гениев, как Галилей: его революционные идеи о строении Вселенной противоречили представлениям большинства современников, так что его жизнь была очень непростой. И, очевидно, такой подход ущемляет всех людей, которые так или иначе не вписываются в общество. Например, по этой причине дискредитировали людей, которые чуть более полувека тому назад осмеливались критиковать советский строй: у них диагностировали психическое расстройство, для обозначения которого был введен диагноз вялотекущая шизофрения. Короче говоря, чтобы сформировать критическое мнение и избежать инструментализации науки, нам необходимо знать и учитывать культурные, социальные, политические и даже религиозные особенности общества, в котором мы живем. Но даже если мы постараемся их изучить, скорее всего, решать, что является нормальным или здоровым, а что – нет, нам придется… самостоятельно.
Существуют и другие, в том числе очень замысловатые определения нормального или здорового. Как видим, вопрос остается открытым и допускает множество разных ответов в зависимости от ситуации.
Современная диагностика
В наши дни большинство психиатров придерживается одной из двух систем классификации. Первая из них – «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, DSM), утвержденное и опубликованное Американской психиатрической ассоциацией (АПА); в настоящее время доступно пятое издание (DSM–5). Вторая система – «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ), разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и уже выдержавшая несколько изданий; на сегодняшний день мы используем десятое (МКБ–10). Критерии, используемые для диагностики психических расстройств, в этих двух системах несколько отличаются, поскольку каждая из них, в сущности, представляет собой результат согласованной работы разных экспертных групп.
При этом обе системы сходны в том, что в них используется категориальный подход, то есть диагностика расстройства определяется наличием соответствующих ему клинических критериев. Хотя некоторые расстройства могут быть обозначены как легкие, умеренные или тяжелые в зависимости от количества соответствующих критериев (чем их больше, тем тяжелее расстройство), эти диагностические системы не содержат градационную модель, в рамках которой симптомы могли бы фиксироваться как более или менее выраженные. Вместо того чтобы, например, оценить интенсивность печали на 8 баллов и тревоги – на 7, психиатр просто отмечает наличие соответствующих симптомов (то есть да или нет). Таким образом, если у пациента обнаруживается пять симптомов, то мы можем диагностировать тяжелую депрессию, а если их всего четыре, то поставить такой диагноз нельзя. В реальной клинической практике подобный подход приводит к щекотливым, порой абсурдным ситуациям, в которых мы вынуждены при постановке диагноза полагаться на свой предыдущий опыт и общее впечатление от пациента. Как можно понять из вышесказанного, само наличие разрозненных симптомов, таких как печаль, тревога или даже галлюцинации, не обязательно свидетельствует о психическом заболевании.
Использование классификации, основанной на бинарных категориях, имеет свои преимущества и недостатки. Основное преимущество состоит в том, что она обеспечивает эффективную коммуникацию между специалистами: двухстраничное описание обычно сводится к трем словам – «большое депрессивное расстройство». К тому же постановка диагноза зачастую приносит облегчение людям, которые могут наконец понять и описать, что́ с ними происходит. Кроме того, они получают доступ к лечению и социальным ресурсам, эффективность которых была доказана на практике. Но есть и минусы, поскольку диагноз по большому счету так и остается гипотезой: «Я считаю, что паттерн мыслей, эмоций и поведения этого человека эквивалентен паттерну большого депрессивного расстройства». Как и в случае с любой другой гипотезой, это может привести к ложноотрицательным или ложноположительным результатам и неприятным последствиям для пациента в обеих ситуациях. Вдобавок постановка диагноза может послужить источником стресса, особенно в обществе, где любые ментальные расстройства стигматизируются[10].
Помимо этого, и в DSM–5, и МКБ–10 подчеркивается: диагноз «психическое расстройство» ставится только в том случае, когда наблюдается значительный дискомфорт или ухудшение качества жизни человека в личной, социальной или профессиональной сферах. Например, маниакальный эпизод не всегда отвечает первому условию, но обязательно соответствует второму. Вместе с тем к каждому из возможных диагнозов добавляются два очень важных критерия: наблюдаемый паттерн не должен быть результатом воздействия токсичного вещества или следствием соматического заболевания (как мы уже отмечали, анемия может сопровождаться симптомами большого депрессивного расстройства).
Третий часто упоминаемый критерий заключается в том, что определенный паттерн нельзя объяснить никаким другим психиатрическим диагнозом. Таким образом, мы должны регулярно проверять наличие других расстройств, сходных с тем, которое мы подозреваем. Эта задача, известная как дифференциальная диагностика, часто вынуждает психиатра задавать пациенту множество дополнительных вопросов. Воспользуемся простым примером, чтобы показать, насколько важна грамотная дифференциальная диагностика. Один из распространенных поводов для посещения психиатра – необъяснимое чувство грусти, которое зачастую сопровождается признаками, позволяющими заподозрить большое депрессивное расстройство. Однако в ходе клинического интервью выясняется, что есть некая первичная причина этой грусти, которая, стало быть, вторична. Оказывается, пациент склонен к самоизоляции и избегает контактов с другими людьми. А почему он не хочет ни с кем контактировать? Возможно, опасается осуждения (социальная тревога) или приступа паники во время общения (паническое расстройство). А может, боится заразиться чем-нибудь при контакте с другими людьми (обсессивно-компульсивное расстройство), или его пугает собака, которая повсюду сопровождает компанию друзей (специфическая фобия), либо не хочет привлечь к себе внимание тем, что ничего не ест (расстройство пищевого поведения). Некоторые вообще не выходят из дома, полагая, что у них есть какой-то неприемлемый физический недостаток (дисморфофобия), не проявляют ни малейшего интереса к общению (шизоидное расстройство личности), имеют плохо развитые социально-коммуникативные навыки (аутистический спектр) или боятся социального отвержения из-за своих взглядов (как это бывает при некоторых расстройствах личности). Кроме того, иногда пациент опасается, что ему могут подсыпать яд в еду (психотическое расстройство). Таким образом, используя в качестве отправной точки первоначальный повод для консультации, в ходе клинического интервью можно пройти несколько путей, чтобы поставить окончательный диагноз.
Каждый диагноз должен соответствовать определенным временны́м критериям. Даже когда налицо все признаки большого депрессивного расстройства, мы не можем его диагностировать, если симптомы наблюдаются менее двух недель. И хотя некоторые пороговые значения могут показаться произвольными, в целом они очень важны, так как помогают убедиться в том, что наблюдаемый паттерн – не вре́менное явление, он свидетельствует об отсутствии у организма механизмов для восстановления и ситуация имеет тенденцию к закреплению.
Итак, какая классификация лучше? На этот вопрос трудно ответить однозначно. В данной работе я постараюсь объяснить суть каждого расстройства, основываясь на общих моментах обеих диагностических систем. Впрочем, с точки зрения структуры книги мой подход, пожалуй, ближе к системе DSM–5, в которой больше внимания уделяется историческому аспекту.
На протяжении всей книги (так же, как в DSM–5 и МКБ–10) я намеренно использую слово «расстройство», а не «синдром» или «болезнь». Синдром – это лишь совокупность одновременно появляющихся симптомов и признаков. Некоторые синдромы соответствуют известному паттерну, то есть набору симптомов, которые, как правило, проявляются все вместе и со временем развиваются ожидаемым образом. В случае если патофизиология[11] такого синдрома точно известна, принято говорить о «болезни». Например, мы знаем, что при болезни Паркинсона дегенерация области мозга, известной как черная субстанция (или черное вещество), приводит к появлению ряда определенных симптомов. Когда причины неизвестны, хотя и предполагаются, обычно используется термин «расстройство». В психиатрии мало болезней, зато много расстройств. Так, в DSM–5 описано целых 157 расстройств, самые распространенные из них – тревожные и аффективные. В следующих главах мы рассмотрим наиболее часто встречающие расстройства. Но сначала я предлагаю прогуляться в прошлое – в историю психиатрии и психических расстройств.
Эта сумасшедшая история
История? Конечно! Думаю, лучше всего начать с нее по одной веской причине. К тому времени, когда мы начали осваивать профессию врача и принимать своих первых пациентов, у нас за плечами было уже столько часов, посвященных изучению мозга, что мы знали каждую его извилину вдоль и поперек. Однако, открыв дверь своего кабинета, мы с изумлением обнаружили перед собой… не более или менее организованную массу нейронов, а человека с целым набором жалоб и запросов (и это в лучшем случае).
Обучаясь в ординатуре[12], мы узнали, что, помимо непосредственного применения знаний о мозге, следует адаптировать их к целому ряду «реальных» условий, чтобы предложить свою, уникальную, ориентированную на конкретного человека психиатрическую помощь. Кроме того, каждый день возникают вопросы, которыми люди задавались еще в Древнем Египте и Древней Греции: мы пребываем в депрессии потому, что погиб наш сын (например, в битве при Фермопилах), или потому, что нездорова та или иная часть тела? А может быть, виноваты ду́хи или все дело в помрачении души или рассудка? И есть ли разница между тем и другим? Что лучше – лечить человека словом или дать ему таблетку? Или просто помолиться?
Нейронаука (или нейробиология)[13] составляет мощный теоретический фундамент нашей работы, но она не дает ответы на все вопросы, да и не только она определяет нас как психиатров. К тому же нейронаука не является одной из специализированных отраслей медицины, как может показаться. Для того чтобы понимать, чем мы занимаемся (как психиатры) или с чем можем столкнуться на консультации (как пациенты), нужно знать, из каких источников пополняется питающая нас река знаний и каким образом они сливаются в ту диагностическую и терапевтическую систему, которую мы применяем сегодня. Психиатрия, название которой происходит от греческого слова ψυχή (душа), расположена на пересечении биологии и гуманитарных наук. Именно поэтому она так прекрасна… и в то же время так сложна.
Две истории науки
Почему я называю историю психиатрии сумасшедшей? Думаете, просто ради красного словца? Нет. Видите ли, у меня есть на то причины. Как утверждал выдающийся американский философ Томас Кун, естественные науки (то есть те, которые изучают объекты, такие как молекулы, планеты или человеческое тело) на протяжении веков развиваются более или менее последовательно благодаря тому, что он называл сменой парадигм. Если говорить упрощенно, то парадигмы по большому счету представляют собой различные мировоззрения и подходы к изучению чего-либо. Я рассматриваю их как совокупность теоретических предположений или закономерностей, которые мы можем использовать в ходе исследований. Рассмотрим пример духовной парадигмы, в рамках которой возникают различные теории: существуют ли злые духи, способные овладеть нами и наслать на нас лихорадку? Или температура тела повышается по воле олимпийского бога, которого мы обидели? Как бы то ни было, в определенный момент возникает оживленная дискуссия между теми, кто отстаивает эту парадигму, и теми, кто предполагает, допустим, что болезни возникают из-за дисбаланса неких субстанций в организме (называемых «гуморами»). В результате этого противоборства появляется новая парадигма, которая определяет подход к изучению причин различных заболеваний. Со временем другие мыслители предположили, что болезни вызываются микроскопическими организмами, проникающими в тело. Это приводит к очередной революции и появлению новой парадигмы, на которой в дальнейшем будет базироваться наука. Существует немало примеров смены парадигм: от предложенной Галилеем концепции Вселенной до ньютоновской механики, волновой оптики или теории электромагнетизма. Впрочем, я отклонился от темы.
В случае с гуманитарными науками, изучающими поведение субъекта, все гораздо сложнее. Дело в том, что в основе гуманитарных наук лежат несколько различных парадигм, многие из которых не исчезли, а продолжали существовать параллельно и сохранились до наших дней. В психиатрии субъект можно изучать с точки зрения биологической, психодинамической (как Фрейд и его учение), бихевиористской (наверняка вам знакомо имя Ивана Павлова и его опыты с собаками), когнитивной (когда болезнь понимается как результат нарушения когнитивных функций), социальной (когда в центре внимания влияние окружающей среды) и даже теологической парадигмы (хотя, к счастью, сейчас она уже не так популярна, как раньше). Достаточно прислушаться к вопросам, которые задают друг другу мои коллеги: «Какого направления придерживаются в твоей больнице – биологического или психодинамического?» Что за ерунда! Ведь я говорю о том, с чем мы сталкиваемся сегодня.
Почему ни одна парадигма не смогла воцариться окончательно и бесповоротно? Причину следует искать в природе того, что мы изучаем, то есть субъекта, который, кажется, поддается интерпретации.
В связи с этим важно рассматривать одновременно несколько различных парадигм, объясняющих то, что мы наблюдаем, с различных точек зрения. В самом деле, когда какая-либо одна парадигма преобладала над остальными, результат обычно был печальным, но об этом мы поговорим чуть позже, в разделе об антипсихиатрии.
Прежде всего замечу, что излагаемая здесь история главным образом западная: именно она оказывает наибольшее влияние на выбор методов лечения в моем окружении. Однако нельзя упускать из виду тот факт, что психические расстройства интерпретировались и изучались во многих культурах мира, то же самое касается и поиска нашей индивидуальности и исследования различий. История гуманитарных наук и, в частности, психиатрии – это история нескольких историй, движение которых напоминает траекторию маятника: то в одну сторону, то в другую, эпоха прогресса сменяется периодом спада. Так было и во времена великих путешествий, когда люди пересекали обширные пустыни и бескрайние степи, перебирались через опасные горные перевалы, чтобы найти прекрасную долину, где можно поселиться.
Великая классика
Линейно изложить историю нейронауки и психиатрии – задача непростая. Тем не менее я попытаюсь кратко рассказать о ней, сосредоточившись на психиатрии или, по крайней мере, на различных подходах к изучению разума, мозга и психических расстройств. Я остановлюсь на пяти важнейших вехах, или революционных сдвигах.
На заре человечества болезнь понималась как сверхъестественное явление в рамках религиозно-мистической парадигмы. Отклонения от нормы в функционировании организма приписывали воздействию духов и божественных сущностей. В некоторых культурах, чтобы установить социальный контроль, болезни объясняли нарушением культурных табу или религиозных традиций. При этом целители пытались вернуть людям здоровье при помощи ритуалов, направленных на изгнание злых духов или усмирение разгневанных богов.
Первой вехой в нашей истории стало смещение акцента со сверхъестественного на естественное – на то, что можно увидеть и потрогать, а именно – на человеческое тело. Первопроходцами в принятии этой точки зрения стали представители великих цивилизаций древности. Известно, что в доколумбовых культурах и в Древнем Египте применялись такие практики, как трепанация[14], которая проводилась для «исправления» физического субстрата, якобы вызывающего поведенческие нарушения, сегодня называемые «безумием». Так или иначе, похоже, в стране фараонов с мозгом не очень-то церемонились: в то время как сердце или печень усопшего тщательно бальзамировали, самый сложный орган во вселенной попросту выбрасывали. То, что сегодня кажется нам само собой разумеющимся (мозг – вместилище души или разума человека), не всегда было так однозначно.
Вторая веха относится к временам Древней Греции, примерно к V в. до н. э. Именно в этот период был заложен фундамент западной научной мысли, основанной на наблюдении и разуме, на котором она зиждется и по сей день. В ту эпоху жил человек, которого я назвал бы «дедушкой» нашей профессии – Гиппократ (или Гиппократ Косский). Этот врач и философ, во многом опередивший свое время, был первым, кто оставил нам труды с предложениями по классификации и описанию заболеваний, влияющих на мышление, эмоции и поведение (выше я уже упоминал МЭП), таких как меланхолия, мания, истерия и эпилепсия. На этом пути был достигнут значительный прогресс в плане концептуального изучения болезней, постепенного разделения религии и медицины, а также, к сожалению, тела и разума. Впрочем, успехи в выявлении причин болезней были намного скромнее: как правило, они объяснялись дисбалансом четырех гуморов, то есть жидкостей в организме (крови, слизи, желтой желчи и черной желчи). При этом между греками разгорались оживленные споры о том, какой орган за все это отвечает. Мозг или его извечный могучий соперник – сердце?
Эта классическая традиция сохранялась до эпохи Римской империи. Авл Корнелий Цельс в I в. до н. э. впервые предложил рассматривать отношения между врачом и пациентом как терапевтический инструмент, указывая на их способность подбодрить того, кто подавлен, и успокоить того, кто встревожен. Другие ученые, например Аретей Каппадокийский, пытались связать болезни с различными частями тела. Большинство нейропсихических недугов (к счастью) локализуется в голове, однако из этого правила есть несколько исключений. Так, истерия была отнесена к области живота, позднее ее стали связывать с маткой (от греч. ὑστέρα – матка) и рассматривать как типично женское расстройство. Меланхолию соотнесли с ипохондрией (от греч. ὑποχόνδριος – подреберье, место под грудиной) – областью, расположенной чуть ниже груди. Именно поэтому исторически понятие ипохондрии так часто переплеталось с депрессией.
Если Гиппократ – дедушка медицины, то Галена, несомненно, следует считать ее отцом. Труды этого греческого мыслителя, жившего во II в. н. э., в которых упоминаются все известные болезни человеческого тела, устанавливают догмат медицины (в его основе – как минимум 500 трактатов, чтобы записать их, по некоторым сведениям, потребовалось более двадцати писцов), на протяжении тысячелетия остававшийся неоспоримым. Гален предложил одно из первых описаний бреда и связал переживание стрессовых событий с тревожными и аффективными расстройствами, а также с симптомами, свойственными истерии. Как и в других областях знания, греко-римская традиция заложила основу наших сегодняшних представлений о мире и оставила нам в наследство многие термины, которые используются по сей день, такие как ипохондрия, мания, эпилепсия, бред, паранойя или либидо.
Шаг назад и два вперед
После распада Западной Римской империи Европа, утратив ориентиры, погрузилась (на свою беду) в эпоху Средневековья – мрачные, дикие времена, когда часы знаний остановились. Фактически наука откатилась на несколько столетий назад, вернувшись к религиозно-мистической парадигме, которую ранее с таким трудом удалось отбросить. Особенно тяжкие испытания выпали на долю людей с психическими заболеваниями. Поскольку католическая церковь пользовалась огромным влиянием на европейском континенте, те, кто страдал психическими расстройствами, превратились из обычных пациентов в грешников, одержимых дьяволом и силами зла. Эти люди систематически подвергались остракизму, их изгоняли из общества, а порой даже преследовали и пытали. Если такого больного называли «слабохарактерным и неуравновешенным», то можно считать, что ему повезло.
Одним из наиболее похвальных исключений был монах Хуан Джилаберто Хофре – валенсийский религиозный деятель, живший на рубеже XIV–XV вв. История гласит, что, став свидетелем жестокого обращения с бродягой, который страдал психической патологией[15], Хофре решил создать первый в мире психиатрический центр терапевтической направленности (не для заточения или выставления «сумасшедших» напоказ, что было распространено в то время), – так в Валенсии появился приют Святых невинных мучеников (Santos Mártires Inocentes). Каким-то чудом получив одобрение церковных и политических властей, центр распахнул свои двери для представителей самых разных культур (что было очень кстати в Валенсии того времени; среди обитателей приюта были и христиане, и евреи, и арабы). Это заведение стало настоящим глотком свежего воздуха и предвестником благоприятных перемен, произошедших в последующие столетия.
С открытием первых университетов и невиданным доселе развитием науки, которое началось в XVI–XVII вв., был достигнут огромный прогресс в определении физических причин заболеваний мозга. Заболевания, последствия которых можно увидеть невооруженным глазом (например, опухоли или кровоизлияния, обнаруживаемые при вскрытии), рассматривались как проблемы со здоровьем и назывались соматическими или неврологическими[16]. Симптомы, не имеющие анатомических коррелятов (под этим подразумевается отсутствие физических повреждений или изменений), оставались в тумане психиатрии. В то время господствовала тенденция к разделению мозга и разума (или души), поскольку предполагалось, что они функционируют независимо друг от друга, – мы называем этот подход картезианским дуализмом, в честь французского философа Рене Декарта (от лат. Cartesius, латинизированного имени Декарта), основоположника данной концепции.
Наконец, мы подошли к третьей вехе в истории психиатрии, которой отмечен XVIII в. (самый разгар Великой французской революции). Эта веха связана с именем Филиппа Пинеля, известного как «великий реформатор психиатрии», «пионер гуманизации» и «освободитель от оков». Он был главным врачом одной из самых известных больниц Европы – Питье-Сальпетриер в Париже. По свидетельствам современников, это гигантское учреждение вмещало около 10 000 больных (для сравнения, Клинический госпиталь в Барселоне, одна из крупнейших больниц Испании, может одновременно принять менее 1000 пациентов). Пинель ввел в научный обиход термин «психическое расстройство», приравнял его к другим заболеваниям и определил в качестве субстрата головной мозг. Кроме того, он отверг понятие «слабость личности», которое сопровождало пациентов на протяжении нескольких столетий. Пинель разработал классификацию психических расстройств в соответствии с медицинскими критериями, приблизив их к наблюдению, систематическому изучению и методам естественных наук, а также ввел новый способ помощи пациентам – моральное лечение. По его мнению, прежде всего было необходимо освободить больного от механических ограничений (знаменитой смирительной рубашки), отменить неэффективные методы лечения (такие, как кровопускание, которое, «как ни странно», только ослабляло пациента, или абсолютно бесполезный экзорцизм), поощрять социальные контакты и занятия различными видами деятельности – прогулки, рисование, прослушивание музыки и т. д. До тех пор людей с психическими расстройствами называли «умалишенными», «оторванными от общества» (зачастую именно потому, что их всю жизнь держали в стенах специальных учреждений), а психиатров, соответственно, – «докторами для умалишенных». Таким образом, моральное лечение представляло собой радикальный сдвиг в сторону гуманного обращения с психически больными людьми и освобождения их от оков в прямом и переносном смысле. Вскоре у Пинеля появилось несколько последователей (сейчас их назвали бы фолловерами), в числе которых француз Жан-Этьен Эскироль. Свобода, равенство, братство!
Два корифея
В XIX – начале XX в. немецкие и австро-венгерские психиатры соперничали со своими французскими коллегами, оспаривая ведущую роль в психиатрии. Четвертая веха, ознаменовавшая рубеж этих столетий, связана с именами двух великих исторических личностей, которые придерживались противоположных мнений по целому ряду вопросов.
Первый из них, конечно, Зигмунд Фрейд, отец психоанализа и один из трех представителей так называемой философии подозрения (двое других – Фридрих Ницше и Карл Маркс). Истоками этой доктрины послужили труды великих мыслителей, которые сумели пролить свет на концепции, таинственным образом ускользавшие от внимания европейских философов. В частности, Фрейд выдвигал на первый план человеческое бессознательное. Он и его последователи поддерживали идею о том, что психические расстройства возникают и развиваются в процессе приобретения опыта, то есть на протяжении всей жизни (например, если с человеком плохо обращались или он пережил травмы в детстве). Этот опыт и сопровождающие его переживания подавляются в бессознательном, вступая в конфликт с личными или общественными ценностями, что приводит к появлению симптомов, свойственных психическим расстройствам. По мнению Фрейда, симптомы имеют вполне конкретное, но скрытое значение и пациент может избавиться от них, если получит к ним доступ и поймет их. Австрийский ученый первым начал изучать такие табуированные в его время темы, как базовые влечения всех живых существ (сексуальность и агрессивность) и психосексуальное развитие ребенка. Он также уделял внимание толкованию сновидений и рассматривал процессы, сопровождающие взаимоотношения врача и пациента, в частности перенос и контрперенос. Однако наиболее известен Фрейд тем, что раскрыл роль бессознательного в жизни людей, в искусстве и культуре и даже в социально-политических движениях. В общем, для своего времени он был новатором.
Вторая персона, и тоже с усами, – немецкий психиатр Эмиль Крепелин. Он утверждал, что психические расстройства обусловлены биологическими факторами, которые в большинстве случаев передаются от родителей. Крепелин основал в Мюнхене несколько исследовательских лабораторий, сотрудники которых изучали генетику, нейрохимию и эпидемиологию психических расстройств. При этом Крепелин, в отличие от Фрейда, отвергал идею о том, что каждый симптом имеет определенное значение.
В том же направлении работал, среди прочих, соотечественник Крепелина Вильгельм Гризингер, который сосредоточился на изучении тканей мозга, предположив, что психические расстройства возникают из-за диффузных повреждений (возможно, именно поэтому заболевание так трудно заметить!).
Крепелин существенно обогатил наши представления о психических расстройствах. Тщательно изучив своих пациентов, он разделил так называемые «душевные болезни» на две основные категории: нарушения мышления, среди которых парафрения и раннее слабоумие (dementia praecox, которое вскоре было переименовано в шизофрению по инициативе швейцарского психиатра Эйгена Блейлера – как ни удивительно, он тоже носил усы), и аффективные расстройства, в том числе маниакально-депрессивный психоз (ныне известный как биполярное расстройство). Это разделение стало первой успешной попыткой структурировать и категоризировать психические расстройства, которые фактически представляют собой «болезни», поскольку каждое из них имеет свои клинические характеристики, возраст начала и, что особенно важно, свое течение и прогноз (в этом состояло отличие теории Крепелина от предыдущих концепций, в большей степени ориентированных на сравнительные описания).
Позднее успех Крепелина был подтвержден выводом о том, что заболевания каждой категории можно лечить особым образом. Так психиатрический инструментарий постепенно становился все более упорядоченным.
Наконец, Крепелин был еще и основоположником этнопсихиатрии[17]. Он совершил путешествие в Юго-Восточную Азию, чтобы доказать: описанные им психические состояния связаны с культурными и этническими факторами и распространены в определенном регионе (в данном случае – у коренных жителей Индонезии). После Крепелина многие ученые из разных стран мира принимали участие в создании современной психиатрии, группируя психические расстройства по дифференциальным признакам. В настоящее время эти расстройства систематизированы в двух основных диагностических руководствах: «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM) и «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ).
