Исправление
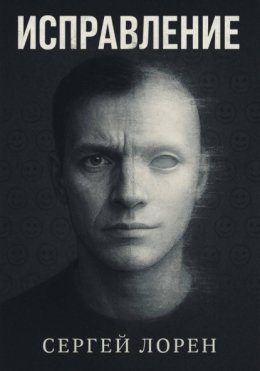
Пустые улыбки
Конечно, вот текст первой главы «Пустые улыбки», написанный в соответствии с вашими требованиями, стилистикой и сюжетом.
Холодная осенняя морось оседала на воротнике плаща, на волосах, на ресницах, превращая мир в размытую акварель. Артем Вольский стоял под козырьком пустующей автобусной остановки, делая вид, что ждет транспорт, которого здесь не будет еще минут двадцать. Его взгляд, однако, был прикован к фигуре в дальнем конце небольшого, почти заброшенного сквера. Виктор Павлов, бывший строительный магнат, человек, чей голос, по слухам, заставлял дрожать бетонные перекрытия, теперь с методичной неспешностью подрезал кусты роз. Его движения были плавными, выверенными, лишенными какой-либо суеты. Они были пусты.
Артем наблюдал за ним уже сорок минут. За это время Павлов не сменил позы, не выпрямился, чтобы размять спину, не смахнул со лба невидимый пот. Он был похож на идеально отлаженный автомат, запрограммированный на уход за увядающими осенними цветами. Дождь усиливался, превращаясь из мороси в мелкую, назойливую сетку, но садовник, казалось, не замечал этого. Вода стекала по его лицу, по аккуратно подстриженным седеющим волосам, по дорогому кашемировому пальто, которое выглядело абсурдно неуместным в этом городском саду, полном прелой листвы и тишины. Но самым абсурдным, самым неправильным было его лицо. На нем застыла улыбка.
Это не была улыбка радости или умиротворения. Артем за свою журналистскую практику видел сотни улыбок: фальшивые улыбки политиков, усталые улыбки врачей, хищные улыбки адвокатов, вымученные улыбки жертв. Эта была другой. Она не затрагивала глаз – они оставались спокойными и стеклянно-прозрачными, как у манекена. Улыбка жила своей, отдельной жизнью, легким, едва заметным изгибом губ, не выражавшим ничего, кроме факта своего существования. Она была протокольной. Пустой.
Артем достал сигарету, но зажигалка в отсыревших пальцах щелкнула вхолостую. Он убрал ее, так и не закурив. Этот человек, Виктор Павлов, три месяца назад потерял в результате рейдерского захвата все, что строил двадцать лет. Его империя рухнула. Его партнеры предали. Его сын, не выдержав позора, попал в клинику с нервным срывом. Сам Павлов, по словам очевидцев, впал в неконтролируемую ярость, разнес свой кабинет, угрожал, кричал, бился в истерике. А потом исчез. Появился он спустя месяц, в этом самом сквере, с садовыми ножницами в руках. Спокойный. Улыбающийся. Исправленный.
Артем чувствовал, как холод пробирается под одежду, но это был не только холод осеннего дня. Это был внутренний озноб, тот, что он испытывал, сталкиваясь с чем-то фундаментально неверным, с изнанкой реальности. Он уже говорил с Еленой Сомовой, бывшей примой, чья карьера оборвалась из-за травмы. Она встретила его в своей идеально чистой квартире, где все вещи, казалось, были расставлены по линейке. Она говорила о театре, о потерянной сцене, о боли – но говорила так, словно читала чужую биографию. Ровным, бесцветным голосом. И улыбалась. Той же самой улыбкой.
Два случая – совпадение. Три – закономерность. А их, по слухам, уже десятки. Десятки людей, прошедших через клинику «Гармония» доктора Марка Эйзенштейна и вышедших оттуда с одинаковыми мертвыми улыбками на лицах. Они избавились от страданий. От гнева, от горя, от отчаяния. Но какой ценой? Что доктор удалял из их душ вместе с болью?
Павлов закончил с одним кустом и, не меняя выражения лица, перешел к другому. Его движения были экономичны, в них чувствовалась былая деловая хватка, перенесенная в иную, бессмысленную плоскость. Раньше он возводил кварталы, теперь – подрезал шипы. Артем поежился. В этом спокойствии было нечто более пугающее, чем в самой дикой ярости. Ярость – это жизнь, пусть и разрушительная. А это… это было похоже на смерть, которая научилась притворяться жизнью.
Он развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Шаги гулко отдавались на мокром асфальте. Город тонул в серых сумерках. Окна многоэтажек зажигались одно за другим, желтые, безличные прямоугольники, за которыми скрывались миллионы жизней, миллионы маленьких трагедий и радостей. Мир боли и страсти, мир сомнений и надежд. Тот самый мир, от которого доктор Эйзенштейн предлагал панацею.
Редактор, Игорь Петрович, ждал от него сенсации. «Артем, этот твой Эйзенштейн – золотая жила. Гуру, мессия, новый Кашпировский. Люди обожают такое. Найди грязь, найди подвох. Секта, наркотики, финансовая пирамида – мне все равно. Дай мне жареных фактов. Читатель хочет крови, а не этой твоей экзистенциальной тоски».
Но Артем чувствовал, что дело не в грязи. Все было слишком чисто. Слишком стерильно. Он наводил справки. У Эйзенштейна была безупречная репутация, все лицензии в порядке, никаких жалоб. Бывшие пациенты, те, с кем удалось поговорить, в один голос твердили о чудесном исцелении, о покое, который они наконец обрели. Они говорили правильные, выученные слова, и их глаза оставались пустыми. Это было похоже на общество анонимных счастливицев, где входным билетом была лоботомия души.
Его квартира встретила его запахом остывшего кофе и пыли. Небольшая студия на окраине, заставленная книжными стеллажами. Беспорядок был привычным, рабочим. Стопки бумаг на столе, раскрытая книга на диване, одинокая чашка в раковине. Этот хаос был отражением его собственной жизни – неустроенной, вечно мечущейся между цинизмом и поиском смысла. Он прошел к единственному большому окну, выходившему во двор-колодец. Дождь барабанил по стеклу, смывая остатки дня.
Он посмотрел на свое отражение. Худощавое лицо, темные, вечно взъерошенные волосы. Прищуренные серые глаза, в которых застыла профессиональная усталость. Морщинка между бровей, оставшаяся от сотен часов, проведенных за расшифровкой чужих слов, чужой лжи, чужой боли. Он видел себя. Пока еще видел. Узнавал. В его отражении не было и намека на ту блаженную пустоту, что он видел сегодня в глазах Виктора Павлова. В нем плескалась тревога, раздражение, глухое, застарелое чувство вины, которое он таскал с собой повсюду, как изношенный рюкзак.
Он вспомнил свою мать. Ее последние годы. Ее депрессия была не тихой и умиротворенной. Это была черная, вязкая трясина, которая засасывала ее медленно, но неотвратимо. Она тоже улыбалась иногда. Но ее улыбка была трещиной на фарфоровой маске, из-под которой проглядывала бездна страдания. Это была улыбка-крик. Улыбка-мольба. Она не была пустой, она была переполнена болью до краев. Врачи разводили руками, выписывали рецепты, таблетки притупляли остроту, но не убирали причину. Причину не мог найти никто. И он, ее сын, тоже не смог. Он был рядом, он говорил слова, которые казались ему правильными, но они отскакивали от невидимой стены, окружавшей ее. Он не смог помочь. Не смог простить себе этого.
Эта старая боль была его движущей силой. Она сделала его журналистом, заставляла копаться в чужих бедах, словно в попытке задним числом понять свою. И теперь, глядя на «исправленных» пациентов Эйзенштейна, он чувствовал почти личное оскорбление. Они так легко отказались от того, с чем его мать боролась до самого конца. Они променяли свою боль – а значит, и часть себя – на это суррогатное, пластмассовое спокойствие. Это было предательством по отношению ко всем, кто страдает по-настоящему.
Телефон зазвонил резко, выдернув его из вязких мыслей. Ольга. Он на секунду замер, прежде чем взять трубку. Ее голос, как всегда живой, немного насмешливый, ворвался в тишину квартиры.
– Вольский, ты живой там? Или тебя поглотили архивы и ты превратился в мумию из спрессованной бумаги?
Он попытался вложить в голос теплоту, но получилось, кажется, не очень.
– Живой. Просто заработался. Дождь этот еще…
– Опять твоя вселенская скорбь под аккомпанемент водосточных труб? – она фыркнула. – Я тут раздобыла билеты на выставку одного безумного финского фотографа. Сплошные ржавые бочки и мертвые чайки. Тебе должно понравиться. Завтра в семь.
Артем прикрыл глаза. Завтра. Завтра у него была назначена первая консультация в клинике «Гармония». Он записался под вымышленной фамилией, придумав себе легенду о профессиональном выгорании и фантомных болях прошлого. Он собирался войти в пасть льва, чтобы рассмотреть его зубы изнутри.
– Оль, я не смогу завтра. Завал на работе. Срочный материал.
На том конце провода повисла пауза. Ольга слишком хорошо его знала. Она умела слышать то, что он не говорил.
– Что за материал? Опять какой-нибудь депутат с незаконной дачей? Или ты снова копаешь под этих… счастливых сектантов?
– Вроде того, – уклончиво ответил он. – Рутина. Игорь Петрович торопит.
– Артем, – ее голос стал серьезным, исчезла вся игривость. – Ты какой-то… другой в последние дни. Отстраненный. Будто за стеклом. Что происходит?
Он смотрел на свое отражение в темном окне. За стеклом. Она была чертовски проницательна. Это было именно то ощущение. Он сам возводил эту стену между собой и миром, между собой и ею. Это было необходимое условие эксперимента. Он должен был стать стерильным объектом исследования.
– Все в порядке, правда. Просто устал. Давай на выходных? Сходим куда-нибудь. В кино. Или просто побродим.
– Побродим под дождем, глядя на серые фасады и размышляя о тщете всего сущего? Твой идеальный досуг, – в ее голосе снова прорезалась ирония, но под ней слышалась обида. – Ладно, Вольский. Закапывайся в свою рутину. Только не забудь, как дышать. Позвони, когда вынырнешь.
Она повесила трубку. Артем еще несколько секунд держал телефон у уха, слушая короткие гудки. Он почувствовал укол совести, острый и неприятный. Ольга была его якорем. Ее импульсивность, ее смех, ее порой неуместная прямота – все это было настоящим. Живым. Тем, что он рисковал потерять. Воспоминания о ней, о их спорах до хрипоты и внезапных примирениях, о том, как она смеется, запрокинув голову, о тепле ее руки в его руке – это были те самые фрагменты памяти, которые делали его им. А что, если Эйзенштейн предложит ему «исправить» и их? Стереть остроту ссоры, приглушить яркость радости, усреднить все до ровного, спокойного нуля? От этой мысли по спине пробежал холодок.
Он прошел к столу, включил ноутбук. Экран осветил его лицо холодным, мертвенным светом. Он создал новый документ. Назвал его «Протокол. Дело №1». Номером один был он сам.
Он начал печатать, быстро, отрывисто, словно боясь, что мысль ускользнет. Язык был сухим, почти канцелярским. Это был отчет следователя, где следователь и подследственный – одно и то же лицо.
«Объект: Артем Вольский. Возраст: 28 лет.
Исходное состояние: Присутствуют признаки хронической усталости, цинизма, связанного с профессиональной деятельностью. Наблюдается повышенный уровень тревожности, вызванный расследованием деятельности клиники «Гармония». Сохраняются остаточные проявления чувства вины, связанные со смертью матери (см. личное дело, приложение 1 – не существует). Эмоциональный фон нестабильный, подвержен колебаниям от апатии до резкого интереса. Социальные связи: ключевая связь с объектом «Ольга Новикова», характеризуется как сложная, но эмоционально значимая.
Цель эксперимента: Проникнуть в клинику «Гармония» под видом пациента. Изучить методику доктора М. И. Эйзенштейна изнутри. Определить механизм «Исправления». Сохранить целостность собственной личности и памяти.
Легенда прикрытия: Журналист, страдающий от профессионального выгорания. Жалобы на апатию, потерю смысла, навязчивые воспоминания о травмирующих событиях, свидетелем которых был по работе (командировки в горячие точки, расследования криминальных дел).
Риски: Потеря контроля над ситуацией. Необратимое изменение психики. Утрата эмоциональной восприимчивости, фрагментация или полное стирание ключевых воспоминаний. Утрата личности».
Он остановился на последней фразе. Утрата личности. Звучало как диагноз из фантастического романа. Но, глядя сегодня на Виктора Павлова, он понимал, что это не фантастика. Это было возможно. Эйзенштейн нашел способ. Хирург, который оперировал не тело, а душу, и ампутировал не органы, а чувства.
Артем встал и подошел к книжному стеллажу. Пальцы скользнули по корешкам книг. Каждая из них была не просто набором страниц, а якорем, фрагментом его истории. Вот сборник стихов, который он читал матери в больнице, ее рука слабо сжимала его ладонь. Вот потрепанный том Ремарка, который он нашел у букиниста после первого расставания с Ольгой, его страницы пахли дождем и отчаянием. Вот справочник по криминалистике, подарок от Игоря Петровича после его первой успешной статьи, символ профессионального признания.
Его жизнь состояла из этих шрамов, зазубрин, счастливых случайностей и болезненных уроков. Он был суммой своего опыта. Если начать вычитать из этой суммы слагаемые, что останется в итоге? Ровная, гладкая поверхность. Пустота.
Он снова сел за стол. Открыл папку с материалами по «Гармонии». Фотографии «исправленных». Елена Сомова на выходе из клиники, ее лицо спокойно, почти просветленно, но в глазах – ни тени былого огня, который делал ее великой балериной. Виктор Павлов на заседании совета директоров за год до краха – хищный, энергичный, полный жизни. И он же – в сквере, с пустой улыбкой, склонившийся над розами. Контраст был чудовищным. Это были фотографии разных людей, просто у них было одно и то же тело.
Артем вдруг понял, что боится. Не провала расследования, не гнева Игоря Петровича. Он боялся этого тихого, вкрадчивого обаяния доктора Эйзенштейна, о котором говорили все. Боялся соблазна простого решения. Соблазна отдать свою боль в руки умелого хирурга и получить взамен покой. Ведь была в этом какая-то извращенная логика. Зачем страдать, если можно не страдать? Зачем помнить то, что причиняет боль?
Его мать хотела бы этого? Он задал себе этот вопрос и не нашел ответа. Она хотела избавиться от мук, да. Но хотела ли она забыть его, забыть свою жизнь, свою любовь, все то, что привело ее в эту черную яму, но что одновременно и было ею? Стереть прошлое – не значит ли это стереть саму жизнь?
Он снова посмотрел на первую строчку своего «протокола». «Объект: Артем Вольский». Он должен был запомнить это имя и все, что за ним стоит. Он взял со стола диктофон, нажал на запись.
– Артем Вольский, – произнес он в тишину комнаты. Голос прозвучал глухо и чужеродно. – Тридцать первое октября. Я начинаю это расследование, потому что верю, что полнота жизни невозможна без всего спектра человеческих чувств, включая самые темные и болезненные. Потому что память, даже самая горькая, – это то, что делает нас людьми. А счастье, купленное ценой забвения, – это не счастье, а анестезия. Запись для контроля. На случай, если я начну забывать, зачем я все это начал.
Он выключил диктофон и положил его в ящик стола. Это был его последний бастион. Его страховка от самого себя.
За окном лил дождь. Город погрузился в ночь, став бесконечным лабиринтом мокрых улиц и одиноких огней. Где-то там, в стерильных, залитых мягким светом кабинетах клиники «Гармония», доктор Эйзенштейн готовился к приему новых пациентов. Архитектор спокойствия. Врачеватель душ. И Артем Вольский шел к нему на прием, добровольно ложась на операционный стол. Он чувствовал себя одновременно и охотником, и приманкой. Он шел вскрывать этот нарыв, но для этого ему нужно было позволить инфекции проникнуть в собственную кровь.
Он посмотрел на часы. Почти полночь. Завтрашний день уже дышал ему в затылок. День, когда он впервые переступит порог «Гармонии» и посмотрит в глаза человеку, который дарует людям забвение. Он встал, прошел в ванную и плеснул в лицо ледяной водой. В зеркале на него смотрел незнакомец с горящими от усталости и решимости глазами. Он вглядывался в это лицо, в каждую черточку, в каждую морщинку, пытаясь запомнить его. Запомнить себя. Прежде чем кто-то другой начнет методично, сеанс за сеансом, стирать этот портрет, оставляя после него лишь гладкий, чистый холст. И пустую, безмятежную улыбку.
Шепот в редакции
Конечно, вот текст второй главы, «Шепот в редакции», написанный в строгом соответствии с вашими требованиями.
Утро не принесло облегчения, только смену декораций. Ночь была вязкой, как смола, наполненной обрывками тревожных снов и шумом дождя, который превратился из барабанной дроби в монотонное, изнуряющее шипение. Артем проснулся не от будильника, а от тишины, наступившей, когда капли перестали бить по карнизу. Эта внезапная тишина давила на уши сильнее, чем предшествующий ей шум. Он лежал несколько минут, глядя в серый прямоугольник потолка, ощущая себя экспонатом под стеклом. Объект: Артем Вольский. Исходное состояние: нарушенная фаза сна, повышенный уровень кортизола.
Он встал, и тело двигалось с механической точностью автомата, уже включившегося в дневную программу. Душ, обжигающе горячий, потом ледяной. Контраст должен был взбодрить, вернуть ощущение реальности, но он лишь подчеркнул отчужденность тела, которое реагировало на стимулы, пока сознание наблюдало со стороны. В зеркале в ванной, покрытом пеленой пара, проступило размытое пятно. Артем провел по нему ладонью, и из тумана возник вчерашний незнакомец. Тот же усталый взгляд, та же морщинка между бровей – траншея, прорытая тысячами часов чужой боли. Он вглядывался в отражение не с самолюбованием или критикой, а с дотошностью архивариуса, изучающего документ, который скоро будет сдан в утиль. Он пытался зафиксировать детали: родинку у виска, едва заметный шрам на подбородке, оставшийся с детской драки, асимметрию усмешки, которая всегда была чуть более горькой с левой стороны. Это были маркеры его истории, отпечатки событий, которые сложились в то, что он привык считать собой. Сегодня он шел на встречу с человеком, который предлагал профессиональные услуги по реставрации, выравниванию рельефа, стиранию этих случайных и неслучайных отметин. Превращению карты жизни в гладкий, чистый лист ватмана.
Кофе был горьким и обжигал горло. Артем пил его стоя у окна, глядя на мокрый двор-колодец. Мир выглядел как старая, выцветшая фотография. Серые стены, серый асфальт, серое небо, с которого снова начинал накрапывать дождь. Это была идеальная палитра для того мира, в который он собирался погрузиться. Мира, где яркие краски считались симптомом болезни. Он думал об Ольге. О ее звонке вчера. Обида в ее голосе была последним ярким мазком на его вчерашней палитре. Он почувствовал укол чего-то неприятного, остаточного – совесть, вина? Он не был уверен в точности термина. Для доктора Эйзенштейна это, вероятно, были бы синонимы ненужного балласта, «фантомные боли» неоптимально устроенной психики. Он отогнал эту мысль. Чтобы провести эксперимент, нужно было сохранять объективность. Эмоции – переменная, мешающая чистоте данных.
Дорога до редакции была погружением в коллективную меланхолию. Вагон метро, пахнущий сырой одеждой и чужой усталостью. Лица напротив – непроницаемые маски, за которыми скрывались свои драмы, свои маленькие войны и перемирия. Артем смотрел на них и думал: сколькие из них согласились бы на «Исправление»? Женщина с потухшими глазами, вцепившаяся в поручень так, словно он был единственной опорой в ее жизни. Студент, с ожесточением листающий конспект, на лице которого было написано отчаяние перед экзаменом. Мужчина в дорогом костюме, чье лицо было серым от стресса, а пальцы нервно барабанили по кейсу. Эйзенштейн предлагал им всем выход. Простой. Элегантный. Чудовищный. Он продавал забвение, упакованное как душевное здоровье. И спрос, судя по всему, был огромен. В этом уставшем, тревожном городе он был не врачом, а торговцем самым востребованным товаром.
Редакция «Городского вестника» встретила его привычным гулом. Смесь стука клавиатур, телефонных звонков и приглушенных голосов создавала звуковой фон, который обычно действовал на Артема успокаивающе. Это была его среда, его экосистема. Сегодня она казалась чужеродной, слишком громкой, слишком живой. Пахло крепким кофе, бумажной пылью и чем-то неуловимо горелым – очередная микроволновка в комнате отдыха доживала свой век. Он прошел к своему столу в углу большого опенспейса, кивая на ходу коллегам. Его рабочее место было островком организованного хаоса: стопки распечаток, диктофон, несколько чашек с засохшими следами кофе, карта города, истыканная цветными булавками. Его личный окоп в информационной войне.
– Вольский, мать твою! – Голос Игоря Петровича, редактора отдела расследований, прогрохотал над перегородками, заставив пару стажеров вздрогнуть. – Ко мне. Живо.
Кабинет Петровича был аквариумом со стеклянными стенами, из которого он наблюдал за своим планктоном. Сам он был похож на старого, усталого кашалота. Массивный, обрюзгший, с лицом, изрезанным морщинами, как карта старых дорог. Но глаза, маленькие и цепкие, были живыми и абсолютно трезвыми. Он жестом указал Артему на стул для посетителей, сам оставаясь стоять, нависая над столом, заваленным бумагами и гранеными стаканами.
– Ну, что там твой гуру? – спросил он, не здороваясь. – Нашел золотые унитазы? Связи с масонами? Подпольный цех по производству эликсира счастья из слез младенцев?
– Ничего, Игорь Петрович, – спокойно ответил Артем. – Все чисто. Лицензии в порядке. Финансы прозрачны, как дистиллированная вода. Пациенты в восторге. Ни одной жалобы. Ни одного иска.
Петрович хмыкнул, обошел стол и тяжело плюхнулся в свое просиженное кресло, которое жалобно скрипнуло.
– Слишком чисто – это самый грязный вариант, Вольский. Ты же знаешь. Это значит, они либо святые, либо дьявольски умны. В святых я не верю со времен моей первой жены. Так что там?
Артем помолчал секунду, собираясь с мыслями. Он не мог рассказать Петровчиу всей правды, всей экзистенциальной подоплеки своего решения. Тот бы счел это блажью и лирикой, а ему нужны были факты, скандалы, рейтинги.
– Я думаю, он использует какую-то форму гипноза. НЛП, доведенное до абсолюта. Возможно, какие-то препараты, которые не ловятся стандартными тестами. Он не мошенник, который отнимает деньги. Он что-то делает с их головами. Он их… форматирует.
– Форматирует? – Петрович прищурился. – Звучит как заголовок для желтой прессы. Мне нужно мясо, Артем. Доказательства. Показания. Скрытая камера. Что угодно. Читатель хочет знать, что его обманывают, а ты приносишь мне философию.
– Поэтому я записался к нему на прием, – сказал Артем так ровно, как только мог.
Кресло снова скрипнуло. Петрович подался вперед, положив мясистые руки на стол. Его взгляд стал острым, как скальпель.
– Ты что сделал?
– Записался на консультацию. Сегодня, в пять вечера. Легенда – профессиональное выгорание, посттравматический синдром после командировок. Все как мы любим. Я иду внутрь.
Наступила тишина. Было слышно, как гудит системный блок под столом редактора и как за стеклянной стеной кто-то истерически хохотнул. Петрович смотрел на Артема долго, не мигая. В его взгляде боролись азарт старого газетчика и что-то похожее на беспокойство.
– Ты понимаешь, что это опасно? – сказал он наконец, и в его голосе не было привычного сарказма. – Эти ребята, которые копаются в мозгах, – они не сантехники. Если он что-то там не так подкрутит, потом никто не починит.
– Понимаю. Я подстраховался. Диктофон будет включен. Я оставил… – Артем запнулся, вспомнив вчерашний файл «Протокол. Дело №1», – …заметки. Если со мной что-то пойдет не так, это будет заметно.
– Заметно, – пробормотал Петрович. Он потер переносицу. – Ладно. Идея сильная, не спорю. Сенсация, если ты вытащишь хоть что-то. Но будь осторожен, Вольский. Я не хочу потом писать некролог о лучшем своем сотруднике, который свихнулся в погоне за статьей года. Держи меня в курсе. Звони сразу после сеанса. Сразу. Понял?
– Понял, – кивнул Артем. Он чувствовал себя диверсантом, получающим последнее напутствие перед заброской в тыл врага.
– И вот еще что. – Петрович выдвинул ящик стола, порылся в нем и бросил на стол маленькую флешку. – Это тебе для вдохновения. Наш фрилансер порылся в старых архивах. Эйзенштейн. Двадцать лет назад. До того, как он стал Эйзенштейном.
Артем взял флешку. Она была теплой от пальцев редактора.
– Что там?
– Газетные вырезки. Полицейский протокол. Автокатастрофа. Погибли его жена и маленькая дочь. Виновник – другой водитель. Пошел на обгон в закрытом повороте. Они поссорились с женой за секунду до этого. Нашли свидетелей. Он был в ярости. Неконтролируемой. Эта ярость убила семью Эйзенштейна. Может, это просто факт биографии. А может, – Петрович многозначительно поднял палец, – это и есть тот самый ключ. Начало его крестового похода против человеческих чувств. Посмотри. Может, пригодится. Теперь иди. Работай. И не смей пропадать.
Артем вышел из кабинета, сжимая в кулаке флешку. Тепло пластика ощущалось как что-то живое. Так вот оно что. Не просто философия. Личная, выстраданная вендетта. Месть не конкретному человеку, а самому чувству, самой эмоции, которая послужила катализатором. Эйзенштейн был не просто архитектором спокойствия, он был хирургом, который сам перенес страшную ампутацию и теперь считал, что весь мир должен пройти через ту же операцию, чтобы избежать его боли. Это делало его не просто опасным. Это делало его убежденным в своей правоте. А не было ничего страшнее человека, искренне верящего в свое право на насилие во имя блага.
Он сел за свой стол и воткнул флешку в ноутбук. На экране появились отсканированные страницы пожелтевших газет. Мелкий шрифт, зернистые черно-белые фотографии искореженного автомобиля. Сухие строчки протокола. «…в результате лобового столкновения водитель и пассажир автомобиля… Эйзенштейн Анна Сергеевна, 32 года, и Эйзенштейн Мария Марковна, 6 лет, скончались на месте…» Артем читал, и холод, не имеющий отношения к сквозняку из окна, медленно полз по его спине. Он смотрел на фотографию молодого Марка Эйзенштейна на похоронах. Растерянное, убитое горем лицо, совершенно не похожее на тот лощеный, уверенный образ, который он видел на сайте клиники. Это было лицо человека, заглянувшего в бездну. И, видимо, бездна ему там что-то прошептала.
– Смотришь ужастики с утра пораньше?
Голос Ольги за его спиной заставил его вздрогнуть. Он резко закрыл окно с файлами. Она стояла, прислонившись к его перегородке, с большим фотоаппаратом на шее. На ней был ярко-желтый свитер, который выглядел вызывающе жизнерадостным в этом сером офисе. Ее рыжеватые волосы были собраны в небрежный пучок, из которого выбилось несколько прядей, и в зеленых глазах плясали насмешливые искорки. Но стоило ей взглянуть ему в лицо, как искорки погасли.
– Эй, ты в порядке? Выглядишь так, будто увидел призрак.
– Призраков, – машинально поправил он. – В прошедшем времени. Просто старое дело поднял. Рутина.
Ложь далась ему легче, чем вчера по телефону. Он уже вживался в роль. Роль человека за стеклом.
Ольга обошла стол и села на его край, качнув ногой в тяжелом ботинке. Она пахла дождем, кофе и чем-то сладким, как ее духи. Запах жизни.
– Ты вчера был странным, Артем. И сегодня не лучше. Что за срочный материал, из-за которого ты готов похоронить себя в архивах и отменить встречу с самой очаровательной девушкой этой редакции?
Он попытался улыбнуться. Улыбка получилась натянутой, фальшивой. Он почувствовал себя политиком на пресс-конференции.
– Именно потому, что ты самая очаровательная, я и не хочу портить тебе вечер своей кислой физиономией. Правда, Оль, завал. Петрович рвет и мечет. Тема сложная, скользкая.
Она смотрела на него пристально, чуть склонив голову набок, как будто пыталась поймать нужный ракурс. Ее взгляд был как объектив, который видел больше, чем было на поверхности.
– Ты врешь, – сказала она тихо, но уверенно. – Ты врешь не очень хорошо, кстати. Раньше у тебя получалось лучше. Ты что-то задумал, Вольский. И мне это не нравится. Это связано с твоими «счастливыми сектантами»?
Ее прямота обезоруживала. Он почувствовал, как стена, которую он так старательно возводил, дала трещину. Ему отчаянно захотелось все ей рассказать. Поделиться этим грузом, этим страхом, который он сам себе запрещал признавать. Услышать ее голос, который скажет ему, что он сошел с ума и никуда не пойдет. Но он не мог. Во-первых, это было бы непрофессионально. Во-вторых, она бы его не пустила. Она бы подняла скандал, пошла бы к Петровичу, сделала бы все, чтобы его остановить. И, возможно, она была бы права. Но он уже принял решение. Охотник должен был стать приманкой.
– Оль, пожалуйста, не надо, – сказал он, стараясь, чтобы голос звучал мягко. – Это просто работа. Немного более мутная, чем обычно, вот и все. Давай так: я разгребу это к выходным, и мы уедем куда-нибудь. За город. Снимем домик у озера. Будем жечь камин и пить глинтвейн. И никаких разговоров о работе. Идет?
Он взял ее руку. Ее пальцы были теплыми, живыми. Контраст с холодом флешки, который, казалось, все еще оставался на его коже, был оглушительным. Она не ответила сразу, только смотрела на их сцепленные руки.
– Ты ставишь стену между нами, Артем, – проговорила она почти шепотом. – Я говорю с тобой, а ощущение, что кричу через толстое стекло. Я не знаю, что ты там расследуешь, но это меняет тебя. Уже сейчас.
Ее слова попали точно в цель. «Будто за стеклом». Именно это он и чувствовал. Он сам был и стеклом, и тем, кто за ним.
– Это пройдет, – пообещал он. И себе, и ей. – Просто дай мне немного времени.
Ольга вздохнула, высвобождая свою руку. Не резко, а медленно, с какой-то фатальной грустью.
– Ладно, Вольский. Закапывайся в свою рутину, – повторила она почти дословно свои вчерашние слова. – Только не забудь, как дышать. – Она встала. – У меня съемка. Позвони, когда вынырнешь. Если вынырнешь.
Она ушла, не оглядываясь. Ее ярко-желтый свитер был последним цветным пятном, которое исчезло в сером муравейнике редакции. Артем смотрел ей вслед и чувствовал, как внутри что-то обрывается. Ольга была его якорем в мире настоящих, живых, пусть и болезненных, чувств. И он только что собственными руками начал обрубать этот канат. Он ощутил приступ острого, пронзительного одиночества. Это было именно то чувство, от которого доктор Эйзенштейн обещал избавить. И на одну страшную секунду Артем понял, почему люди шли к нему. Соблазн был велик. Соблазн никогда больше не чувствовать вот этой рваной раны в груди.
Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. Взял себя в руки. Работа. Нужно было сосредоточиться на работе. Остаток дня он провел в лихорадочной деятельности, которая была формой бегства от собственных мыслей. Он систематизировал все, что ему удалось нарыть на Эйзенштейна и клинику «Гармония». Отзывы, финансовые отчеты, биографии, интервью. Он перечитывал свои записи о встречах с «исправленными» – балериной Сомовой, бизнесменом Павловым. Он всматривался в их фотографии, которые сделала Ольга. Она была гениальным фотографом. Ей удавалось запечатлеть не просто лица, а души. И на этих снимках было видно главное: души были на месте, но они были… выключены. Как будто кто-то повернул рубильник.
Он снова и снова прокручивал в голове свою легенду. Каждое слово, каждая интонация. Он должен был быть убедительным. Он должен был стать пациентом. Уязвимым, уставшим, сломленным. Чтобы впустить хирурга внутрь, нужно было продемонстрировать ему открытую рану. Артем вспоминал свою мать. Ее лицо в последние месяцы. Ту бездну отчаяния в ее глазах. Он брал это чувство, это воспоминание, препарировал его и осторожно примерял на себя, как чужой, слишком большой костюм. Это было омерзительно. Он использовал трагедию своей матери как часть маскарада. Но другого пути он не видел.
Время тянулось медленно, как густая смола, и одновременно неслось к роковой отметке. Четыре часа. Пора было выходить. Он закрыл все файлы, почистил историю браузера. Сложил в сумку только самое необходимое: блокнот, ручку, телефон, диктофон. Он проверил диктофон еще раз. Новый, миниатюрный, с огромным объемом памяти и чувствительным микрофоном. Он включил его и засунул во внутренний карман пиджака. Маленький цифровой шпион, его единственный союзник в предстоящей битве.
Он поднялся из-за стола. Офисный гул продолжался, никто не обращал на него внимания. Для них он был просто коллегой, который уходил с работы чуть раньше. Никто не знал, что он уходит на войну, где линия фронта пройдет через его собственное сознание. Он окинул взглядом редакцию. Это место, с его суетой, цинизмом и вечной погоней за сенсацией, было его домом. Он был его частью. И сейчас он добровольно шел на то, чтобы, возможно, навсегда от него отделиться.
На улице дождь снова перешел в затяжную, нудную морось. Город зажигал вечерние огни. Желтые окна, неоновые вывески, красные гирлянды стоп-сигналов в пробках. Все это отражалось в мокром асфальте, создавая перевернутый, дрожащий мир. Артем поднял воротник плаща и пошел в сторону клиники. Он не стал брать такси, хотя до нее было минут тридцать пешком. Ему нужно было это время. Эта дорога была последней чертой, последней возможностью побыть собой. Артемом Вольским. Двадцативосьмилетним журналистом. Циничным, уставшим, но цельным. Он шел по улицам и впитывал в себя детали: смех компании подростков под навесом, запах свежей выпечки из булочной, мелодия, доносящаяся из проезжающей машины. Все эти мелкие, незначительные фрагменты жизни вдруг приобрели невероятную ценность. Это было то, что он рисковал потерять. Не воспоминания о них, а способность их чувствовать. Способность радоваться им, раздражаться на них, грустить из-за них.
Он дошел до тихого, респектабельного квартала в центре города. Старинные особняки, ухоженные скверы, дорогие машины, припаркованные у тротуаров. Клиника «Гармония» располагалась в одном из таких особняков, отреставрированном и безликом. Никаких кричащих вывесок. Только скромная латунная табличка у массивной дубовой двери: «Центр психологической реабилитации „Гармония“. Доктор М. И. Эйзенштейн». Все было продумано до мелочей. Респектабельность. Конфиденциальность. Спокойствие.
Он остановился на противоположной стороне улицы, глядя на здание. Оно выглядело неприступным и герметичным. Из его окон лился мягкий, теплый свет, обещавший уют и безопасность. За этой дверью был другой мир. Мир без боли и страданий. Мир пустых улыбок. Артем посмотрел на часы. Четыре пятьдесят семь. Он сделал глубокий вдох, холодный, влажный воздух обжег легкие. Он чувствовал, как бешено колотится сердце. Страх. Вот оно, это чувство. Чистое, первобытное. Он зафиксировал его в памяти. Запомнить. Это тоже часть его. Он перешел дорогу. Его отражение скользнуло по темному, отполированному граниту фасада. Он не стал в него всматриваться. Он уже сделал это утром. Теперь было время действовать. Он подошел к двери и нажал на кнопку звонка. Внутри раздался мелодичный, успокаивающий перезвон. Щелкнул замок. Дверь бесшумно приоткрылась, приглашая его войти. Артем Вольский шагнул за порог. Охотник вошел в ловушку.
Первая консультация
Дверь отворилась беззвучно, словно ее не толкнули, а втянули внутрь потоком разреженного воздуха. На пороге стояла женщина лет сорока, в строгом, но элегантном платье приглушенно-серого цвета, напоминавшем униформу стюардессы на рейсе в никуда. Ее лицо было гладким, почти лишенным мимических морщин, а на губах играла вежливая, абсолютно симметричная улыбка – дальняя родственница той, что Артем видел на лице Виктора Павлова. Глаза, однако, были другими. Они не были пустыми; они были внимательными, оценивающими, как у сотрудника службы безопасности, просвечивающего сканером багаж на предмет запрещенных предметов. Эмоций.
«Артемий Соколов?» – ее голос был ровным и мелодичным, лишенным вопросительной интонации. Это было не столько вопросом, сколько подтверждением факта.
Артем кивнул, чувствуя, как капли дождя стекают с волос на воротник пиджака. «Да, это я». Он намеренно не поправил ее, позволив вымышленному имени прирасти к нему. Соколов. Птица, загнанная в клетку.
«Прошу вас, проходите. Доктор Эйзенштейн вас ожидает». Она отступила в сторону, и Артем шагнул через порог, пересекая невидимую границу.
Переход был резким, оглушающим. Снаружи остался мокрый, гудящий город – мир трения, хаоса и распада, пахнущий прелой листвой и выхлопными газами. Внутри царила абсолютная, почти вакуумная тишина. Воздух был теплым, сухим и неподвижным, с едва уловимым, стерильным ароматом, в котором смешались нотки озона, дорогого дерева и чего-то неуловимо медицинского, но без резкости антисептиков. Это был запах порядка.
Холл оказался просторным, минималистичным. Никаких стоек регистрации, журнальных столиков, вешалок, забитых мокрыми плащами. Только гладкие стены цвета слоновой кости, пол из матового, светлого камня, поглощавшего звук шагов, и несколько глубоких кресел, обитых мягкой кожей графитового оттенка. Они стояли на значительном расстоянии друг от друга, создавая островки уединения. В дальней стене, в неглубокой нише, на тонком постаменте стояла единственная ваза из темного стекла с одним безупречным белым каллом. Свет лился отовсюду и ниоткуда – он был мягким, рассеянным, без теней и бликов, словно само пространство светилось изнутри. Артем огляделся в поисках источника, но не нашел ни одной лампы. Это создавало странное, дезориентирующее ощущение пребывания вне времени и пространства, в стерильном предбаннике вечности.
«Вы можете оставить ваш плащ здесь», – женщина указала на неприметную панель в стене. Она прикоснулась к ней, и панель бесшумно отъехала в сторону, открыв пустой гардеробный шкаф. Внутри горел такой же мягкий свет.
Артем снял влажный плащ, чувствуя себя неуклюжим и грязным в этом царстве выверенной чистоты. Он повесил его на предложенную вешалку. В кармане пиджака слабо потяжелел диктофон, маленький цифровой шпион, его единственный союзник. Артем мысленно коснулся его, проверяя связь с реальностью. Дверца шкафа так же бесшумно закрылась, снова превратившись в часть стены.
«Прошу, присядьте. Я предложу вам чай». Снова утверждение, а не вопрос. Она удалилась по коридору, ее шаги были совершенно неслышны.
Артем выбрал кресло, стоявшее дальше от входа. Кожа оказалась прохладной и удивительно мягкой на ощупь. Он опустился в него, и тело немедленно провалилось в комфорт, мышцы против воли начали расслабляться. Он заставил себя выпрямить спину, напрячься. Он был здесь не для отдыха. Он был на задании. Объект исследования: клиника «Гармония». Метод: включенное наблюдение. Цель: вскрыть механизм «Исправления», не потеряв себя. Он мысленно проговаривал эти сухие, протокольные фразы, пытаясь выстроить внутренний барьер против этой обволакивающей атмосферы.
Взгляд снова упал на белый калл в вазе. Идеальный, восковой, холодный цветок. Цветок смерти и чистоты. Совершенная форма, лишенная жизни. Артему он показался до жути точным символом того, что здесь происходило. Эйзенштейн не выращивал сады, как Виктор Павлов. Он создавал гербарии.
Женщина вернулась с небольшим подносом из темного дерева. На нем стояла изящная фарфоровая чашка без блюдца и маленький чайник из того же материала. Она поставила поднос на низкий столик рядом с креслом Артема.
«Зеленый чай с жасмином и мятой. Он помогает снять напряжение», – пояснила она своей вежливой улыбкой. Затем, без паузы, добавила: «Доктор примет вас через пять минут». И так же бесшумно исчезла.
Артем смотрел на чашку. Пар поднимался тонкой, почти невидимой струйкой. Вот он, тот самый чай. Возможно, именно в нем и крылась вся разгадка. Простые психотропные препараты, вызывающие эйфорию и подавляющие волю. Игорь Петрович ухватился бы за эту версию. Секта, опаивающая своих адептов. Сенсация. Но Артем уже отправил образцы, взятые у одной из бывших пациенток под предлогом дружеского чаепития. Экспертиза ничего не нашла. Чистейший чай. Но подозрение осталось, въелось под кожу холодным сомнением. Что, если препараты были более тонкими, новейшими, не определяемыми стандартными тестами?
Он не прикоснулся к чаю. Пять минут. Он считал удары собственного сердца, пытаясь замедлить их, взять под контроль. Сердце не подчинялось. Оно колотилось в груди, как пойманная птица. Страх. Он снова зафиксировал это чувство, как вчера вечером. Чистый, животный страх перед неизвестностью, перед возможной потерей контроля. Он вцепился в это ощущение, как в спасательный трос. Пока он боится, он жив. Он – Артем Вольский.
Ровно через пять минут, ни секундой раньше, ни секундой позже, та же женщина появилась в конце коридора.
«Господин Соколов, прошу за мной».
Артем поднялся. Ноги показались немного ватными. Он сделал глубокий вдох и пошел за ней. Они миновали несколько одинаковых дверей без табличек. Коридор был таким же светлым и тихим, как и холл. Все здесь было спроектировано так, чтобы успокаивать, усыплять, лишать воли к сопротивлению. Архитектура забвения.
Она остановилась у последней двери и, приоткрыв ее, жестом пригласила его войти. «Доктор ждет».
Артем шагнул внутрь.
Кабинет был продолжением холла, его смысловым центром. Просторная комната, почти лишенная мебели. Стены того же цвета слоновой кости. Вместо ожидаемых книжных полок с трудами по психоанализу – гладкие поверхности, на одной из которых висела единственная картина: абстрактное полотно в серых и голубых тонах, напоминающее спокойное море в пасмурный день. Почти всю противоположную стену занимало огромное, от пола до потолка, окно, за которым мокла под дождем листва старого клена в небольшом внутреннем дворике. Капли стекали по стеклу, но из-за идеальной звукоизоляции это беззвучное движение воды казалось частью некой умиротворяющей видеоинсталляции, а не проявлением стихии.
Посреди комнаты стояли два кресла, точно такие же, как в холле, разделенные небольшим столиком, идентичным тому, на котором стоял его чай. И в одном из этих кресел сидел он. Доктор Марк Ильич Эйзенштейн.
Он поднялся навстречу Артему, и это движение было плавным, лишенным суеты. Он оказался чуть выше среднего роста, стройным, в идеально скроенном темно-сером костюме. Белоснежная рубашка, галстук сдержанного оттенка. Все в нем говорило о порядке и контроле. Но лицо… Артем ожидал увидеть холодную маску профессионала, но лицо Эйзенштейна было живым и удивительно теплым. Ему было около пятидесяти, волосы с благородной сединой на висках были аккуратно зачесаны, а в уголках глаз залегли тонкие морщинки, которые могли появиться и от смеха, и от горя. Но главным были глаза. Карие, почти черные, они смотрели с таким глубоким, проницательным и, что было самым обезоруживающим, искренним сочувствием, что Артему на мгновение стало не по себе. Он почувствовал себя абсолютно прозрачным. Этот человек видел не вымышленного Артемия Соколова, журналиста с выгоранием, а его, Артема Вольского, со всем его грузом вины, цинизма и страха. Это было иррациональное, пугающее ощущение.
«Артемий. Здравствуйте. Очень рад вас видеть», – его голос был именно таким, как описывали пациенты: мягкий, обволакивающий баритон, в котором не было ни капли фальши. Он протянул руку.
Артем пожал ее. Рукопожатие было крепким, уверенным, а ладонь – сухой и теплой.
«Садитесь, пожалуйста. Чувствуйте себя как дома». Эйзенштейн указал на свободное кресло и сам плавно опустился в свое.
Артем сел, стараясь сохранить внешнее спокойствие. Он положил руки на подлокотники, не скрещивая ни их, ни ноги. Открытая поза. Он помнил основы. Он должен был играть свою роль до конца.
«Спасибо, что нашли для меня время, доктор», – начал он заготовленную фразу.
Эйзенштейн чуть улыбнулся одними глазами. «Это моя работа, Артемий. Находить время для тех, кому оно нужно. Расскажите, что вас привело ко мне? Что нарушило вашу гармонию?»
Слово «гармония» прозвучало абсолютно естественно, без пафоса. Он назвал свою клинику не для красного словца. Он действительно верил в это понятие.
Артем начал свой рассказ. Он говорил о работе, о дедлайнах, о постоянном стрессе. О командировках в горячие точки, которые он выдумал, смешав детали из десятков прочитанных репортажей. Он говорил о том, что видел слишком много чужого горя, и оно начало просачиваться в его собственную жизнь, отравляя ее. Он говорил о цинизме как о защитной реакции, которая со временем превратилась из брони в клетку. О потере смысла, об апатии, о том, что утром все труднее заставить себя встать с постели. Он лгал, но использовал для своей лжи фрагменты правды, облекая собственные чувства в вымышленный контекст. Он был неплохим актером. Он чувствовал, что его история звучит убедительно.
Эйзенштейн слушал, не перебивая. Он не делал заметок, не смотрел на часы. Все его внимание было сосредоточено на Артеме. Он слегка кивал в такт его словам, его поза почти зеркально отражала позу Артема. Классический прием для установления раппорта. Артем отметил это про себя, как галочку в списке. НЛП. Уровень для начинающих. Но то, как Эйзенштейн это делал, было безупречно. Это не выглядело техникой. Это выглядело искренним участием.
Когда Артем закончил, сделав паузу, чтобы перевести дух, Эйзенштейн еще несколько секунд молчал, давая словам осесть в тишине кабинета.
«Спасибо за вашу откровенность, Артемий, – сказал он наконец. – То, что вы описываете, похоже на глубокую усталость. Не тела, но души. Вы долгое время были на передовой, а любая война оставляет шрамы. Даже если вы были лишь наблюдателем».
Он снова попал в точку. Шрамы. Жизнь Артема состояла из шрамов. Он вспомнил папку с фотографиями «исправленных». Гладкие лица без единого шрама.
«Вы говорите о потере смысла, – продолжил доктор. – А в чем, по-вашему, он был раньше? Что вы потеряли?»
Вопрос был простым, но застал Артема врасплох. Он готовился описывать симптомы, а его спросили о сути.
«В правде, наверное, – ответил он, импровизируя. – В том, чтобы докопаться до истины, рассказать людям то, что от них скрывают. Раньше это приносило… удовлетворение. Азарт. Теперь… теперь я вижу только грязь. И понимаю, что моя правда ничего не меняет. Просто добавляет в мир еще немного шума и боли». Он сам удивился, насколько искренне это прозвучало. Часть его действительно так думала.
Эйзенштейн медленно кивнул. «Вы описываете боль как нечто внешнее. То, что вы видите в мире. А что насчет вашей собственной боли, Артемий? Не той, что вызвана профессиональным выгоранием. А той, что была до этого. Той, которую вы, возможно, носите с собой очень давно».
По спине Артема пробежал холодок. Охотник превращался в дичь. Эйзенштейн мягко, но настойчиво обходил его выстроенную легенду, целясь куда-то глубже.
«Я не совсем понимаю, о чем вы», – голос Артема прозвучал чуть более напряженно, чем ему хотелось бы.
«Все мы носим с собой рюкзак с камнями из прошлого, – терпеливо пояснил Эйзенштейн. – Болезненные воспоминания, чувство вины, обиды. Каждый камень имеет свой вес. И со временем вес этого рюкзака становится невыносимым. Он замедляет наш шаг, заставляет сутулиться, мешает видеть небо. И мы начинаем думать, что проблема в дороге, по которой мы идем, в работе, которую делаем. А на самом деле проблема в рюкзаке. Вы согласны?»
Метафора была красивой, отточенной. Слишком отточенной. Артем чувствовал, что слышит фрагмент заученной лекции, но поданной с такой интимной, доверительной интонацией, что она воспринималась как откровение.
«Возможно, вы правы», – осторожно согласился он.
«Скажите, Артемий, – взгляд доктора стал еще более пронзительным, но оставался мягким, – если бы у вас была возможность… вы бы хотели снять этот рюкзак? Не просто отдохнуть, а оставить его навсегда? Выбросить эти камни, один за другим, и пойти дальше налегке?»
Вот оно. Суть предложения. Формулировка дьявольского контракта. Душа в обмен на легкость.
«Звучит соблазнительно, – Артем попытался изобразить горькую усмешку. – Но разве эти камни, как вы говорите, не делают нас теми, кто мы есть? Разве наш опыт, даже самый болезненный, не является частью нашей личности?» Это был его контрудар. Прямой, философский. Он апеллировал к гуманизму, к ценности страдания как части человеческого опыта.
Эйзенштейн выдержал его взгляд. В его глазах не было и тени сомнения. Он был не просто врачом, он был мессией, несущим свою веру.
«Очень хороший вопрос, – сказал он. – Позвольте, я отвечу вам аналогией. Представьте, что в детстве вы сломали ногу. Кость срослась, но неправильно. И теперь вы всю жизнь хромаете. Эта хромота, несомненно, стала частью вашей личности. Она повлияла на ваш характер, на выбор профессии, на ваши отношения с людьми. Вы – это человек, который хромает. А теперь представьте, что современная медицина предлагает вам операцию. Простую, безболезненную. Она исправит вашу кость. И вы перестанете хромать. Вы согласитесь? Или откажетесь, потому что эта хромота, эта боль при каждом шаге – это часть вас?»
Артем молчал. Аналогия была убийственно точной и одновременно чудовищно неверной. Эйзенштейн приравнивал воспоминания, чувства, суть личности к неправильно сросшейся кости. К патологии. К дефекту, который нужно исправить.
«Эмоциональная боль, Артемий, – продолжил доктор, видя его замешательство, – это такая же патология. Это сбой в системе. Это вирус, который поражает наше сознание и заставляет нас снова и снова переживать то, что давно прошло. Воспоминание само по себе нейтрально. Это просто информация. Но эмоциональный заряд, который к нему прикреплен – страх, горе, вина, – вот это и есть та самая неправильно сросшаяся кость. Моя методика, то, что я называю „Исправлением“, – это не амнезия. Я не стираю вашу память. Я – хирург. Я с ювелирной точностью отделяю информацию от патологического эмоционального заряда. Вы будете помнить все события вашей жизни. Но они больше не будут причинять вам боль. Они станут просто фактами вашей биографии. Как прочитанная книга».
«Как чужая биография», – мысленно закончил Артем, вспомнив пустые глаза Елены Сомовой.
В этот момент в дверь тихо постучали. Помощница Эйзенштейна вошла с подносом, на котором стояли две чашки с чаем. Одна в точности как та, что ждала Артема в холле, другая – такая же. Она поставила одну чашку на столик рядом с Артемом, другую – рядом с доктором.
«Спасибо, Анна», – сказал Эйзенштейн. Она кивнула и бесшумно вышла.
«Прошу вас, – доктор жестом указал на чай. – Давайте сделаем небольшую паузу».
Он взял свою чашку и сделал маленький глоток. Теперь у Артема не было выбора. Отказ выглядел бы как проявление крайнего недоверия и разрушил бы всю легенду. Он медленно взял теплую фарфоровую чашку. Аромат жасмина и мяты был тонким, успокаивающим. Он поднес чашку к губам. Диктофон в кармане казался бесполезным куском пластика. Он не запишет вкус, не проанализирует химический состав. Артем сделал глоток.
Чай был обычным. Вкусным, ароматным. Никакого странного привкуса, никакой горечи. Просто хороший зеленый чай. Он сделал еще один глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу. Возможно, он ошибался. Возможно, дело было не в химии. А в чем-то гораздо более сложном и пугающем.
«Вы сомневаетесь, и это нормально, – сказал Эйзенштейн, словно прочитав его мысли. Он отставил свою чашку. – Весь наш культурный код построен на культе страдания. Нас учат, что через боль мы становимся сильнее, мудрее, глубже. Это великое заблуждение, Артемий. Через боль мы становимся только более измученными. Страдание не облагораживает. Оно разрушает. Оно заставляет нас принимать неверные решения, срываться на близких, видеть мир в темных тонах. Оно – яд. Медленный, но верный. Скажите, вы когда-нибудь видели человека, по-настоящему счастливого в своем страдании?»
Артем вспомнил свою мать. Ее улыбку-трещину на фарфоровой маске. Улыбку-мольбу. Была ли она счастлива? Нет. Хотела ли она избавиться от боли? Да, больше всего на свете. Но хотела ли бы она… этого? Стать пустым сосудом, читающим собственную жизнь как чужую книгу? Он не знал ответа. И это незнание было самым мучительным.
«Что именно вы предлагаете? – спросил Артем, возвращаясь к роли пациента. – Гипноз? Медикаменты?»
«Я предлагаю диалог, – мягко поправил Эйзенштейн. – Диалог с вашим подсознанием. Это состояние глубокой релаксации, когда мы можем получить доступ к тем настройкам, которые обычно скрыты. Это похоже на работу с системным реестром компьютера. Мы не удаляем файлы. Мы просто меняем несколько строчек в коде, чтобы программа перестала выдавать ошибку. Это совместная работа, Артемий. Я лишь проводник. Всю работу делаете вы сами. Я не могу заставить вас сделать то, чего вы не хотите. Ваша воля – это ключ».
Ложь. Искусная, убедительная ложь. Он видел результат этой «работы». Это была не коррекция кода. Это было полное форматирование диска. Но его слова звучали так разумно, так безопасно. Он обещал контроль тому, кто его терял.
«Я… я должен подумать», – сказал Артем. Это была часть плана. Не соглашаться сразу. Продемонстрировать сомнение, рефлексию.
«Конечно, – Эйзенштейн с готовностью согласился. – Это важное решение. Я никогда никого не тороплю. Гармония не терпит суеты. Но позвольте мне дать вам небольшой совет, если можно. Вне зависимости от того, решите ли вы продолжить наши встречи или нет».
Он подался чуть вперед, и его голос стал еще тише, еще доверительнее. «Всю следующую неделю, до нашей возможной следующей встречи, попробуйте проделать одно простое упражнение. Каждый раз, когда вы будете испытывать негативную эмоцию – раздражение в пробке, тревогу из-за работы, укол старой обиды – не пытайтесь с ней бороться. Не анализируйте ее. Просто отметьте ее про себя. Скажите себе: „Вот она. Боль. Это сигнал“. Как лампочка на приборной панели автомобиля. Она не хорошая и не плохая. Она просто информирует о неисправности. Попробуйте отнестись к своей боли не как к части себя, а как к внешнему сигналу. Понаблюдайте за ней со стороны. Вы удивитесь, как много это изменит».
Артем почувствовал, как по его телу снова пробегает озноб, не связанный с температурой в комнате. Это было оно. Начало. Первый, самый тонкий надрез. Он предлагал ему технику диссоциации. Отделения себя от своих чувств. То, что в психологии используется как временный терапевтический прием, он преподносил как универсальный жизненный принцип. Он учил его смотреть на собственную душу глазами механика.
«Я попробую, – сказал Артем, и голос его прозвучал глухо».
«Отлично». Эйзенштейн откинулся на спинку кресла. Аудиенция была окончена. «Я попрошу Анну записать вас на то же время через неделю. Если вы передумаете – просто позвоните. Никаких обязательств».
Он снова встал, и Артему не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Они снова обменялись рукопожатиями.
«Всего доброго, Артемий. Я верю, вы найдете свой путь к гармонии», – сказал доктор на прощание.
Артем вышел из кабинета, как в тумане. Помощница Анна уже ждала его в коридоре с его плащом в руках. Она проводила его до выхода, пожелав хорошего вечера своей протокольной улыбкой.
Дверь за ним закрылась, отсекая стерильную тишину. И на него обрушился город. Шум машин, крики, сирена вдалеке, непрекращающийся шепот дождя. Мир обрушился на него всем своим болезненным, несовершенным, живым хаосом. Артем стоял на крыльце, глубоко вдыхая влажный, пропитанный запахами воздух. Он чувствовал, как бешено колотится сердце.
Он пришел сюда как охотник, следователь, диверсант. Он думал, что будет вести интеллектуальную дуэль, анализировать, подмечать. Но весь сеанс он только защищался. Эйзенштейн не атаковал его легенду. Он атаковал его самого, его суть, пробиваясь сквозь вымысел к настоящей боли. Артем чувствовал себя так, словно опытный хирург только что без анестезии прощупал все его внутренние опухоли и шрамы, вежливо улыбаясь и говоря о погоде.
Он сунул руку в карман и нащупал диктофон. Он работал. Он записал весь этот вкрадчивый голос, все эти выверенные, убийственные аналогии. Но сможет ли эта запись передать взгляд? Атмосферу? Ощущение полной и безоговорочной правоты в глазах этого человека? Артем вдруг понял, что Эйзенштейн не злодей из комиксов. Он не лгал. Он искренне, всем своим существом верил в то, что делает. Он верил, что несет благо. И в этом была его самая страшная сила. Он был хирургом, который видел весь мир как одну большую раковую опухоль, имя которой – человеческие чувства. И он, Артем, только что добровольно лег на его операционный стол, позволив нарисовать на своей коже первую линию будущего разреза.
Дождь усилился. Артем поднял воротник и пошел прочь, не оглядываясь. В голове звучал спокойный, мягкий голос доктора: «Понаблюдайте за ней со стороны…» Он почувствовал укол тревоги, почти паники. И тут же, против своей воли, в сознании всплыла мысль: «Вот она. Боль. Это сигнал». Он замер посреди тротуара, осознав, что только что сделал. Упражнение началось. И он даже не заметил, как сам его запустил.
Архитектор спокойствия
Конечно, вот текст четвертой главы «Архитектор спокойствия», написанный в строгом соответствии с предоставленной информацией и стилем, продолжающий сюжет предыдущих глав.
Воздух снаружи был плотным и тяжелым, как мокрая шерсть. Он не освежал, а давил, забивая легкие запахом гниющей листвы и растревоженного асфальта. Артем стоял под козырьком клиники, не решаясь сделать шаг в этот бурлящий, несовершенный мир. Тишина кабинета Эйзенштейна все еще звенела в ушах, стерильная, выверенная тишина, на фоне которой хаос города казался оглушительной какофонией. Он чувствовал себя водолазом, слишком быстро поднявшимся с большой глубины. Каждый звук – визг тормозов на перекрестке, далекий вой сирены, обрывок смеха из проезжающей машины – бил по нервам с болезненной резкостью.
Он сделал шаг, потом другой. Подошвы ботинок шлепали по влажному тротуару, и этот звук казался неуместным, слишком материальным. В голове продолжал звучать голос доктора – мягкий, обволакивающий баритон, лишенный каких-либо острых углов. «Понаблюдайте за ней со стороны… Отметьте ее про себя… Вот она. Боль. Это сигнал». Слова были не приказом, а предложением, от которого, как выяснилось, невозможно отказаться. Они проникли под кожу, стали частью его внутреннего монолога, чужеродным программным кодом, который уже начал исполняться.
Он почувствовал, как по спине пробежал холодок – не от сырости, а от запоздалого, глубинного страха. Он пришел туда как охотник, а вышел… чем? Объектом наблюдения? Пациентом, которому прописали первое, самое безобидное на вид лекарство? Он ощутил приступ тревоги, острый, как укол иглой. И тут же, автоматически, без сознательного усилия, в голове всплыла мысль, холодная и ясная, как капля дистиллированной воды: «Вот он. Страх. Это сигнал». Он остановился посреди тротуара, заставив спешащего прохожего раздраженно обогнуть его. Он замер, пытаясь осознать то, что только что произошло. Он не просто подумал это – он сделал это. Он отделил чувство от себя, поместил его под воображаемое стекло, как энтомолог бабочку. И страх, лишенный подпитки, лишенный его реакции, на мгновение замер, а потом словно бы поблек, утратил свою интенсивность. Осталось лишь его эхо, физиологический след – учащенный пульс, напряжение в плечах.
Это было ужасно. И это сработало.
Артем заставил себя идти дальше. Он шел, не разбирая дороги, погруженный в анализ произошедшего. Эйзенштейн не лгал. Он действительно дал ему инструмент. Простой, элегантный и дьявольски эффективный. Инструмент для вивисекции собственной души. Доктор был не просто психотерапевтом. Он был архитектором. Архитектором внутреннего пространства. Он не ломал стены, он предлагал чертежи для перепланировки, настолько соблазнительные в своей логике и простоте, что человек сам брался за молоток, с энтузиазмом снося несущие конструкции собственной личности.
Он дошел до своей улицы, до своего дома – серой, безликой панели, одного из тысяч одинаковых ульев, где в миллионах ячеек копошились миллионы жизней, полных той самой «боли», которую Эйзенштейн предлагал так изящно устранить. Поднявшись в квартиру, он не сразу включил свет. Стоял в полумраке прихожей, ощущая привычный запах остывшего кофе, пыльных книг и одиночества. Этот запах всегда был частью его дома, частью его самого. Сегодня он показался ему симптомом беспорядка. Не творческого хаоса, а именно системной ошибки.
Он прошел в комнату и включил ноутбук. Первым делом – «Протокол. Дело №1». Он должен был зафиксировать все, пока впечатления были свежими, пока он еще мог отличить свои мысли от тех, что были подсажены ему. Пальцы легли на клавиатуру.
«Сеанс 1. Дата: 31 октября. Субъект: Доктор Марк И. Эйзенштейн. Место: клиника „Гармония“.
Атмосфера: Стерильность, покой, дезориентация. Пространство спроектировано с целью подавления аналитического мышления и индукции состояния расслабленности. Мягкий рассеянный свет без видимых источников, звукопоглощающие материалы, минимализм в интерьере. Все элементы работают на создание ощущения безопасности и изоляции от внешнего мира».
Он остановился. Язык протокола, который он сам для себя избрал, казался пугающе созвучным тому миру, который он описывал. Холодный, отстраненный, аналитический. Он описывал архитектуру забвения языком архитектора.
Он продолжил печатать, описывая внешность доктора, его манеру говорить, ключевые тезисы. Он пытался препарировать их разговор, найти уязвимости, логические ловушки, манипулятивные техники. НЛП, подстройка, раппорт – все было на месте, исполнено на виртуозном уровне. Но это было лишь техникой, скелетом. Мясом, кровью и нервами этой системы была философия Эйзенштейна. Искренняя, выстраданная вера в то, что страдание – это ошибка, вирус в коде человечества.
Когда он дошел до аналогии с неправильно сросшейся костью, пальцы замерли над клавиатурой. Он вспомнил фотографию из полицейского архива – искореженный металл, лицо молодого Эйштейна, искаженное горем. Он не просто придумал эту метафору. Он жил в ней. Он был человеком, который сам себе ампутировал больную конечность, а теперь предлагал ту же операцию всему миру, искренне веря, что дарует спасение.
Артем достал диктофон. Он вставил наушники, откинулся в кресле и закрыл глаза. Ему нужно было услышать это еще раз, без гипнотического влияния взгляда доктора, без обволакивающей атмосферы кабинета. Только голос.
Запись была чистой. Голос Эйзенштейна заполнил тишину, спокойный и ровный. А затем Артем услышал свой собственный голос. Напряженный, местами срывающийся, полный сомнений, которые он пытался скрыть за маской цинизма. Он слушал их диалог, и ему становилось не по себе. Со стороны это выглядело не как допрос или интеллектуальная дуэль. Это было похоже на разговор уставшего, измученного человека с врачом, который единственный понимает его боль и предлагает от нее лекарство. Все его контраргументы, все апелляции к ценности опыта звучали слабо, как заученные фразы, как попытка защитить свою болезнь, потому что другой жизни он не знал.
Он дослушал до конца. До последней фразы: «Я верю, вы найдете свой путь к гармонии». И в этой фразе не было ни капли сомнения. Это была констатация факта. Неизбежности.
Артем выдернул наушники. В квартире стояла густая тишина. Он чувствовал себя уязвимым, вскрытым. Он понял, что его план был чудовищно наивен. Он собирался изучать вирус, позволив себе заразиться, уверенный, что его иммунитет – его воля, его цинизм, его профессионализм – справится. Но вирус оказался умнее. Он не атаковал иммунную систему. Он маскировался под нее. Он предлагал ей усовершенствование.
