Борьба с сионизмом в мировой истории. 12 портретов
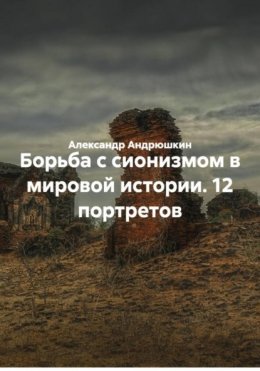
ПРЕДИСЛОВИЕ 2024 года
Эта книга – не идеологический трактат, она содержит двенадцать очерков-портретов тех, кто боролся с постоянно присутствующим в мировой истории явлением – сионизмом.
Портрет главного борца с сионизмом – нашего Господа Иисуса Христа – в книге, конечно, отсутствует, хотя автор книги вдохновлялся именно учением Христа. Может быть, поэтому получилось так, что портретов в ней – двенадцать. Это – как двенадцать учеников Христа, хотя некоторые из них (Авл Авилий Флакк, Антиох IV) жили ещё до утверждения христианства, а некоторые (аятолла Хомейни, Абу Юсуф Якуб аль-Мансур) и вовсе исповедовали другую религию – ислам.
Еврейство – это непростое явление, и столь же сложно понятие сионизма. Упомяну здесь лишь две книги, в одной из которых утверждается, что антисионизм возник вместе с христианством, а во второй – что он существовал и до Христа. Вторая книжка это «Антисемитизм в Древнем Мире» (Петроград, 1922), принадлежащая перу историка С. Я. Лурье, а первая – монография современного петербургского гебраиста А. Г. Грушевого «Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи» (СПб., 2008).
Грушевой пишет о том, что период истории, последовавший за переносом столицы Римской империи в Константинополь, «характеризуется медленным, но неуклонным ухудшением положения иудеев в римском государстве в связи с изначальной, хотя и непоследовательной враждебностью христианства к иудаизму… Отношение христиан к иудеям, сложившееся в IV-VI вв., во многом определило последующий характер взаимоотношений адептов двух мировых религий вплоть до наших дней»1.
В той же книге Грушевой перечисляет различных мыслителей, рассматривающих борьбу с сионизмом в теоретическом плане; к этому источнику я и отсылаю тех, кто интересуется теоретической стороной данного вопроса. Хотя в теоретизировании по этому поводу я не вижу большого смысла.
Основные принципы борьбы с сионизмом (или, быть может, преодоления сионизма) утвердил, как уже сказано, Христос, а, как знают все христиане, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8).
Да, церковь порой переживала периоды упадка и гонений, годы советской власти тому пример. Но сегодня продолжается возрождение христианства, и покойный Патриарх Алексий II совершенно правильно назвал конец ХХ века «Вторым Крещением Руси». «Низшая точка» атеистического шабаша, возможно, уже пройдена, христианство будет укрепляться, а значит, и усиливаться будет борьба с сионизмом.
О том, как именно велась эта борьба в разных странах и в разные эпохи, и говорит эта книга. Порой бывали и перехлёсты… Дьявольской личностью был, конечно, Гитлер, и его портрета в этой книге нет. Христианином по духу (как, например, аятоллу Хомейни) автор этой книги Гитлера считать не может.
Все остальные борцы с сионизмом, о которых рассказывает книга, в общем и целом, были людьми положительными, хотя порой тоже излишне жестокими, – но до определенного предела. Их опыт нужно знать, и в этом отношении книга, я уверен, будет полезна её читателям.
Санкт-Петербург, 2017–2024 г.
1. АВЛ АВИЛИЙ ФЛАКК (? – 38 н.э.)
Имя Авла Авилия Флакка, римского наместника в Египте, упоминается всякий раз, когда заходит речь об одном из крупнейших погромов в истории человечества, произошедшем в Александрии в 38 н.э.
События в Александрии вошли в историю и количеством жертв, и некоей трагической загадочностью, в которой, если бы её можно было разложить на составляющие, стоило бы выделить следующее:
1. Это был первый крупный погром собственно христианской эры, произошедший всего через пять лет после вознесения Христа (33 н.э.), и для него уже характерны некоторые черты, которые потом будут повторяться во всех погромах христианского времени. Хотя по форме это был ещё погром чисто языческий, «римский», связанный с попытками установить в синагогах статуи императора Калигулы.
2. Данный погром сравнительно подробно (хотя и не бесспорно) документирован: описан в двух трактатах известного иудейского автора тех лет Филона Александрийского. Однако оценки и выводы, содержащиеся в его трактатах «Против Флакка» и «О посольстве к Гаю», представляются кое в чём ошибочными, и об этом пойдёт речь ниже.
3. Погром произошёл во второй год правления нового императора, Калигулы, занявшего римский престол после смерти правившего почти четверть века Тиберия, и был выгоден определённым силам в продолжающейся в Римской империи борьбе за власть. И, хотя большой элемент стихийности имел место, значительную роль в событиях играл именно «бюрократический» элемент, отразивший противоречия в этническом составе империи и её администрации.
С разговора об этих противоречиях и нужно начать.
Флакк был назначен наместником Египта в 32 н.э., то есть ко времени погрома он управлял Египтом уже шесть лет. Сам же Египет (как и Иудея) попал под власть Рима, как известно, в середине первого века до н.э., то есть относительно незадолго перед тем. Цезарь вступил в Александрию в 48 до н.э., но затем Египет отложился во время гражданской войны между Августом и Антонием, закончившейся победой Августа в 30 до н.э.
Датой присоединения Египта к Риму, следовательно, можно считать как 48 до н.э., так и 30 до н.э.; как известно, в империях некоторые провинции приходится завоевывать по нескольку раз…
Годы правления императора Августа: 27 до н.э. – 14 н.э.; ему наследовал его приемный сын Тиберий (14 – 37 н.э.), Тиберию – Калигула (37 – 41 н.э.).
Ясно, что во время наместничества Флакка в Египте Рим ещё не имел длительного опыта взаимоотношений со многими вновь покорёнными народами, в том числе греками, египтянами и иудеями.
Со своей стороны, и эти народы вырабатывали своё отношение и к власти в Риме, и – заново – друг к другу.
Ведь не исключено было, что те этнические группы, которые до римского завоевания были «сверху», теперь могли оказаться «снизу», так как Риму могло быть выгодно поддерживать некоторые национальные меньшинства в противовес их прежним угнетателям.
Иудеи, конечно, не надеялись на этой «кривой» обойти греков, так как прекрасно представляли себе мощь греков и их преобладание – хотя бы только численное – во всем восточном Средиземноморье. Но вот возвыситься над египтянами и персами, которые также предлагали себя Риму в качестве универсальных «брокеров», иудеи вполне могли и должны были.
Кстати, одним из первых антииудейских мероприятий в Римской империи, осуществлённых в годы правления Тиберия (и в годы всесилия начальника его преторианской гвардии Сеяна) был указ сената (19 н.э.), предписавший высылку из города Рима всех иудеев и одновременно всех приверженцев египетской религии. Иными словами, римские власти тогда ещё не делали больших различий между египтянами и евреями, считая тех и других одинаково нежелательными. Однако, строго одинаковой антипатия долго оставаться не может, и раньше или позже какая-то национальная группа обязательно «выдвинется» на роль наиболее антипатичной…
Вот как об этом указе римского сената рассказывает Тацит: «обсуждался и вопрос о запрещении египетских и иудейских священнодействий, и сенат принял постановление вывезти на остров Сардинию четыре тысячи заражённых этими суевериями вольноотпущенников, пригодных по возрасту для искоренения там разбойничьих шаек, полагая, что если из-за тяжёлого климата они перемрут, то это не составит большой потери; остальным предписывалось покинуть Италию, если до определенного срока они не откажутся от своих нечестивых обрядов».2
Меньше чем через двадцать лет после этого указа произошел погром в Александрии… Вот как описывает Флакка и стиль его руководства уже упоминавшийся писатель Филон Александрийский (Филон Иудей):
«Флакк, принадлежавший свите Тиберия, был назначен наместником Александрии и Египта после кончины своего предшественника Ибера. Он обладал многими приметами исключительной натуры: настойчивостью, упорством, острым умом, последовательностью в решениях и поступках, готовностью к беседе и способностью увидеть за словами суть дела. Он быстро входит во все дела египтян, а ведь они весьма сложны и запутанны, так что даже те, кто был посвящён в них с давних пор, вникали с трудом. Помощников у него было без счёта, ибо даже мельчайшего дела не оставлял он пристальным своим вниманием, так что не только превзошёл всю эту премудрость, но вследствие своей вдумчивости и деловитости сам стал наставником своих недавних учителей. Считать доходы и распоряжаться ими он умел отлично, но не в этих делах, важных, конечно, и необходимых, проявлялась властная его натура, а сам он откровенно являл все признаки личности сильной и царственной: держался он с большим достоинством и важностью, ибо гордость в высшей степени украшает правителя; разбирал вместе с высокопоставленными лицами только значительные дела; осаживал не в меру кичливых; не допускал, чтобы всякий сброд объединялся для противостояния властям; запретил сообщества и союзы, где жертвоприношенья были только прикрытием пирушек и дела решались на пьяную голову, а всех участников взнуздал как следует.
Потом, когда его трудами и город, и вся страна исполнились законопослушания, он принялся мало-помалу, но тщательно и неуклонно подтягивать армию: муштровал пехоту, конницу, легковооружённые войска; внушал полководцам, что, отбирая жалованье у своих воинов, они толкают их тем самым на разбой и грабежи; каждого воина учил исполнять свой долг в соединении с заботою о том, что он стоит на страже мира…
Флакк был у власти шесть лет, и первые пять лет, пока Тиберий был жив, он хранил мир и правил столь деятельно, что превзошёл всех своих предшественников. Но на шестой год, когда Тиберий скончался и скипетр самодержца достался Гаю (Калигуле – А. А.), Флакк стал выпускать из рук бразды правленья… вспомнил, как вместе с другими нападал на покойную мать Гая, когда ей предъявляли обвиненья, ставшие причиной её гибели, и страх перед расплатой заставил его забыть служебный долг.
Впрочем, какое-то время он крепился, ещё не выпуская вожжи из рук, но когда он узнал, что внук Тиберия и дольщик верховной власти убит по приказу Гая, то просто рухнул, сражённый этим роковым несчастьем, лежал, не размыкая уст, и хуже того – рассудок совершенно отказался ему служить…»3
В этом состоянии помрачённого сознания, продолжает дальше Филон Александрийский, Флакк якобы и отдал приказ громить иудеев…
Сразу нужно сказать, что возникают определенные сомнения как по поводу столь уж идеальной службы Флакка в начале, так и по поводу этого самого помраченного его сознания.
Но об этих сомнениях и о личности Флакка – позже, а пока, думается, нужно изложить саму канву произошедшего в Александрии. При этом я, конечно, извиняюсь перед теми читателями, которым всё описываемое хорошо известно, ведь процитированный трактат Филона Александрийского, можно сказать, является классикой, одним из первоисточников той важной исторической дисциплины, которая называется «история еврейского народа». Тексты Филона пересказывает и С. Я. Лурье в своей известной брошюре «Антисемитизм в Древнем мире» (Петроград, 1922), если же говорить о западных учёных в этой отрасли, то среди них значительное внимание александрийскому погрому уделил Эмиль Шюрер (об этом историке – чуть позже).
Итак, с чего начался погром в Александрии осенью 38 н.э.?
В город прибыл иудейский царь Агриппа I (внук Ирода Великого, царствовал до 44 н.э.), прибыл прямиком из Рима, от императора Калигулы, и вообще-то в Александрию заглянул проездом по дороге в Иерусалим. Как известно, Рим какое-то время сохранял номинальных или не совсем номинальных иудейских царей; вообще, в некоторых областях империи имелось двойное управление: как местный царь, так и римский чиновник (конкретно, в Иудее это был прокуратор). В Египте, однако, никакого местного царя уже не было, и появление Агриппы не могло не раздражать как египтян, так и греков.
Еврейские погромы в Александрии и других египетских городах и раньше случались нередко, и об одном из крупных антиеврейских выступлений, имевших место задолго до описываемых событий, С. Я. Лурье в брошюре «Антисемитизм в Древнем мире» пишет так: «Организаторами и устроителями погромов явилось египетское простонародье, возглавляемое тогдашней интеллигенцией, т.е. духовенством – жрецами местного храма».4
Простонародье Александрии и на этот раз воспользовалось прибытием Агриппы для того чтобы выразить свою ненависть и к нему лично, и к иудеям вообще. По уверению Филона, визит Агриппы власти попытались «спрятать», т.е. сделать не очень публичным, да и вообще многие считали его ненужным, ведь он и стал той искрой, от которой вспыхнул пожар.
Чернь начала пародировать Агриппу: нашелся юродивый по имени Карабас (ставшем с тех пор едва ли не нарицательным), который то голый, то в шутовском наряде изображал из себя Агриппу. Ему сделали шутовские же царские знаки отличия, а группа приспешников разыгрывала сцены поклонения ему. Его водили по кабакам, площадям, рынкам, гимнасию и прочим публичным местам громадной Александрии, которая много лет была крупнейшим городом Средиземноморья, с более многочисленным населением чем в Риме.
Вот как Карабаса и его поведение описывает Филон Александрийский:
«Был там один безумец по имени Карабас; его помешательство не было буйным и жестоким (приступы такого безумия обычно непредсказуемы и для тех, кто им подвержен, и для окружающих), но более тихим и кротким. Этот Карабас дневал и ночевал под открытым небом, нагой и совершенно равнодушный к жаре и к холоду, служа забавой праздным юнцам. Пригнав несчастного к гимнасию, его поставили на возвышенье, чтобы всем было видно, соорудили из папируса нечто вроде диадемы, тело обернули подстилкой, как будто плащом, а вместо скипетра сунули в руку обрубок папирусного стебля, подобранного на дороге. И вот он, словно мимический актер, обряжен царём и снабжен всеми знаками царского достоинства, а молодёжь с палками на плечах стоит по обе стороны, изображая телохранителей. Потом к нему подходят: одни – как бы с изъявлениями любви, другие – как будто с просьбой разобрать их дело, а третьи – словно прося совета в государственных делах. Потом в толпе, стоящей вокруг него кольцом, поднимаются крики; Карабаса величают Марином (так у сирийцев зовется господин), ибо всем было известно, что Агриппа сам родом из Сирии и что значительная её часть входят в состав его владений.
Всё это слыша или, скорее, видя, Флакк должен был бы и безумца взять под стражу, дабы тот не подавал повода для нападок и оскорбленья вышестоящих лиц, и тех, кто так вырядил его, наказать за то, что они осмелились и словом, и делом, и открыто, и исподтишка оскорблять царя, друга Цезаря, человека, получившего от римского сената все знаки преторского достоинства… Но Флакк был заодно с этими людьми во всех их постыдных делах, и данную ему исключительную власть употребил злостно, разжигая распри и давая огню всё новую и новую пищу, и всюду, куда простиралась его власть, разгорелась междуусобная вражда…»5
…Более важным чем шутовство был, конечно, начавшийся грабеж еврейских лавок, еврейских торговцев и домов. Начались убийства евреев, которых волочили по улицам, расчленяли, публично сжигали, издевались над трупами… Обо всём этом мы узнаём из описаний, принадлежащих перу Филона Александрийского. Опять цитирую его записки:
«Ограбленные, лишенные крова, изгнанные из большинства кварталов Александрии, евреи очутились как бы в кольце врагов – беспомощные, мучимые отсутствием самого необходимого; на их глазах женщины и дети умирали от голода среди цветущих, щедро напоённых половодьем возделанных полей, в избытке приносивших плоды. Не в силах более терпеть нужду одни пошли (против обыкновения) к друзьям и родственникам, прося на жизнь, другие, чей благородный дух чурался попрошайничества как рабьей доли, недостойной свободного человека, решились, несчастные, пойти на рынок, чтобы достать еды себе и домашним. А, попав в руки черни, тотчас бывали они убиты, и трупы их тащили через весь город, топча и превращая в месиво, так что и предать земле было бы нечего. И много тысяч других страдальцев уничтожали изощрившиеся в изуверстве, доведенные собственной свирепостью до зверского состояния недруги: стоило кому-то из евреев где-то появиться, его тотчас побивали камнями или кольями, стараясь при этом не задевать жизненно важных органов, с тем чтобы страданья жертв продлить подольше. Иные, упоённые полной безнаказанностью, выбирали только самые жестокие орудия – железо и огонь, и многих порубили мечами, немало и пожгли. Вообразите, целые семьи: мужья и жёны, родители и дети были преданы огню посреди города – не щадили безжалостные ни стариков, ни молодых, ни младенцев невинных; а если не хватало дров, они, собравши хворост, душили несчастных дымом, и те умирали в ещё более чудовищных муках, и было страшно видеть груду полусожжённых тел. А если и хвороста недоставало, тогда дровами служила утварь самих несчастных, похищенная из домов: конечно, что получше, тащили себе, а что похуже, сжигали вместе с владельцами. А многих, ещё живых, тащили за ногу, привязав верёвку к лодыжке, и одновременно топтали; над теми, кто умер такою дикой смертью, эти люди продолжали глумиться с не меньшей яростью: не было улочки в Александрии, по которой не протащили бы труп, покуда кожа, мясо и сухожилия не истирались о неровную и каменистую поверхность земли, покуда все части, когда-то составлявшие единство, не отрывались друг от друга и тело не превращалось в ничто.»6
…Итак, грабежи, пожары и бесчинства продолжались в Александрии много дней и даже недель. Возможно, погром то затихал, то вспыхивал вновь; авторитетнейший немецкий исследователь Эмиль Шюрер даже отмечает, что, по мнению некоторых историков, за годы правления Калигулы в Александрии произошел не один погром, а больше, а описания могли как бы слиться в одно.7
Несколько слов об историке Э. Шюрере (1844 – 1910), на которого я только что сослался и на которого буду ссылаться ещё не раз. Его главный, трёхтомный труд, «История еврейского народа во времена Иисуса Христа», переведён на многие языки мира (к сожалению, не на русский). Этот фундаментальный труд содержит и наиболее полный свод источников, до начала ХХ века включительно, по еврейской истории от второго века до н.э. до конца второго в. н.э.
Сколько всего погибло иудеев в 38 н.э., сказать трудно, хотя бы потому, что не вполне понятно, какое количество иудеев вообще жило в то время в Египте. Филон Александрийский утверждает, что во всем Египте насчитывалось не менее миллиона иудеев, ту же цифру повторяет Моммзен. Это не может не казаться преувеличением, но если даже (весьма произвольно) сократить это число вдвое и считать, что убита была одна десятая, то и тогда придется признать, что погибло около 50 тысяч иудеев…
В любом случае, известно, что погром продолжался, что называется, «до упора», то есть до тех пор, пока не исчез, собственно, объект нападения, пока не исчезли не то что богатые иудеи, но иудеи, сохранившие волю к вооруженному сопротивлению. (Наверняка, вооруженное сопротивление было, хотя Филон Александрийский о нём не упоминает.)
Однако уличные события были лишь частью происходящего. Подвергнувшись первым нападениям (а нападавшие, подчеркиваю, были в основном греки и египтяне), иудеи, естественно, обратились к римлянам за защитой. Флакк, вероятно, должен был им ответить (искренне или нет – это другой вопрос), что у римлян нет достаточных войск для защиты всех иудеев. Он отдает распоряжение переселить иудеев из четырёх районов города, которые они занимали, в один – якобы потому, что, так компактно собрав иудеев, их было легче защищать.
Флакк также издает указ о лишении евреев гражданских прав – это якобы должно было успокоить египтян и греков, считавших, что иудеи получили в римской империи больше прав, чем было у самих египтян и греков; но, скорее всего, этот указ отражал собственное мнение Флакка по поводу прав иудеев.
Ещё один известный факт этого погрома заключается в том, что Флакк лично присутствовал на допросах евреев, которые проводились публично, причём, в помещениях, обычно для этого не используемых – в театре. 38 членов иудейского Совета старейшин было приведено в театр и подвергнуто бичеванию в присутствии Флакка и других вождей; причём одних иудеев, по утверждению Филона, убили сразу, других заставили долго мучиться.
Наконец, известно и то, что Флакк задержал отправку Калигуле письма александрийских евреев, в котором они уверяли Цезаря, что воздают ему божеские почести в синагогах. Письмо в конце концов передали Калигуле через Агриппу. Некоторые историки высказывают мнение, что, когда об этом факте задержки письма доложили Калигуле, это стало для императора одним из доводов в пользу решения отстранить Флакка от должности и отдать его под суд.
Вряд ли этот довод был главным, но, как бы то ни было, для ареста Флакка из Рима была направлена группа солдат под командованием офицера, которые и арестовали Флакка и доставили его в Рим.
Флакк был найден императором Калигулой виновным и вначале сослан на остров Андрос в Эгейском море, а ещё через некоторое время казнён вместе с другими знатными ссыльными. Известно, что после этого и сам император прожил недолго: в 41 н.э. Гай Калигула был убит заговорщиками…
* * *
Такова вкратце канва произошедшего в Александрии. О Флакке и об этих событиях писали многие авторы как древности, так и Нового времени. Мнение о Флакке Филона внутренне противоречиво: с одной стороны, он, фактически, утверждает (как это цитировалось выше), что Флакк впал в безумие, разрешив погром, с другой стороны, Филон показывает и весьма энергичные действия Флакка во время этих событий.
И всё-таки личность Флакка предстает перед нами как загадка, в ней как-то не хватает характерности, что ли; мы как бы имеем дело с человеком, чисто рационально ищущим наилучший выход из весьма непростой ситуации, в которую он попал. Но, может быть, таким и должен был быть настоящий римлянин?
Неясно, что именно шло от Флакка, а что от обстоятельств в Александрии и от ситуации при дворе Калигулы. Шюрер замечает, что косвенным вдохновителем (indirekter Urheber) событий в Александрии был всё-таки сам Калигула. Шюрер пишет: «осенью 38 н.э. в Александрии разразился кровавый еврейский погром, который, хотя и произошёл с участием александрийского плебса, но его косвенным вдохновителем был Цезарь. В своём перевозбужденном и духовно помрачённом состоянии Калигула понимал до ужаса буквально идею божественной природы Цезаря. Для него культ Цезаря не был формой почитания, которую Рим унаследовал от греческих царей, но он, действительно, верил в свою божественность и видел в уклонении от отправления этого культа доказательство враждебности к себе лично. Во время второго года его правления эта мысль, по-видимому, прочно укоренилась в нём и стала известна и в провинциях. Провинциальные [чиновники] отвечали ему соответствующим рвением. За евреями, которые не могли участвовать в этом культе, закрепилась репутация враждебно настроенных против Цезаря… Тогдашний наместник Египта, А. Авилий Флакк… всё больше терял поддержку Калигулы. Как близкий друг Тиберия он с самого начала попал к Калигуле в немилость. После смерти молодого Тиберия (внука покойного Тиберия) и начальника преторианцев Макрона (оба они были принуждены Калигулой к самоубийству) у него не осталось при дворе никакой поддержки. И теперь у него не было никакой иной цели кроме этой: любым способом снискать благосклонность молодого Цезаря. Именно этим было обусловлено его отношение к иудеям».8
Осталось ответить на один вопрос: почему всё-таки Калигула арестовал и казнил Флакка?
Думается, основных причин было две. Первой была та, что, как соглашается большинство историков, Калигуле был свойствен определенный элемент если не безумия, то большой импульсивности при формулировке приказов. И, отдавая «крутые» приказы, он отнюдь не желал слышать об их неисполнимости. А принудить иудеев установить статуи в синагогах, а уж тем более заставить их молиться этим статуям было весьма трудно исполнимым желанием. Шюрер отмечает, что до конца правления Калигулы вопрос культа императора в синагогах оставался открытым и угрожающим для иудеев (только после воцарения Клавдия он был снят в их пользу).
И вот нашелся прекрасный повод сорвать злость: волнения в Александрии и Флакк! Флакк, таким образом, стал для Калигулы «козлом отпущения»…
Другую причину объяснить несколько труднее. Мне кажется, что, насколько бы несбалансирован ни был Калигула, всё-таки он чувствовал, что такое власть, и крепко держался за неё. Он понимал, что угроза для всех подданных, в том числе для иудеев, должна исходить от одного лица и что не может быть в государстве двух «главных антисемитов», как не может быть двух верховных главнокомандующих или двух императоров. В этом смысле Флакк был даже и своеобразным соперником Калигуле и должен был быть устранён.
Иудейский народ традиционно, ещё со времен Египта, Вавилонии являлся сильнейшим «ретранслятором ужаса», т.е. способен был усилить ощущение угрозы в обществе и передать его другим. К сожалению, в истории можно бывает уничтожать сотни тысяч человек какого-то народа, и никто об этом, как говорится, «даже не пикнет». Мол, ничего не поделаешь, что было, то было, сделанного не вернёшь и т.д. В то же время правителю бывает достаточно задеть иудеев, и они, благодаря присущей им высокой степени солидарности, не оставляют это деяние незамеченным (желательно – и ненаказанным). Возникающий эффект «отрицательной рекламы» очень ценится некоторыми правителями, которые больше всего боятся прослыть мягкими и либеральными.
Такие правители, соответственно, ревностно следят за тем, чтобы никто не отнял у них прерогативу быть «главным антисемитом» страны.
Об этом, например, свидетельствуют мемуары о Л.Брежневе, который, по-видимому, считал именно себя вершителем судеб российского иудейства. Он предпочитал решения об отставках иудеев принимать только лично, и именно это стало одной из причин его столкновения с А.Шелепиным, когда тот предложил снять с должности министра сельского хозяйства В.В.Мацкевича, которого и Шелепин, и Брежнев считали иудеем. В воспоминаниях А.Шелепина читаем:
«К моему удивлению, подводя итог заседания Президиума, Брежнев никак не отреагировал на мои замечания и предложения. На другой день вызвал меня. «Как понимать твоё вчерашнее выступление?» – резко спросил он. «А так и понимать, как было сказано», – ответил я. «Твоя речь была направлена против меня!» – «Почему?» – удивился я. «А ты что, не знаешь, что сельское хозяйство курирую я? Значит, всё, что ты говорил вчера, – это против меня… Затем, какое ты имел право вносить предложение о снятии с работы Мацкевича? Ведь это моя личная номенклатура!»9
Калигула, думается, тоже считал виднейших иудеев империи своей «личной номенклатурой» и никому, в том числе и Флакку, не собирался отдавать право запугивать их…
В одной из следующих глав речь пойдет именно об императоре Гае Калигуле.
2. АНТИОХ IV ЭПИФАН (ОК. 215 ДО Н.Э. – 163 ДО Н.Э.)
При чтении предыдущей главы у читателя могло сложиться впечатление, что Александрийский погром развивался как бы «по накатанной схеме», словно ему предшествовали уже какие-то похожие исторические события…
Так оно и было. Борьба с сионизмом, как уже отмечалось, велась на Ближнем Востоке задолго до начала Христианской эры. Мы не пойдем в историю слишком глубоко, до изгнания евреев из Египта (по данным современной библеистики, это произошло в 1446 до н.э.) или до Навуходоносора, впервые разрушившего Иерусалимский храм. Но жизнь и деяния Антиоха Эпифана, несомненно, должны быть описаны.
Эта фигура относительно мало известна, так сказать, «широкой публике», хотя она хорошо известна иудеям. Ведь вслед за гонениями, которые организовал Антиох, вспыхнуло восстание Маккавеев, а с победой этого восстания связан иудейский праздник ханука. Поэтому для иудеев личность их гонителя, Антиоха IV, столь же значима (и понятна) как для русских персона Чингис-хана, Батыя или, допустим, Наполеона.
Православный священник и богослов, Отец А. Мень так писал об Антиохе Эпифане:
«В библейской традиции Эпифан стал прототипом Антихриста. Начиная с книги Даниила до Иоаннова Апокалипсиса священные писатели будут придавать Врагу Божьему черты Антиоха. Этот человек не только впервые в истории решил полностью искоренить иудейскую религию, но и был первым царем после Александра Македонского, который всерьёз воспринимал свой божеский титул. Бог Израиля был для него противником, которого надлежало свергнуть с престола».10
…Итак, вот вкратце жизненный очерк Антиоха IV. Он был сыном Антиоха III Великого, который расширил и укрепил державу Селевкидов, но проиграл римлянам битву при Магнезии (недалеко от г. Смирна, нынешний г. Измир в Турции). Будущий Антиох IV был доставлен в Рим в качестве заложника и, в качестве такового, хорошо узнал Рим и римлян. После смерти Антиоха III (187 до н.э.) на престол вступил его старший сын, Селевк IV (годы правления 187 – 175 до н.э.). В 175 до н.э. царём становится Антиох IV…
Он совершил два похода в Египет, причём успешных, так что понадобилось вмешательство Рима чтобы предотвратить включение Египта в состав государства Селевкидов. Затем, как уже было сказано, Антиох осуществил гонения на иудеев, а в конце жизни предпринял военный поход против парфян, во время которого заболел и умер. Таков самый краткий очерк правления Антиоха IV, о котором я ниже скажу более подробно, особое внимание уделив анти-иудейским гонениям. Но сейчас следует высказать несколько соображений о таком, казалось бы, хорошо известном, но, в сущности, парадоксальном и загадочном явлении как эллинизм.
По-видимому, эллинизм с самого начала не был тем, что можно было бы назвать «колониализмом умеренным и осторожным», т.е. таким, когда есть корневая национальная база, метрополия, к которой понемножку присоединяют захваченные земли, рассматривая их, в основном, в качестве источника ресурсов. Именно так старался относиться Рим к своим постепенно накапливаемым провинциям, порой откровенно грабя их. Знатные римляне шли на всё, чтобы получить в управление провинцию, а заимодавцы охотно давали им в долг, зная, что, как только этот человек «сядет на провинцию», он возместит и свои, и чужие расходы. И победы над иноземцами римляне отмечали триумфами, конечно же, в Риме, куда доставляли и добычу, и пленных. Словом, Италия долго оставалась сердцевинной землей, а главный город – несомненным жизненным центром Римской империи.
Не совсем так было у греков. (Хотя у греков и это тоже было.) Но можно ли представить себе, чтобы Александр Великий так уж стремился к триумфу в своей родной Македонии, которая представлялась ему захолустной и провинциальной после тех блестящих завоеваний, которые выпали на его долю? И Птолемеи, и Селевкиды отнюдь не стремились «домой», рассматривая в качестве своей новой родины покорённые земли. Дело было в том, что греки сразу (и почти неожиданно для самих себя) захватили, действительно, очень много новых земель и народов. В этом смысле завоевания Александра Македонского были сродни варварским захватам, в ходе которых дикари покоряют цивилизованную страну, но отнюдь не «присоединяют» её к своей далекой племенной родине, а наоборот, сами предпочитают поселиться в захваченных богатых дворцах и на богатых землях.
Эллинизм можно рассматривать так, а можно всё-таки в качестве цивилизаторско-окультуривающей миссии; как уже сказано, он был и тем, и другим сразу. Быть может, эллинизм нёс на себе отпечаток личности Александра Македонского – умершего в разгар подготовки к новым походам, человека, достигшего, быть может, больше чем кто-либо ещё в истории, но в то же время ещё молодого, который, следовательно, не совершил всего, что мог бы совершить.
Если так смотреть на эллинистические государства, то они были прежде всего перевалочной базой, промежуточной ступенью, опираясь на которую, греки могли бы, – и, действительно, пытались, – завершить покорение Средней Азии, Индии, а там, как знать, быть может, настал бы черед и более отдаленных земель…
Часто можно встретить утверждение, что двумя главными эллинистическими государствами были держава Птолемеев с базой в Египте и держава Селевкидов. Однако последняя была государством значительно более крупным чем держава Птолемеев, к тому же именно держава Селевкидов, – которую по праву можно назвать империей, – была по-настоящему многонациональной. Индийские владения, правда, были потеряны Селевкидами, но в их империю входили Мидия, Персида, Месопотамия, Северная Сирия, часть Малой Азии. Именно держава Селевкидов была и наследницей Вавилонского царства.
Селевкиды вели длительные войны с Птолемеями за южную Сирию. Около середины III века до н.э., во время царствования Антиоха II, от державы Селевкидов отложились восточные области – Бактрия и Парфия, хотя управлялись они по-прежнему греками.
Одним из ведущих специалистов-историков, исследовавших государство Селевкидов, был, уже в советское и пост-советское время, Г. А. Кошеленко.11 Особый интерес представляет его исследование механизмов и процессов греческой колонизации Востока.
Свой анализ хозяйственного уклада в государстве Селевкидов Г. А. Кошеленко начинает с описания «царских» (т.е. принадлежавших династии Селевкидов) земель и с исследования жизни «посаженных» на эти земли греческих колонистов. Эти земли и эти колонисты и были основой основ государства, т.к. именно из этой категории населения набирались солдаты в армию, и сами эти колонисты были, в массе своей, «ветераны», т.е. закончившие срок службы солдаты. Выйдя в отставку, эти солдаты-греки получали участки стандартной величины (таких стандартных размеров участков было несколько, по меньшей мере, три, и наделы включали, как правило, пахотную землю и землю для сада и виноградника), а вместо них в ряды вооруженных сил вступали их дети – представители следующего поколения греков-колонистов. Армию свою Селевкиды составляли преимущественно из греков (македонян), избегая полагаться на местные этнические войска.
Именно эти греческие поселения, рассыпанные по всем сатрапиям империи Селевкидов, и были связующим её цементом. Призываемые в ряды войска, предводителем которого был сам царь, эти люди были заинтересованы в сохранении державы, следовательно – в подавлении этнических восстаний и волнений и в отражении нападений извне.
Внутренняя организация этих поселений напоминала структуру греческого полиса, а размещались они либо вблизи уже существовавших восточных городских центров, либо в новых местах, и тогда вокруг них могли вырастать новые, уже вполне греческие города. Например, Антиох IV основал город, названный им Антиохией, на побережье Персидского залива; там же чеканилась и монета, этими деньгами обеспечивалась масштабная торговля с Индией. Выход державы Селевкидов к Средиземному морю находился в северной Сирии, где и расположилась столица империи – Антиохия на Оронте.
…Индия, как уже сказано, была потеряна; но через такие области своей державы как Парфия (Иран) и Бактрия (Средняя Азия) греки организовали торговлю с Китаем. Именно на время расцвета империи Селевкидов пришлось возникновение «Великого шёлкового пути». Правда, как также уже отмечалось, Парфия и Бактрия от державы вскоре откололись, поскольку местная греческая элита считала, что ресурсы этих областей слишком эксплуатируются для войн, ведущихся, в основном, в районе Средиземноморья.
Как было сказано, земля, на которой селились колонисты, была «царской», т.е. не переходила в собственность колонистов, а сдавалась им в аренду. С другой стороны, и местное, этническое население покорённых стран (в основном, сельское) также называлось «царскими людьми» и облагалось податями. Отдельными «субъектами внутренней жизни» державы Селевкидов были так называемые «храмовые общины», т.е. хозяйственные комплексы, существовавшие вокруг храмов восточных религий. Земля, в основном, оставалась в собственности этих храмовых общин, сами же эти культы и их служители рассматривались Селевкидами, быть может, поневоле, скорее как союзники чем как объекты управления.
Тут-то, возможно, и крылась одна из главных опасностей для империи. Видимо, можно считать правилом, что, если местная религия не выкорчевывается и не уничтожается бесследно, то она раньше или позже становится знаменем сопротивления и, при всей своей якобы «неотмирности», наиболее действенным оружием освободительной борьбы.
Эта проблема стояла и в государстве Селевкидов: эллинизация. Но не просто распространение греческого языка, а приобщение азиатских народов к своей национально-культурной, в том числе, религиозной, идентичности. Эллинизация финикийцев – жителей средиземноморских городов шла неплохо и, ко времени появления там римлян, финикийцы, фактически, слились с греками, переняв греческий язык, культуру и религию.
Как будто бы такой же процесс шел и в Палестине, где селилась масса греческих торговцев и другого грекоязычного населения и где многие образованные иудеи тоже переходили на греческий язык. Однако существовало и мощное религиозное сопротивление иудеев эллинизации.
Как уже сказано, Антиох IV был сыном Антиоха III, умершего в 189 до н.э., и во время правления своего старшего брата Селевка IV (189–175 до н.э.) находился в Риме в качестве заложника. Однако в 175 году Селевк IV согласился обменять брата на своего собственного сына Деметрия, и в том же году был убит узурпатором Гелиодором, которого, в свою очередь, ликвидировал вернувшийся из Рима Антиох IV.
Так Антиох получил, а точнее, захватил власть, оттеснив законного наследника, Деметрия. Но, хотя само по себе это является весьма непростым сюжетом, всё-таки в нашу тему – борьба Антиоха с сионизмом – это не входит, потому интересующихся этими деталями правления Антиоха IV я отсылаю к специальной литературе о нём.12
Смутным временем захвата власти Антиохом IV попытались воспользоваться давние соперники Селевкидов, Птолемеи, предъявившие требования на часть Сирии, Палестину и Финикию, которые завоевал Антиох III. Как египетская сторона, так и Антиох IV апеллировали в этом вопросе к Риму, но сенат остался нейтральным.
В 173 до н.э. Антиох IV закончил выплачивать Риму остатки контрибуции, наложенной договором от 188 до н.э., и далее, опередив египтян, вторгся в Палестину, а затем и в сам Египет. Он разгромил войско египтян под Пелузием, захватил город Пелузий, а в 169 до н.э. уже контролировал весь Египет, за исключением столицы, Александрии.
Соправителями Египта были тогда два Птолемея: Птолемей Филопатор и Птолемей Фискон, который занимал позицию более враждебную к Антиоху IV. Птолемей Филопатор, племянник Антиоха IV, сын сестры Антиоха IV Клеопатры, был согласен на то, чтобы дать Антиоху IV статус опекуна. Это устраивало Антиоха, который не хотел полного низложения династии Птолемеев, что привело бы к столкновению с Римом. Пока Антиох IV вроде бы обеспечил себе контроль над Египтом…
Однако в его тылу усиливались беспорядки, и это заставило его вернуться назад, в Палестину, хотя в Пелузии он оставил сильный гарнизон.
В это время, напомню, разгоралась «Последняя македонская война», и грекоязычный мир, казалось, ещё мог разбить римлян в военном поединке и даже перейти в контрнаступление. Рим громил греческие царства поодиночке, и, когда римляне воевали с Антиохом III, их поддержал македонский царь Филипп. Однако, после разгрома Антиоха III, Филипп ничего не получил от римлян, понял, что был обманут, и сам начал готовиться к войне с Римом. Он восстановил в Македонии порядок, благосостояние и военную силу: собрал и обучил армию, а военных запасов и денежных средств накопил столько, что хватило бы и на трехгодичную упорную войну.
Во время этих приготовлений Филипп умер в 179 до н.э., но наследовавший ему сын Персей был в курсе всех его дел, продолжал их и, наконец, объявил Риму войну. В 171 до н.э. римский флот появился у берегов Македонии, а сухопутная армия римлян высадилась у Аполлонии. Эта армия под командованием Публия Лациния Красса под Лариссой потерпела полное поражение, и было её счастьем, что македоняне позволили ей отступить к морю.
Все три года этой войны, 171–169 до н.э., перевес в военных действиях был скорее на стороне греков, но война шла вяло, потому что и вяло действовали римляне (пока не поставили во главе войска Луция Эмилия Павла), и греки никак не могли объединиться. Царь пергамский был на стороне Рима, что же касается Антиоха IV, то он получал от Персея просьбы о поддержке, но открыто становиться на его сторону избегал – быть может, отчасти это было местью за поддержку римлян отцом Персея, Филиппом, а кроме того, гигантскую контрибуцию, наложенную Римом на государство Селевкидов, Антиох IV только что полностью закончил выплачивать. Так зачем ему была новая война с Римом?
Скорее всего, Антиох IV был также прямым ставленником Рима, т.е. в той или иной форме был «завербован» римлянами в период своего заложничества. (Да и могло ли быть иначе?) Наверняка, имелись какие-то тайные условия и обязательства, в обмен на которые Рим и согласился, чтобы этот царь-заложник стал «настоящим» царем.
Но, каковы бы ни были секретные обязательства Антиоха перед Римом, он также имел теперь на руках гигантскую державу, которую правильнее было бы назвать (как это уже сделано выше) империей, которая, кстати, и по численности населения превосходила тогдашний Рим со всеми его подконтрольными территориями. Антиох IV был занят, как уже говорилось, строительством новых городов, обустройством грекоязычных колонистов, разрешением проблем, связанных с самоуправлением храмовых общин…
* * *
Словом, от открытой поддержки Персея Антиох уклонился. Вместо этого, возвращаясь из Египта в Сирию, он напал на Иерусалим и разграбил Иерусалимский храм.
В то время в Израиле боролись за власть несколько первосвященников – и это для Израиля имело такое же значение, как для других народов – борьба за царский престол. Напомним, что за время «вавилонского пленения» израильское общество превратилось в религиозную общину с первосвященником во главе. (А до «вавилонского плена» Израилем управляли светские цари, не очень отличающиеся от царей других народов.)
Должность первосвященника теперь в Израиле была наследственной и пожизненной, и он был как духовной, так и светской высшей властью, хотя и правил вместе с Синедрионом (советом старейшин). Две противоборствующие партии среди тогдашних иудеев были сторонники традиционной религии (их возглавлял первосвященник Хоньо III) и сторонники эллинизации – их чаянья выражал брат Хоньо III, Иисус, который взял себе греческое имя Ясон и сместил Хоньо с поста первосвященника. Вскоре Хоньо III был убит.
Вообще-то замену Хоньо на Ясона санкционировал Антиох IV – Ясон пообещал ему увеличить выплату податей, построить в городе гимнасий, эфебий, а впоследствии даже намеревался переименовать Иерусалим в Антиохию. Переименование не состоялось, но многое в эллинистическом духе было сделано, главное, в Иерусалиме возник, по примеру греческих городов, религиозно-спортивный центр.
Ясон оставался первосвященником в 174–171 до н.э., но затем Антиох заменил его на этом посту Менелаем, который был или, по крайней мере, объявлял себя ещё более последовательным эллинизатором. Взяв перед Антиохом ещё более серьёзные денежные обязательства чем Ясон, Менелай добился отстранения Ясона. Ясон, однако, не оставил попыток удержать первосвященство и даже взял штурмом Иерусалим, низложил Менелая и на время вернул себе первосвященство.
Это произошло, правда, уже во время второго похода Антиоха на Египет… Вообще, в отношении этих двух походов Антиоха IV в Египет и двух штурмов им Иерусалима существуют некоторые неясности. Оно и понятно: события следовали одно за другим с промежутком в год или два, многое повторялось, поэтому можно даже назвать простительным, если историки то, что произошло в 170 до н.э., переносят на 168 до н.э. и наоборот.
Антиох IV вовсе не был заинтересован в том, чтобы и римляне, и египтяне, и иудеи точно знали, где он находится и что намеревается делать. Во время второго его отступления из Египта распространился даже слух (быть может, им самим пущенный), что царь умер. Кроме того, путаница и противоречивость свидетельств усиливались из-за соперничества Ясона и Менелая. Большинство историков сходятся на том, что во время первого отступления из Египта в 170 до н.э. Антиох взял штурмом Иерусалим, устроил резню и ограбил Иерусалимский храм, причём в последнем деянии ему помогал Менелай. (По крайней мере, так утверждали сторонники Ясона).
Помимо всего прочего, жестокое обращение Антиоха IV с Иерусалимом было неким предметным уроком Египту, а косвенно и Риму. Вообще почти все действия этого царя, как мы это увидим позже, были двусмысленными и содержали как прямое, так и некое скрытое значение. «Посмотрите, вот так же я мог бы поступить и с Александрией» – как бы говорил Антиох Птолемеям и тем египетским царедворцам, которые подталкивали Птолемеев к войне с ним. Есть основания считать, что Египет этот урок принял к сведению…
Итак, в 170 до н.э. Антиох IV берет штурмом Иерусалим, уничтожает тех евреев, которые ему сопротивлялись, врывается и в Иерусалимский храм и захватывает его богатства. Надо думать, были конфискованы и богатства иудейских домовладений. Из богатств, конфискованных в главном храме, немецкий историк Эмиль Шюрер упоминает три золотые чаши, золотой алтарь для воскурений, золотой семисвечник и золотой жертвенный стол. Приводит Шюрер и большое количество ссылок на историческую литературу: около десяти историков древности и раннехристанского времени писали об этих событиях.13
Таков был первый «погром» Антиоха в Иерусалиме. То, что последовало позже, было куда более опасным для иудеев…
* * *
Теперь о том, что же за личность был царь Антиох IV.
Наиболее подробные описания царя донес до нас Полибий в своей «Всемирной истории». Речь в нижеприведенном отрывке идет о годах пребывания Антиоха в Риме в качестве заложника:
«Названный Эпифаном («Славный», “Illustris” – А.А.), Антиох… иногда без ведома придворных своих скрывался из дворца и бродил там и сям по городу на виду у всех в сопровождении одного-двух товарищей. Наичаще можно было видеть его у серебряных и золотых дел мастеров, как он болтал с резчиками и иными рабочими и расспрашивал их об их мастерстве. Потом он заводил знакомства и разговоры с первым встречным из простонародья и бражничал с беднейшими из чужеземцев. Если бывало прослышит, что где-нибудь собрались молодые люди на пирушку, он без всякого предупреждения является к ним в шумном сообществе, с чашей в руке и с музыкой; собравшиеся в смущении от такой неожиданности поднимались с мест и убегали. Тоже нередко случалось, что он снимал с себя царское одеяние и в тоге соискателя на должность эдила или народного трибуна обходил рынок, пожимал руки одним, обнимал других, убеждая подавать голоса за него. По избранию на должность он, согласно обычаю римлян, садился в кресло из слоновой кости, выслушивал споры, какие происходили на рынке, и решал дела с большим вниманием и усердием. Такого рода действиями царь приводил людей рассудительных в большое недоумение: одни видели в нем человека простодушного, другие безумца, ибо таков он был и в подарках: одним дарил козьи игральные косточки, другим финики, третьим золото. Кроме того, при случайных встречах с людьми, которых раньше никогда не видел, он неожиданно предлагал подарки. Однако в жертвенных приношениях городам или в способах чествования Богов он превосходил всех царей. В этом можно убедиться по святилищу Зевса Олимпийского в Афинах14 или по изображениям у дельфийского жертвенника. Антиох ходил мыться в народные бани, когда они бывали переполнены простонародьем, и велел вносить за собой кувшины с драгоценнейшими маслами. Однажды в бане кто-то сказал ему: «Хорошо вам, цари, что вы умащаете себя такими ароматными маслами». Ни слова не сказал на это Антиох; только на другой день подошел к тому месту, где мылся человек, обратившийся с такими словами, и велел вылить ему на голову наибольший кувшин превосходнейшего масла, называющегося стактою. Все купальщики при виде этого кинулись туда же, чтобы натереть себя маслом, но среди смеха падали на скользком полу. Скользил и смеялся и сам царь».15
Данное описание, включенное в XXVI книгу Полибия, это единственное, что сохранилось от этой книги до наших дней, и, думается, этот факт может служить своеобразным подтверждением поговорки «рукописи не горят» – т.е. то, что представляет собой настоящую ценность, каким-то образом спасается от гибели.
XXVI книга Полибия соответствует, вероятнее всего, периоду времени до 175 года, так как речь в этом отрывке, как уже сказано, идет ещё о пребывании будущего царя в Риме. Но, хотя Антиох и был заложником, всё-таки он был царственным заложником, и это в приведенном отрывке чувствуется. С другой стороны, чтобы его отпустили из Рима, обменяв на Деметрия, он должен был убедить римлян:
а) в своей рациональности и послушности им (при этом он, наверняка, принял какие-то секретные условия римлян, о чем уже говорилось);
б) убедить их также в своей, если не полной невменяемости, то – в никчёмности. Для этого и предпринимались им всякие поступки типа пьянок с бедняками и бродягами и т.д. Если бы римляне видели в нем сильного человека, они бы не посадили его на трон; следовательно, он должен был убедить их, что он – кто-то вроде шута…
* * *
Несмотря на большие лакуны, труд Полибия в основных частях всё-таки уцелел, и некоторые события из жизни Антиоха IV дошли до нас в подробном изложении, например, есть весьма ценное описание праздничных игр, устроенных Антиохом в 166 до н.э. Однако об этом – позже, а сейчас – о втором походе Антиоха в Египет.
Как уже было сказано, зимой 169-168 до н.э. Персей Македонский напрасно просил Антиоха IV примкнуть к нему в борьбе с римлянами. Антиох IV отказал ему – возможно, это было частью его, Антиоха, «контракта» с Римом.
Сам Антиох IV продолжал укреплять свою власть на Востоке. Не исключено, что он надеялся на некий раздел сфер влияния: держава Селевкидов будет контролировать весь Восток (включая Египет), а материковая Греция и Рим поделят между собой Европу.
Пока флот Антиоха IV одержал победу над флотом Птолемеев под Кипром (принадлежавшим до этого Птолемеям), и губернатор Кипра сдал Антиоху IV остров. Далее Антиох IV вновь (168 до н.э.) вторгся в Египет, потребовал формального закрепления передачи ему Кипра и Пелузия, занял нижний Египет и стал лагерем неподалеку от Александрии. Здесь-то, под Александрией, его и застала печальная для всех греков весть о том, что в Македонии римляне разгромили Персея…
Ещё до этого, однако, был предпринят ряд новых дипломатических маневров (и Птолемеями, и самим Антиохом IV) с целью склонить римлян на свою сторону (в войне Селевкидов с Птолемеями) и договориться между собой при посредничестве других греческих государств. Дадим слово Полибию:
«…В то время, когда Антиох завладел Египтом, явились к нему послы, отправленные [из Эллады] для мирных переговоров. Он принял их ласково и в первый же день позвал на великолепное пиршество, а на следующий допустил к переговорам и предложил им объяснить цель посольства. Первыми говорили послы от ахейцев, за ними Демарат от афинян, за Демаратом милетец Эвдем… Никому из послов царь не возражал и, добавив ещё кое-что от себя в том же направлении, перешёл к защите своих исконных прав… в заключение он отверг состоявшееся, по словам александрийцев, соглашение между недавно умершим Птолемеем и Антиохом, отцом теперешнего Антиоха, по которому Птолемей должен был получить в приданое Келесирию, когда брал в замужество Клеопатру, мать нынешнего царя. Этою речью Антиох убедил собеседников в правоте своих требований, в чём и сам был убежден, и затем отплыл в Навкратис. Там он милостиво обошелся с жителями, дав каждому из тамошних эллинов по золотому, и продолжал путь в Александрию…
…Приостановив осаду Александрии, Антиох отправил послов в Рим… вместе с ними он послал полтораста талантов, из них пятьдесят на венок для римлян, остальную сумму на подарки нескольким городам Эллады».16
«Узнав, что Антиох утвердился в Египте и чуть не завладел Александрией, и почитая дальнейшее усиление этого царя неудобным для Рима, сенат отправил к нему посольство с Гаем Попилием Ленатом во главе, которому поручено было привести войну к концу…»17
«…Когда Антиох пришел к Птолемею ради захвата Пелузия и уже издали приветствовал римского военачальника и протягивал ему правую руку, Попилий подал ему табличку с начертанным на ней определением сената, которую держал в руках, и предложил Антиоху прочитать тотчас. Поступил так Попилий, как мне кажется, потому, что не желал отвечать знаками дружбы Антиоху до того, как узнал, друга ли он имеет в собеседнике, или врага. (Скорее: верного ли «агента» Рима или уже «вероломно» расторгнувшего «секретный агентский договор» – А. А.) Когда царь по прочтении таблички сказал, что желает обсудить с друзьями полученное требование сената, Попилий совершил деяние, на мой взгляд, оскорбительное и до крайности высокомерное, именно: палкой из виноградной лозы, которую держал в руках, он провел черту кругом Антиоха и велел царю, не выходя из этого круга, дать ответ на письмо. Царя поразила такая дерзость; однако после непродолжительного колебания он обещал исполнить всё, чего требуют римляне. Теперь Попилий и его товарищи поздоровались с царем и все с одинаковым радушием приветствовали его. Письмо гласило: «Прекратить немедленно войну с Птолемеем». Посему через несколько дней, в определенный срок, Антиох, недовольный и огорчённый, увел обратно свои войска в Сирию; но тогда необходимо было покориться. Устроив дела в Александрии, преподав царям совет жить в согласии… Попилий с товарищами отплыл к Кипру: они желали возможно скорее и этот остров очистить от находившихся там войск Антиоха. По прибытии на остров римские уполномоченные увидели, что военачальники Птолемея побеждены и что Кипр весь разграблен, сирийскому войску они велели поскорее покинуть страну и оставались на острове до тех пор, пока войска не возвратились в Сирию. Таким-то образом римляне спасли почти что уничтоженное царство Птолемея, ибо судьба так направила дела Персея и македонян, что Александрия и целый Египет, которые дошли до последней крайности, воспрянули снова благодаря тому, что раньше решена была участь Персея. Не будь этого события и не будь оно достоверно известно Антиоху, он, мне кажется, не подчинился бы требованиям, ему предъявленным».18
Итак, мы прочли изложение того знаменитого эпизода, который вошёл, кажется, во все, даже самые краткие жизнеописания Антиоха IV: римский полководец очерчивает палкой круг вокруг него, и Антиох, «посрамлённый» и «униженный», подчиняется…
Однако не надо быть выдающимся экспертом в политике чтобы знать, что оскорбительными и вызывающими жестами порой сопровождаются весьма осторожные поступки, и наоборот… И, если этот «агент Рима», Антиох, всё-таки решил не выполнять тех обещаний, которые он наверняка дал римлянам в обмен на царство, то что мог Рим поделать с ним теперь, когда царство было уже у него в руках?..
* * *
Как бы то ни было, Антиох вторично отступает из Египта. И вот здесь-то вторично и происходит разгром Иерусалима и уже гораздо более жестокие преследования иудеев.
Распространяется слух, будто царь умер; поверив в этот слух, иудеи Иерусалима поднимают восстание; но только этого, возможно, и ждал Антиох IV, как предлога напасть на них. Антиох IV отдает приказ своему военачальнику Аполлонию полностью эллинизировать Иерусалим. «Иерусалим должен был стать с тех пор греческим городом».19 Иудейское население, если не бежало само, изгонялось силой. Мужчин убивали, женщин и детей продавали в рабство. Чтобы впоследствии не возникало сопротивления, стены города Иерусалима было приказано срыть. Однако цитадель заново укрепили, и в ней теперь постоянно размещался греческий (сирийский) гарнизон.
Забегая вперёд, скажем, что гонения Антиоха вызвали восстание Маккавеев, но оно поначалу больших успехов не достигло, торжество же Антиоха, на первый взгляд, было полным…
Уничтожение иудейского населения города Иерусалима было лишь одним из шагов на пути к главной цели, которую поставил Антиох. Главная его цель состояла в том, что по всей стране должна была быть выкорчевана иудейская религия и установлено поклонение греческим богам. Соблюдение любых иудейских обычаев, включая субботы и обрезания, было запрещёно под страхом смерти; иудейские богослужения тем более были запрещены. Во всех городах Израиля должны были приноситься жертвы греческим богам. За выполнением этого царского распоряжения следили специальные наблюдатели, посланные во все населенные пункты. Там, где иудеи не подчинялись постановлениям добровольно, применялось принуждение. Регулярно проводились обыски, и в отношении тех, у кого находили иудейские богослужебные книги или утварь, тех, кто обрезал детей и т.д., – смертный приговор приводился в исполнение.
Наконец, как писал советский историк Г. М. Лифшиц, «стремясь к нивелированию пёстрых азиатских народностей под флагом единой религии, Антиох Эпифан распорядился заменить все местные религии и культы одним культом Зевса Олимпийского. В соответствии с этим распоряжением началось в декабре (25 кислева) 168 года до н.э. богослужение перед огромной статуей Зевса Олимпийского, установленной (15 кислева) на алтаре Иерусалимского храма».20
* * *
Открывая богослужения, Антиох лично заколол жертвенную свинью у алтаря Зевса… Многие иудеи, разумеется, даже не думали отказываться от религии предков и продолжали практиковать её втайне. Как уже сказано, вспыхнуло восстание Маккавеев. Силы были слишком не равны, и восстание поначалу имело вид партизанской войны. Восставшие укрывались в горах и пустынях и наносили партизанские удары. В 164 году, уже после смерти Антиоха IV, они заняли Иерусалим, затем были возобновлены и иудейские богослужения в храме. Было ли это победой восстания Маккавеев?
Дело в том, что восставшие заняли не весь Иерусалим, но в части его (а именно – в цитадели) оставался греческий гарнизон. Об этом, например, пишет Шюрер, подтверждая свой вывод целой страницей примечаний и ссылками на литературу – туда я и отсылаю интересующихся.21 Шюрер пишет: «Этот гарнизон, несмотря на все успехи Маккавеев, продолжал контролировать город и сохранять в нём власть сирийских царей. Лишь через 26 лет (142-141 до н.э.) Симон впервые взял штурмом цитадель и таким образом закрепил независимость Иудеи». 22
Что ж, как известно, после окончания той или иной войны или поединка почти всегда находятся желающие оспорить результаты и доказать, что выиграла на самом деле не та сторона, которую все считают победившей. Но вернемся к Антиоху Эпифану. Он продолжал проводить свою линию, и, кстати, возможно, то, что он не спешил всей силой подавить восстание Маккавеев, тоже могло иметь свой, скрытый, «аллегорический» смысл. (Как и первое ограбление Иерусалима, о чём я уже писал.)
Долго тянущееся восстание Маккавеев, возможно, было в интересах Антиоха IV, так как это был способ устрашения Рима.
Если первый разгром Иерусалима, как я уже говорил, имел целью запугать, главным образом, Египет («вот что может быть сделано с Александрией»), то затяжное восстание Маккавеев уже было способом предупредить Рим («вот в чём вы запутаетесь, если попробуете вторгнуться в пределы государства Селевкидов»).
…Антиох Эпифан продолжал «гонку вооружений», продолжал обмен символическими угрозами между руководимой им державой Селевкидов и Римской республикой…
* * *
Важную роль в этом противостоянии Антиоха с Римом сыграло представление, устроенное Антиохом в 166 до н.э. – чаще всего его называют спортивными играми, иногда – военным парадом. Как увидит читатель, это было и то, и другое, и ещё кое-что вдобавок.
Но вначале нужно вновь вернуться к характеристике общей обстановки тех лет. Рим торжествовал победу над Македонией и над всей греческой нацией. В битве при Пидне в 168 до н.э. сошлась прославленная македонская фаланга и римские легионы, и легионы победили, царь Персей был разгромлен. Как писал Страбон, «по словам Полибия, Павел разорил 70 городов эпирских после разгрома Персея и Македонского царства; города эти принадлежали большею частью молотам. Он же продал в рабство полтораста тысяч населения».23
Рим торжествовал; и многие римляне понимали, что победа была бы невозможна без раздробленности греков, без их несогласованности, а зачастую просто враждебности друг к другу. Именно насмешка над греческими усобицами и была основным смыслом представления, устроенного в Риме в то время и описываемого историками следующим образом:
«…Луций Анций, тоже римский военачальник, победитель иллирийцев, вел за собою пленного Генфия и детей его, а на играх, устроенных им в честь победы в Риме, дозволил себе забавнейшие шутки, как рассказывает Полибий в тридцатой книге, именно: он пригласил из Эллады знаменитейших артистов и, соорудив в цирке огромнейшие подмостки, вывел на них сначала всех флейтистов вместе. Это были беотиец Теодор Феопомп и лисимахиец Гермипп, – все знаменитости. Он поставил их на передней части сцены вместе с хором и велел играть всем разом. Лишь только музыканты начали играть, сопровождая игру приличествующими движениями, Луций послал сказать, что играют они дурно, и лучше сделают, если затеют состязание друг с другом. Музыканты были в недоумении. Тогда один из ликторов показал, как они должны выйти друг на друга и устроить подобие битвы. Быстро сообразив, чего от них хотят, флейтисты дозволили себе вольные движения, отвечавшие обычно их распущенности, и тем произвели на сцене величайшую сумятицу. Средние части хоров они обратили против крайних, а сами под дикую разноголосицу флейт то сходились, то расходились. Под звуки музыки топали ногами хористы и, приводя в сотрясение сцену, неслись на своих противников и снова отступали, оборотив тыл. А когда кто-то из хористов опоясался, внезапно отделившись от хора, и замахнулся как в кулачном бою на несущегося против него музыканта, зрители разразились восторженными рукоплесканиями и криками одобрения. Правильная битва ещё продолжалась, когда два плясуна под звуки флейт введены были в орхестру, а четыре кулачных бойца взошли на сцену с трубачами и горнистами. Зрелище всех этих состязаний получилось неописуемое. Что касается трагических актеров, прибавляет Полибий, то мои слова покажутся глумлением над читателем, если я вздумаю что-нибудь передать о них».24
Вот на такие и подобные им насмешки римлян и отвечал своими играми Антиох IV. А тут ещё и победитель Персея Луций Эмилий Павел тоже устроил собственные игры и напыщенно заявил: «Кто может устроить прекрасно праздничные состязания, тот сумеет и надлежаще приготовить великолепное пиршество, и показать себя ловким вождем в сражении».25
А теперь предлагаю читателю описание игр, устроенных Антиохом IV в Дафне (недалеко от столицы, Антиохии на Оронте). Я прошу читателя проявить терпение и воспринять тот большой отрывок, который приводится ниже. В конце его читатель прочтет о том непотребстве, которое якобы совершил Антиох. Отрывок, помимо прочего, интересен тем, что в нем даны две разных редакции «Всеобщей истории» Полибия – редакция Диодора и Афинея (причём текст Диодора считается основным):
«…Прослышав о том, что в Македонии Эмилием Павлом, римским военачальником, устроены были игры, этот самый царь (Антиох IV – А. А.) пожелал превзойти его великолепием празднества и разослал по городам послов и теоров оповестить, что он устроит игры в Дафне, будучи уверен, что эллины охотно отзовутся на его приглашение. Началом празднества служило торжественное шествие, совершавшееся в следующем порядке: впереди шли пять тысяч мужчин цветущего возраста, вооружённых по-римски, в панцирях; за ними следовали мисы тоже в числе пяти тысяч; к ним примыкали три тысячи киликийцев в лёгком вооружении, с золотыми венками на головах, а за ними три тысячи фракийцев и пять тысяч галатов. Дальше шли двадцать тысяч македонян, из коих пять тысяч вооружены были медными щитами, а все прочие серебряными (выделено мной – А. А.), за ними следовали двести сорок пар единоборцев. Дальше помещалась тысяча никейских всадников и три тысячи из граждан; большею частью лошади имели золотые уздечки, а всадники – золотые венки; у прочих лошади были в серебряных уздечках. Дальше шли всадники, именуемые сподвижниками, в числе тысячи человек; все лошади их носили золотые украшения; в том же числе и в таком же вооружении примыкал к ним отряд друзей, в сопровождении тысячи отборных воинов, за которыми следовал почти тысячный отряд всадников, именуемый агематом, который считается цветом конницы. Шествие замыкалось полуторатысячной панцирной конницей, в которой, как показывает само название, лошади и люди были в панцирях. Все перечисленные здесь участники шествия одеты были в багряные плащи (выделено мной – А. А.), у многих воинов расшитые золотом или украшенные изображениями. Кроме поименованных отрядов было сто колесниц, запряжённых шестериками, и сорок – четвериками, а за ними шла колесница в четыре слона и другая, запряжённая парою слонов; в одиночку следовало ещё тридцать шесть слонов в полном вооружении.
Трудно было бы описать все прочие части шествия, почему мы ограничимся кратким перечнем. В процессии участвовало около восьмисот юношей в золотых венках, около тысячи откормленных быков, около трехсот жертвенных столов, тут же было восемьсот слоновых клыков. Число статуй не поддается определению. Нет такого божества или духа, известного людям, или ими чествуемого, статуи которого не было бы здесь, или вызолоченной, или облечённой в шитые золотом одежды; тут же были и статуи героев. Все эти статуи имели при себе драгоценные изображения событий, как передаётся о них в сказаниях, к богам и героям относящихся. За ними следовало ещё изображение Ночи и Дня, Земли, Неба, Утренней зари и Полудня. Как велико было число золотых и серебряных вещей, можно видеть из следующего: один из царских любимцев, писец Дионисий, имел в процессии тысячу рабов, нёсших серебряные предметы, причём не было предмета легче тысячи драхм. Царских рабов с золотыми вещами было в процессии шестьсот. Кроме того, около двухсот женщин кропили благовонными жидкостями из золотых кувшинов. За ними следовали восемьдесят женщин на носилках с золотыми ножками и пятьсот женщин на носилках с серебряными ножками, все роскошно одетые. Такова была наиболее блестящая часть процессии.
Из тех тридцати дней, в течение которых давались представления, все участники игр, единоборства и охоты умащали себя в гимназии шафранным маслом из золотых сосудов; таких сосудов было пятнадцать, столько же с киннамоновым маслом и с нардовым. В следующие за сим дни употреблялись масла из фенигрена, амарака и ириса, все очень ароматные. Для пира накрывались ложи в числе тысячи и даже полутора тысяч, все роскошно отделанные.
Распорядителем на празднестве был сам царь, державший себя унизительно и непристойно. На плохой лошади скакал он вдоль процессии, одних подгоняя вперед, других сдерживая, как и подобало распорядителю. Если бы снять с него царский венец, то никто из людей не знающих ни за что не поверил бы, что перед ними царь, всесильный властелин, ибо на вид он был проще скромного слуги. Во время пира он сам стоял у входа, пропуская одних гостей, усаживая на места других, или давал указания слугам, разносившим яства. Согласно с сим он подходил к пирующим, присаживался к одним, возлегал близ других; то бросал кусок и обмывал кубок, то вскакивал и переходил на другое место, обходил всю пиршественную залу, принимая здравицы стоя и перекидываясь шутками с музыкантами. Когда пиршество подходило к концу и очень многие уже удалились, скоморохи внесли царя, закутанного с головы до ног, и положили на землю; потом под возбуждающие звуки музыки он вскочил нагишом и, заигрывая со скоморохами, отплясывал смешные и непристойные танцы, так что все от стыда разбежались из залы. Всякий, кто присутствовал на празднике, когда останавливал взор на необычайной роскоши празднества, на устройстве состязаний и шествий и на общем распорядке, изумлялся и дивился богатствам царя и царства; зато, когда присматривался к самому царю и к его предосудительным поступкам, он решительно недоумевал, как могут в одном и том же лице совмещаться столь высокие достоинства и столь низкая порочность (Диодор).
Распорядителем на празднестве был сам царь. На плохом коне скакал он вдоль процессии, одних подгоняя вперед, других сдерживая. Во время пира он сам стоял у входа, пропуская одних гостей и усаживая на места других, или вводил слуг, разносивших яства. Обходя пирующих, он здесь присаживался, там возлегал. По временам бросал кусок или отодвигал кубок, вскакивал и переходил на другое место, обходил пиршественную залу, принимая здравицы то там, то сям, и в то же время перекидываясь шутками с музыкантами. Когда пиршество подходило к концу и многие уже удалились, скоморохи внесли царя, закутанного с головы до ног, и положили на землю, как бы одного из своих товарищей. Вскочив под возбуждающие звуки музыки, он плясал и представлял вместе со скоморохами, так что все от стыда разбежались. Всё это празднество устроено было частью на те средства, какие он вывез из Египта, когда предательски напал на Филометора, тогда младенца ещё, частью на приношения своих друзей. К тому же он разграбил очень многие святилища. (Афиней).
Вскоре по окончании празднества явилось посольство Тиберия Семпрония Гракха с целью разведать положение дел на месте. Антиох принял послов с такою ловкостью и так радушно, что Тиберий и его товарищи не только не заметили в нём какого-либо коварства или следов вражды за прежнее обращение с ним в Александрии, но ещё указанием на его чрезвычайное радушие изобличали лживость противоположных уверений. Действительно, не говоря о прочем, Антиох уступил послам свой дворец и, по-видимому, готов был отказаться и от царского венца, хотя в действительности был настроен совершенно иначе и питал к римлянам враждебнейшие чувства».26
Что можно сказать об описываемом событии?
Мне кажется, что повторение примерно одной и той же информации двумя авторами ещё не гарантирует подлинность этой информации. Более того, эпизод этот кажется выдуманным, он носит характер сознательной попытки очернения в истории личности человека. Далее от комментариев воздержусь.
Если же говорить о других аспектах праздничных игр Антиоха, то нужно отметить следующее. (Кстати, я думаю, что это, как мы выразились бы сегодня, «политическое шоу» принадлежит к разряду тех, которые понятны без объяснений. И всё же я кратко прокомментирую то, что выделено жирным шрифтом.)
«Шли двадцать тысяч македонян, из коих пять тысяч вооружены были медными щитами, а все прочие серебряными». Правилом в македонской фаланге были, со времен Александра, именно посеребренные щиты, отсюда название фалангистов – «аргироспиды». Антиох IV, возможно, таким образом давал римлянам понять, что разгромленные ими македоняне были «не настоящими» (с медными щитами), бой же с «настоящими» фалангистами у римлян ещё впереди…
«Одеты были в багряные плащи». Багряный (красный) цвет – символ власти; именно такое одеяние впоследствии приняли для себя римские императоры.
Упоминаемые в отрывке «сподвижники» и «друзья» царя – это официальные титулы знати в государстве Селевкидов, что, понятно, не совпадало с рельным кругом царских друзей.
…Наконец, требуется ещё несколько слов сказать об этом скоморошестве царя, прислуживающего гостям, а затем вовсе появляющегося нагишом (хотя, повторюсь, эпизод этот кажется мне вымышленным).
Но если эпизод не вымышленный, то, возможно, это, помимо прочего – злая пародия на римлян, в среде которых Антиох долго жил и нравы которых прекрасно знал. «Римляне, хотя уже и называют себя «царями Средиземноморья», на самом деле – всего лишь прислужники других народов, не более того. В них нет ничего царского. – Таков должен был быть смысл, вложенный в это представление Антиохом. – Более того, если посмотреть на римлян без одежды, т.е. интимно, то они вызывают отвращение».
Вот такой развернутый вызов Риму…
Конечно, для царей именно правилом является прибегать к опрощению, труду, самоумалению и т.д. Каждый царь в той или иной форме использует такие элементы поведения – хотя бы в качестве контрастного фона для роскоши. И всё же, думается, читатель согласится, что проделанное Антиохом (или приписанное ему) выделяется из обычного набора царских жестов и приемов.
Теперь следует задать вопрос: а действительно ли Рим был слугой народов, и не следует ли кривляния Антиоха воспринимать скорее как самокритику греков (пусть невольную)?
Ответ: это было бы критикой греков, если бы исходило от Рима; но, поскольку это исходило от греков, то это всё-таки была критика Рима – и справедливая.
Действия Антиоха соответствовали тому крайнему унижению, которое только что испытали греки, считавшие себя властителями мира, но разбитые римлянами. И речь шла не об одной только битве при Пидне – это был хотя и тревожный, но, быть может, ещё и не смертельный симптом. Таких симптомов или знаков усиления могущества Рима было уже, однако, очень много. Римляне ещё не победили, но они явно уже побеждали, и греческая цивилизация должна была мобилизовать абсолютно все свои ресурсы, вглядеться в противника, если так можно выразиться, до рези в глазах, так внимательно чтобы не упустить ни одного недостатка римлян. И вот такой «настройкой национального зрения» греков и было поведение Антиоха IV.
Фактически, он уже предуказал тот путь, которым пошла греческая цивилизация: смириться с тем, что римляне побеждают «вширь», но победить их «вглубь», отдать им пространство (если уж иначе нельзя), но не отдать «качество»…
Два года спустя после игр в Дафне Антиох погиб, во время одного из карательных походов, нацеленных против не-эллинской религии. Послушаем Полибия:
«В Сирии царь Антиох с целью добыть денег вознамерился совершить поход на святилище Артемиды в Элимаиду. Но по прибытии на место он увидел, что надежды его обмануты, ибо живущие вблизи храма варвары не допустили его до кощунства. На обратном пути Антиох скончался в Табах, что в Персии, по словам некоторых, в состоянии умопомешательства; оно будто бы поразило царя силою какого-то божеского чуда во время кощунственного нападения на святилище Артемиды».27
Здесь следует подчеркнуть, что, когда говорится о нападении на «святилище Артемиды», не имеется в виду, конечно же, атака на греческую религию. Просто у греков был своеобразный обычай видеть своих богов в культах чужих народов, которые, возможно, ни о греках, ни об их богах и слыхом не слыхивали. А вот греки находили у этих народов то «культ Деметры», то ещё что-нибудь подобное. И то, что названо в процитированном отрывке «святилищем Артемиды», другими историками идентифицируется как храм древней месопотамской богини Наны (иногда также отождествляемой с Анахитой). Такая могущественная древняя богиня, конечно же, не могла не покарать того, кто покусился на её храмовые сокровища…
Как понимает читатель, последняя фраза написана автором иронически. Но в целом в политике Антиоха, направленной на выкорчевывание местных религий и на замену их религией греческой, ничего иронического не было, всё было очень серьёзно.
…Антиох стал своего рода «образцом для подражания» многих греков последующих веков (в том числе подражали и его отношению к иудеям). В результате именно греки зачастую выступали застрельщиками антиеврейских погромов и в римской империи, и даже (через много веков) в империи Российской. Но об этом будет говориться в следующих главах книги.
3. КАЛИГУЛА (12 Н.Э. – 41 Н.Э.)
После смерти Тиберия в 37 н.э. к власти в Риме приходит двадцатипятилетний Калигула.
Общим итогом политики Калигулы по отношению к иудеям стало усиление недоверия между иудеями и Римом. Это утверждает немецкий историк Теодор Моммзен, и это его утверждение, кстати, находится в противоречии с его же пренебрежительной характеристикой Гая Калигулы как совершенно никчёмного правителя. Моммзен пишет: «гораздо глубже, чем александрийский погром, запечатлелась в душах иудеев попытка поставить статую Бога Гая в святая святых их храма».28
Об историке Рима Моммзене (1817 – 1903) можно сказать, что он вообще довольно часто противоречит сам себе там, где переходит от изложения фактов к теоретизированию, и, в частности, это относится к его теоретическим выкладкам по поводу иудеев в Римской империи. Соображений об иудеях и иудействе в объемной «Истории Рима» Моммзена довольно много, но я ни цитировать, ни разбирать их, по возможности, в этой книге не буду, в силу указанной их противоречивости.
Если же вернуться к Калигуле, то следует сказать, что его короткое правление (а он царствовал всего четыре года), действительно, оказало весьма сильное и какое-то болезненное влияние на всю империю, быть может, и потому, что он очень углубленно, и чем дальше, тем более углубленно, был озабочен именно иудейским вопросом.
Здесь, в параллель, я приведу пример российского императора Павла I, который тоже царствовал всего пять лет, но царствование его оказалось весьма запоминающимся. В частности, Павел I выдвинул идею похода в Индию, и, по признанию некоторых британских дипломатов, это его намерение настолько серьёзно было воспринято в самой Британии, что одним из главных направлений английской политики в Азии в XIX (и частично в XX) веке стало недопущение якобы планируемой экспансии России в Индию.29 А ведь почти никаких реальных действий для захвата Индии Павел I предпринять не успел…
Вот и Калигула лишь говорил, т.е. произносил слова об установлении своей статуи в Иерусалимском храме, реально это сделать не успели. И, однако, мысль о самой этой возможности не покидала иудеев ещё очень долго, тем более, что нечто подобное уже было в их истории, а именно, действия Антиоха Эпифана, описанные в предыдущей главе.
…Гай Калигула не был родным внуком императора Тиберия, но был сыном Германика, племянника Тиберия, которого тот усыновил. У Германика, погибшего при загадочных обстоятельствах, было девять детей; трое умерли, и шестеро остались в живых: три девочки (Агриппина, Друзилла и Ливилла) и трое мальчиков: Гай Цезарь Калигула (старший, 12 н.э. года рождения), Нерон (не путать с тем Нероном, который позже стал императором) и Друз.
Таким образом, как старший внук Тиберия, Калигула и был его законным наследником, и он особых усилий захватить власть после смерти Тиберия не предпринимал, ждал, что его провозгласят императором. Так оно и произошло.
И начал Калигула свое правление весьма мягко и либерально: за власть не держался, объявил сенат своим соправителем, советовался со старшими родственниками. Собственные же решения были также из разряда не просто либеральных, а каких-то даже чрезмерно прекраснодушных. Например, Калигула восстановил в провинциях власть местных царей и не только отменил установленные Тиберием высокие налоги, но даже вернул уже собранные суммы! Например, царю Антиоху Коммагенскому вернул, ни много, ни мало, 100 миллионов сестерциев, вообще же, по утверждению Светония, меньше чем за год промотал наследие Тиберия в 2 миллиарда 700 миллионов сестерциев.
Казна Рима опустела; и теперь последовал ряд эксцентричных решений Калигулы противоположного свойства. Вместо того чтобы отменять налоги, он вводил новые, неслыханно жестокие; вместо того чтобы швырять деньги направо и налево, он хватал богатых людей, казнил их, а состояние конфисковывал.
Однажды, приговорив к казни какого-то человека, Калигула запоздало узнал, что состояния у него нет, попытался помиловать его, но было уже поздно. «Жаль, несправедливо погиб, – изрек император. – Произошла судебная ошибка».
Возможно, к эксцентричностям прекраснодушного типа относится решение Калигулы приблизить к себе и обласкать молодого иудея Агриппу. По словам Моммзена, этот Агриппа «являлся среди многочисленных проживавших в Риме сыновей восточных государей едва ли не самым ничтожным и опустившимся, но, несмотря на это, – а может быть именно поэтому, – он был любимцем и другом юности нового императора; до сей поры он был известен только своим распутством и долгами, но от своего покровителя… Ирод Агриппа получил в подарок одно из вакантных мелких иудейских княжеств и к тому же ещё царский титул».30
Напомню хронологию событий. Гай Калигула становится императором в марте 37 н.э., а уже осенью 38 н.э. обласканный им и назначенный царем Агриппа на пути из Рима в Иерусалим останавливается в Александрии. Следовательно, Агриппа получил царский титул в 37 н.э. или в первой половине 38 н.э.
Затем происходит александрийский погром (осень 38 н.э.), и Калигула приказывает арестовать, судить и казнить наместника в Египте Флакка. «Нет человека – нет проблемы»? Не совсем так: проблема-то осталась. Флакка можно было убрать, но нельзя было сделать вид, что в Александрии ничего не произошло, тем более что оставался невыполненным приказ устанавливать статуи императора во всех храмах, включая синагоги.
Кроме того, как это можно было понять уже из первой главы книги, александрийский погром, наверняка, вызвал или усугубил многочисленные имущественные и прочие тяжбы. Кто что у кого отнял, и вообще, что кому принадлежит в Египте. (Ведь при погромах не только отнимают ценности физически, но заставляют переписать на других владельцев векселя, право собственности на товары, рабов, земельные угодья; порой богатые люди, даже не дожидаясь начала погромов, заранее фиктивно передают право собственности на богатства подставным лицам, в таком случае Флакк мог заставить их вторично передать эти права собственности, уже другим подставным лицам, а именно тем, кто был предложен им, Флакком, и его приближёнными). Некоторые из этих конфликтов, наверное, могли быть разрешены только в Риме. И вот из Александрии в Рим отправляется группа иудеев, ходатаев по делам александрийской иудейской общины.
Этому посвящен трактат Филона Александрийского «О посольстве к Гаю» (“Legatio ad Caium”). Правда, в трактате утверждается, что было не одно посольство, а два – от евреев и неевреев, – но в этом позволительно усомниться.
Трактат содержит сведения весьма отрывочные, запутанные, в нём отсутствуют датировки, зато очень много рассуждений в довольно-таки выспренном и несколько утомительном стиле Филона Александрийского. Написанный, видимо, после смерти Калигулы, трактат содержит прямые нападки на императора и оскорбления его («Ты, безумец, как ты мог» и т.д.). Руководителем этого еврейского посольства из Александрии в Рим был, судя по всему, сам автор трактата Филон Александрийский (по крайней мере, так он утверждает в трактате, а других свидетельств у нас нет). Правда, Филон ничего не сообщает нам о том, по каким же, собственно, делам прибыли ходатаи в столицу империи. Зато в трактате красочно описано, как много дней Калигула заставил иудеев ждать приёма, а потом принял их, одновременно занимаясь другими делами. Он осматривал только что построенное здание, ходил по комнатам, всё время отвлекаясь на разговоры со строителями и свитой, а иудеи шли следом, стараясь привлечь его внимание к своим просьбам и передать ему письменную жалобу.
Быть может, к этому эпизоду и свелось всё «посольство», но Филон Александрийский, надо отдать ему должное, сумел сделать из этого эпизода довольно объёмный и солидный трактат, который, что, быть может, ещё важнее, был переписан в многих копиях и сохранён для потомства. И, если из книг Тацита, жившего несколько позже Филона, многие утеряны, то этот трактат сохранился и сегодня цитируется в качестве первоисточника многими историками, некоторые из которых не пытаются даже критически осмыслить изложенные в нём факты.
Например, автор этих строк ни у кого из историков не встретил вопроса о том, было ли, действительно, второе, нееврейское посольство, о котором упоминает Филон? Ставить так прямо вопрос считают некорректным и обычно отделываются замечаниями о том, что, мол, заметки Филона отрывочны, противоречивы и т.д. Насчет этого второго посольства в трактате ничего не сказано, говорится только, что оно было. Но не проявилась ли здесь просто иудейская точка зрения Филона Александрийского, согласно которой мир делится на евреев и неевреев, и, если было посольство от одних, значит, должно было быть и от других. Однако я напомню, что Александрию населяли ещё, кроме иудеев, по крайней мере две крупные этнические группы, греки и египтяне, причём, каждая из них была многочисленнее иудеев. И, если каждая группа послала для разбирательства о последствиях погрома своих представителей, значит, посольств было не два, а три. А как насчёт римлян, помощников и сторонников Флакка, они что, должны были терпеливо ждать в Александрии, пока на их действия тут, в Риме, кто-нибудь нажалуется императору, и они последуют той же дорогой, по которой отправили их руководителя, Флакка? Нет; думаю, и римская администрация провинции Египет должна была активно сноситься со столицей, значит, вот уже получается не три посольства, а целых четыре?
Другое дело, что какие-то постоянные лоббистские структуры или представительства от Египта должны были быть в Риме ещё и до александрийского погрома, так что Филон, думается, просто драматизирует события, когда рассказывает нам о том, что, дескать, было два конкурирующих посольства, «иудейское» и «не иудейское» и вот какие козни они друг другу строили, какие интриги плели друг против друга и т.д.
Но хотелось бы для тех, кто не знаком с трактатом «О посольстве к Гаю», процитировать отрывок из него, чтобы читатель мог сам увидеть манеру изложения Филона и, в частности, ту свободу, с которой он нападает на неевреев, конкретно, на египтян, советников Калигулы:
«Большинство из них были египтяне, порочное семя, смешавшие в душах своих нрав крокодила и яд змеи (выделено мной – А. А.). Предводителем и как бы запевалой всей египетской братии был Геликон, проклятый и прóклятый раб, пролезший в самодержавный дом ему на погибель… Есть и предмет, и лучшего искать не надо – дурная слава евреев с их обычаями… Так рассуждая, бездумно и безбожно, Геликон подстегнул себя и окрутил Гая, не отступаясь от него ни днем, ни ночью, но находясь при нём постоянно, чтобы часы его уединения и отдыха употребить для обвинений против евреев… И вот, отпустивши все рифы, как моряки при попутном ветре, он нёсся на раздутых парусах, сплетая для евреев венок вины. Всё это надёжно запечатлелось в голове Гая, и жалоб на евреев ему уже было не забыть».31
Из этого отрывка видно, во-первых, что над молодым императором, так сказать, «работали», т.е. вокруг него имелись советники, питавшие к иудеям определенную неприязнь.
Второе, что следует отметить, это тот аргумент, которым Филон побивает египтян: они, дескать, похожи на животных, подражают животным, поклоняются животным («египтяне, … смешавшие в душах своих нрав крокодила и яд змеи»). В другом месте трактата он этот же аргумент использует чтобы объяснить, почему египтянам и прочим язычникам легко установить статуи императора в своих храмах. Дескать, они и так считают богами кошек, каких-то крокодилов, птиц, почему не добавить ещё и Калигулу?
Правда, этот аргумент Филон особенно не развивает, так как он был скорее для «внутреннего», иудейского пользования. Римлянину он был бы оскорбителен: вы, мол, многобожники, у вас и так в пантеоне чего только нет…
Продолжим хронологическое изложение событий.
Итак, погром в Александрии произошел осенью 38 н.э., посольство иудеев прибыло в Рим тогда же, в конце 38 н.э., может быть, в начале 39 н.э. Весь 39 год ушел, должно быть, на разбор тяжб и взаимных обвинений, вызванных александрийским погромом. Одновременно, по-видимому, нарастало раздражение Калигулы против иудеев. Ведь, жалуясь на погромщиков, они, наверняка, просили о каком-то возмещении убытков. Получалось, что прямое указание устанавливать статуи в синагогах выполнено не было (что и стало формальным поводом для погрома), да ещё при этом у императора иудеи просили каких-то компенсаций! А, как мы помним, к тому времени казна Рима уже опустела…
И вот к концу 39 н.э. Калигула, по-видимому, решает перейти к радикальным действиям против иудеев. И начать решает не откуда-нибудь, а прямо с Иерусалимского храма. Он отдаёт приказ наместнику в Сирии Петронию установить в Иерусалимском храме собственную статую и заставить иудеев поклоняться ей.
Вот как эти события излагает Э. Шюрер:
«В то время как посланцы Александрии ожидали в Риме императорского решения, в Палестине, на их родине, разразилась буря. Всё началось в Ямне (Jamnia), изначально не-иудейском береговом городе, где в то время преобладало иудейское население. Жители города – язычники, для того чтобы выразить свою преданность императору и для того чтобы досадить иудеям, воздвигли в честь императора грубый алтарь, который, однако, иудеями был вскоре разрушен. Об этом доложил императору императорский прокуратор города Эренний Капитон (Herennius Capito), и император отдал приказ, в качестве мести строптивым иудеям, воздвигнуть свою статую в Иерусалимском храме.
Поскольку было ясно, что эти действия натолкнутся на сильное сопротивление, наместнику в Сирии П. Петронию было приказано половину армии, стоящей на Евфрате (т.е. в Сирии) передвинуть в Палестину и с помощью этих легионов выполнить волю императора. С тяжёлым сердцем вдумчивый военачальник начал исполнять этот мальчишеский приказ (зима 39-40 н.э.). В то время как он распорядился чтобы статую изготавливали в Сидоне, Петроний вызвал к себе руководителей иудеев и попытался их по-хорошему склонить к уступчивости. Но тщетно.
Очень быстро новость о том, что предстоит, распространилась по всей Палестине; и народ двинулся громадными количествами в Птолемаиду, где находилась главная квартира Петрония. «Как туча, покрыли иудеи всю Финикию». Очень организованная, разделенная на 6 отрядов (старики, мужчины, юноши; старухи, женщины, девочки), депутация иудейских масс предстала перед Петронием. Их громкие жалобы и стоны произвели на Петрония такое впечатление, что он решил, по крайней мере временно, остановить исполнение решения императора. Всю правду – т.е. что он хотел бы полной отмены решения – открыто он не решился высказать императору. Он написал Калигуле, что просит отсрочки, частично потому, что требовалось время для изготовления статуи, частично потому, что предстояла жатва, и как бы оскорбленные иудеи не взбунтовались после её окончания. Когда Калигула получил это письмо Петрония, он был возмущён нерадивостью наместника. Однако не решился сразу показать свой гнев и написал наместнику похвальное письмо, в котором одобрял его предусмотрительность, но строго требовал поспешить с установлением статуи, так чтобы дело было сделано к концу сбора урожая.
Петроний, однако, не принялся серьёзно выполнять эту задачу, но вступил в новые переговоры с иудеями. Поздней осенью, во время сева (ноябрь 40 н.э.) мы находим его в Тивериаде, где он в течение 40 дней пребывает в окружении осаждающей его толпы, насчитывающей тысячи иудеев, которые его слёзно, как и прежде, умоляют, чтобы он отвёл от их земли грядущий ужас осквернения храма. Когда, наконец, к народу присоединились в просьбах Аристобул, брат Агриппы, и другие родственники Агриппы, Петроний пишет Калигуле решительное письмо, в котором просит отменить приказ вообще. Он переводит войска из Птолемаиды обратно в Антиохию и утверждает в письме, которое для этого пишет Калигуле, что по соображениям денежной экономии и мудрости отказ от решения весьма желателен.
Между тем, события в решающей инстанции, Риме, сами приняли более благоприятное для Петрония развитие. Царь Агриппа I, который в начале 40 н.э. оставил Палестину, встретился с Калигулой осенью в Риме (или в Путеолах), когда тот вернулся после поездки в Галлию и Германию. Агриппа ещё не знал о событиях в Палестине, однако выкатывание глаз императора подсказало ему, что в душе у того кипит гнев. Поскольку он задумался над причинами этого, сам император заметил его озабоченность и спросил, каковы её причины… Агриппа был так перепуган, что почувствовал недомогание, от которого на следующий вечер слёг. После того, как он пришёл в себя, его первым побуждением было направить императору ходатайство, в котором он, напомнив, что никто из предшественников императора ничего похожего не предпринимал, просил отменить приказ. Против всех ожиданий, письмо Агриппы имело желаемый эффект. Калигула приказал написать Петронию, чтобы в Иерусалимском храме ничего не меняли бы. Но эта милость не была однозначной. Было прибавлено, что никому, кто бы вне Иерусалима захотел устанавливать алтари или храмы в честь императора, нельзя в этом препятствовать. Таким образом, значительная часть уступки была тут же сведена на нет, и только то обстоятельство, что предоставленным правом никто не воспользовался, следует благодарить за то, что не возникло никаких новых беспорядков. Вскоре, однако, император пожалел, что предоставил эту уступку, касающуюся Иерусалима. И распорядился о том чтобы, поскольку изготовленной в Сидоне статуе нет применения, в Риме была бы изготовлена новая статуя, которую он сам в предполагаемой в перспективе поездке в Александрию доставит к берегу Палестины, и далее она будет доставлена в Иерусалим. Только последовавшая вскоре за тем смерть императора помешала осуществлению этих планов».32
Здесь я позволю себе некоторые комментарии к изложенному Э. Шюрером.
В целом Шюрер в своей книге выдерживает бесстрастный научный стиль изложения, хотя кое-где, еле заметным намёком, даёт понять свое отношение к характеру тех или иных исторических персонажей. Так в процитированном отрывке наместник в Сирии Петроний назван, как я это перевёл, «вдумчивым военачальником». (Verstandig – «разумный, понятливый, вдумчивый, смышлённый»). Полагаю, это сказано не без сочувствия к Петронию, хотя военачальнику вообще-то полагается быть не столько вдумчивым, сколько чётким в выполнении приказов.
Но Петрония очень даже можно понять, и его образ действий, конечно, вызывает уважение. Ну действительно, кто там разберёт императора: сегодня он приказывает так, завтра – иначе. Думаю, в римском государстве было уже в ходу то, что прекрасно выражено русской армейской поговоркой: «не спеши выполнять приказ, так как может поступить следующий, отменяющий его». Каково бы ни было личное отношение Петрония к иудеям, но вот только что в соседней провинции, Египте, Флакк приказал дотошно выполнить распоряжение по установке статуй – и что же? Начались беспорядки, в которых погибли десятки тысяч людей, а затем казнён был сам проводник этого императорского приказа! Так должен ли был Петроний торопиться по стопам Флакка?
Конечно, нет! И вот Петроний начинает маневрировать с целью оттянуть выполнение приказа, неприятного и опасного для него лично (оставив в стороне значение этого приказа для иудеев). Лучше всего задержку выполнения чего-то оправдывать ссылками на тщательную подготовку мероприятия. Мол, статую делают в Сидоне, в скульптурных мастерских, привлечены лучшие мастера, выбираются наилучшие материалы, будет объявлен конкурс на лучший эскиз и т. д. Всё это, разумеется, потребует времени. На всякий случай, Петроний приводит и более доходчивый аргумент: сезон не подходит. Жатва на носу, какие тут статуи? Потом Петроний ссылаться будет на сев, а потом, глядишь, опять подойдёт время жатвы, уже следующего года…
Казалось бы, от Палестины до Италии – рукой подать, но суденышки тогда были непрочные, а Средиземное море – хотя и не очень бурное, но всё-таки море, в нём тоже случаются шторма, неблагоприятные ветра, словом, на то, чтобы письмо дошло от отправителя до получателя, требуется почти месяц, а чтобы получить ответ, соответственно, два месяца. А если ты, допустим, чего-то не понял и просишь разъяснений? Тогда на твой запрос и на получение ответа уйдет ещё два месяца. Ну, и в крайнем случае, можно прибегнуть к самому экстремальному варианту: начать имитировать сбои в прохождении почты и отвечать по принципу: «куры передохли, высылайте новый телескоп».
…В надеждах, что Калигула сам перестанет настаивать на установке чего-либо в Иерусалимском храме, Петроний оставался весь 40-й год… Весь этот год он вёл бюрократическую переписку, и в конце концов император послал ему приказ покончить жизнь самоубийством. Правда, сам Калигула был убит 24 января 41 н.э., и, по уверению Петрония, новость о смерти императора дошла до него раньше чем приказ о самоубийстве, поэтому выполнять этот приказ он тем более не стал…
Шюрер, на основании, главным образом, трактата «О посольстве к Гаю», но и некоторых других источников, выстраивает следующую схему происходившего в 40 н.э.:
«Последовательность событий представляется нам следующей, при условии, что новости из Рима и/или Галлии в Иерусалим и обратно доходили в среднем за 2 месяца:
Зима 39/40
Петроний получает от Калигулы приказ установить его статую в Иерусалимском храме и прибывает в Палестину с 2 легионами.
Апрель-
Май 40
(Когда предстоит уборка урожая) Переговоры в Птолемаиде, первое письмо Петрония Калигуле (Филон, §32-33; Иосиф. Иуд. Древности, XVIII, 8,2; B.J. (Иудейск. Война), II, 10, 1-3).
Июнь
Калигула получает первое письмо Петрония и диктует ответ, в котором настойчиво требует торопиться (Филон, §34).
Август
Петроний получает ответ Калигулы, однако не спешит с выполнением.
Конец
сентября
Агриппа встречается с Калигулой в Риме (или Путеолах), узнаёт о событиях и вмешивается. Калигула посылает Петронию директиву остановить мероприятие (Филон §35-42, Иосиф. Иуд. Древн.,XVIII, 8, 7-8).
Начало
ноября
Переговоры в Тивериаде (во время сева). Петроний просит императора отменить установку статуи. (Иуд. Древн.,XVIII, 8, 3-6; B. J., II, 10, 3-5).
Конец
ноября
Петроний получает директиву остановить мероприятие.
Начало янв. 41
Калигула получает просьбу Петрония отменить установку статуи и отдаёт ему приказ покончить жизнь самоубийством (Древн., XVIII, 8, 8).
24 янв. 41
Калигула убит.
Начало
Марта 41
Петроний получает известие о смерти Калигулы. (Древн. XVIII, 8, 9).
Начало
Апр. 41
Петроний получает письмо с приказом о самоубийстве (Древн. XVIII, 8, 9; B.J., II, 10).
Схема остается по существу неизменной, даже если мы учтём, что время, которое требуется для прибытия письма из Италии и/или Галлии в Палестину и обратно могло быть несколько меньшим. В среднем, можно принять это время за 1-2 месяца. Следует учесть ещё то, что летом Калигула находился в Галлии, а зимой почта шла более медленно и нерегулярно. Главная трудность для нашей хронологии заключается в том, что как Агриппа, так и иудейско-александрийское посольство впервые услышали о приказе Калигулы касательно Иерусалимского храма в сентябре (см. наши стр. 420 и 423), в то время как, согласно тому же Филону, этот предмет уже вызвал шум в Палестине во время жатвы (апрель-май). Уже Тиллемонт на этом основании оценивал последнее утверждение Филона как не историческое. (Histoire des empereurs, t.I, Venise, 1732, p. 630 sv. [Notes sur la ruine des juifs, note IX]), из более современных исследователей так же полагает Graetz (Monatschr. 1877, S. 97 ff, 145 ff. = Gesch. der Juden Bd. III, 4. Aufl. S. 759 ff). Однако данные Филона в этом пункте столь определенны и детализированны (§33, §34 конец), что такое резкое суждение представляется рискованным».33
Думаю, к этой схеме Шюрера комментарии излишни.
В цитированном перед схемой предыдущем отрывке из Шюрера говорится о том, что иудейский царь Агриппа «ещё не знал» о событиях в Палестине (это же повторено и в схеме) и что эту новость ему сообщил сам Калигула при встрече, после чего Агриппа заболел.
Далее и в комментарии к схеме Шюрер это под сомнение не ставит и готов, вслед за другими упомянутыми им историками, скорее усомниться в том, что о приказе Петронию и о планах Калигулы стало известно в Палестине. Я думаю, это ещё один пример того, как историки некритически пересказывают Филона, ведь именно Филон в «Посольстве к Гаю» категорически утверждает, что Агриппа «ещё не знал» о приказе касательно Иерусалима. Но на каком основании утверждает это Филон? Приводит ли он какие-то доказательства? Нет, не приводит. И я думаю, что Агриппа как раз-таки знал о планах Калигулы насчёт Иерусалимского храма; уж что-что, а это бы Агриппе другие иудеи сообщили. А вот то, что Агриппа скрыл это свое знание от Калигулы, является, думается, стандартной дворцовой уловкой, не более (но и не менее). Ведь говорить, что ты не знаешь того, что на самом деле знаешь, и наоборот, услышав новое для себя, заявить, что тебе это уже известно, – всё это едва ли не правило в любом правительстве, при дворе или в бюрократической организации. Таким образом перехватывается инициатива у собеседника: ведь ничто так не сбивает с толку, как открытие, что, оказывается, неверно оценивали степень твоей осведомлённости…
Как бы то ни было, услышав от самого императора «новость», Агриппа то ли притворился больным, то ли, действительно, заболел и заперся у себя дома. А дальше, согласно трактату Филона, написал Калигуле решительное письмо, в котором предостерегает римского императора от перестройки Иерусалимского храма.
Далее Филон (а за ним Шюрер и некоторые другие историки) утверждает, что, получив это письмо, Калигула изменил свои планы и решил вместо сидонской статуи изготовить ещё одну, в Риме, и самостоятельно доставить её на место установки. Трудно сказать, действительно ли так повлияло на императора именно письмо Агриппы, но то, что Калигула, по-видимому, решил всё это дело взять в свои руки, похоже на правду. Калигула чувствовал, что перед ним – главный конфликт эпохи, и он решил вмешаться в этот конфликт сам, не полагаясь на посредников…
В лагере был он рождён, под отцовским оружием вырос,
Это ль не знак, что ему высшая власть суждена?
Такой стишок ходил в Риме о Калигуле, само прозвище которого, «Калигула» («Сапожок») соответствует русскому выражению «сын полка».
Майкл Грант в своём справочнике о римских императорах приводит такие сведения о Гае Калигуле:
«По утверждению биографа Светония, Гай был очень высоким и крайне бледным человеком с некрасивым телом, тонкой шеей и тощими ногами. У него были впалые глаза и виски, широкий мрачный лоб, редкие волосы не покрывали макушку…
Несмотря на неуравновешенный характер, Гай на самом деле обладал замечательными талантами. Его неистовая энергия не была подкреплена старанием или упорством, но, например, его ораторские способности оказались поистине впечатляющими. Многочисленные эпиграммы Калигулы свидетельствовали о едком и скептическом реализме и ясном разуме… Философ Сенека Младший, охарактеризованный Гаем как «не более, чем песок бесплодный», после смерти императора отомстил ему, изобразив его в самом худшем свете».34
Конечно, не один лишь Сенека Младший пытался отомстить Калигуле, искажая после смерти его облик. Например, Светоний уверял, что Калигула просто из прихоти приказывал рыть котлованы и сравнивать с землёй горы, однако из свидетельств других историков мы узнаём, что речь просто-напросто шла о строительстве горной дороги, где неизбежно приходится делать выемки грунта в одном месте и насыпи в другом.
Естественно, любой здравомыслящий человек задаст себе и другой вопрос: можно ли ожесточённость Калигулы против иудеев считать бессмысленной причудой? Не было ли у этого конфликта Рима и иудейства объективной причины?
Конечно, объективная причина была, и её лучше всего объяснить всем известной поговоркой «нашла коса на камень». У меня нет сведений о том, как реагировали священники иных религий (а в Римской империи религий была тьма тьмущая) на приказ установить в храме статую императора Калигулы. Думаю, реагировали спокойно: ставили где-то сбоку небольшую статуэтку и докладывали, что распоряжение выполнено. Иудеи, однако, выбрали именно путь злостного неподчинения.
Во-первых, они начали распространять слухи о том, что император сошёл с ума и вообразил себя реальным Богом («Богом Гаем», как об этом написал Моммзен). До сих пор в исторической литературе можно встретить рассказы о том, что Калигула якобы стоял на римском Форуме, держа в руках металлические изображения молний, заявлял, что он – Юпитер-громовержец, и требовал поклоняться ему. Я этим рассказам не верю, но мало кто на них не «повёлся».
Во-вторых, иудеи Александрии придумали следующий ход: ставить изображения императора не в самих синагогах, но где-то в вестибюле или во дворе при входе, где иногда они помещали символы или значки покорённых евреями племен. Вот туда они согласны были поставить фигуру Калигулы: среди своих «трофеев». Но на это не согласны уже были римляне…
В общем, как уже сказано, «коса нашла на камень». Было распоряжение, и было порой глухое, пассивное неподчинение, а порой – агрессивное и вызывающее. Иудеи выбрали путь именно злостного неподчинения, и итогом этого стала непримиримая вражда между ними и Римом. Эта вражда закончилась Иудейской войной (66 – 71 н.э.) и разрушением Иерусалимского храма (не восстановленного и доныне), о чём будет сказано в следующей главе.
Именно император Калигула повернул политику Рима таким образом, что война с иудеями стала неизбежной.
4. ВЕСПАСИАН (9 – 79 н.э.)
Поскольку в этой и следующих главах речь пойдет, в основном, о правителях Рима, я позволю себе напомнить читателю хронику правления римских императоров:
Тиберий 14-37 н.э.
Калигула 37-41 н.э.
Клавдий 41-54 н.э.
Нерон 54-68 н.э.
Веспасиан 69-79 н.э.
Тит 79-81 н.э.
Домициан 81-96 н.э.
Нерва 96-98 н.э.
Траян 98-117 н.э.
Адриан 117-138 н.э.
Антонин Пий 138-161 н.э.
Марк Аврелий 161-180 н.э.
Септимий Север 193-211 н.э.
Александр Север 222-235 н.э.
Диоклетиан 284-305 н.э.
Константин 306-337 н.э.
Иудейская война (война Рима против восставшей Иудеи) была начата в 66 н.э. и закончилась в 71 н.э., после взятия Иерусалима и разрушения Иерусалимского храма.
С тех пор Иерусалимский храм никогда не был восстановлен. В настоящее время, как известно, сохранилась лишь одна его стена, «стена плача», а на месте храма стоит мечеть аль-Акса.
Разрушение Иерусалимского храма в 70 н.э. – думается, одно из поворотных событий всей мировой истории, и тем более странным кажется нежелание многих историков разобраться: а кто же, собственно, отдал приказ о штурме Иерусалима и о разрушении храма? По чьей инициативе была вообще начата Иудейская война?
На все эти вопросы читатель, надеюсь, найдет ответ в этой главе. Отчасти ответ содержится уже в самом названии этой главы. Но я сразу скажу, что ответственность со стороны римлян была, так сказать, групповой. Непосредственный приказ начать Иудейскую войну отдал, конечно, император Нерон; военными действиями руководил полководец Веспасиан. Но Нерон был убит ещё до того, как война закончилась, и новым императором стал именно Веспасиан. Он отбыл из Иудеи, поручив закончить войну своему сыну Титу. Таким образом, непосредственно на месте руководил штурмом Иерусалима и разрушением храма Тит, но это был человек на то время несамостоятельный: он просто выполнял приказ.
Начну главу с описания личности и царствования Нерона.
…Рыжеволосый и непривлекательный, Нерон (годы жизни 37-68 н.э.), возможно, пытался компенсировать врожденную нерешительность в «амурных» делах повышенной жестокостью. О нём утверждали даже, будто он убил собственную тётку и собственную мать, Агриппину. Хотя нужно отметить, что, как и в случае с Калигулой, о Нероне ходило много легенд, не соответствующих действительности.
Достоверно известно, что в 50 н.э. он был усыновлен Клавдием (т.е. таким образом объявлен преемником), а, когда Клавдий умер в 54 н.э., Нерону было 17 лет. Как критически пишет о нем Светоний, «расширять и увеличивать державу у него не было ни охоты, ни надежды».35 Но здесь следует отметить, что, во-первых, 17-летнему юноше не так просто было удержать власть в самом Риме – зная историю римской политической борьбы и заговоров. А во-вторых, так ли уж необходимо было «расширять и увеличивать державу», и без того простирающуюся от Испании и Ирландии на северо-западе до Армении и Персидского залива на юго-востоке? Август как раз рекомендовал преемникам не расширять империю дальше этих пределов…
…Нерон, конечно, совершил множество безрассудств и непотребных деяний. Например, жил с мальчиком Спором в «законном браке», и по этому поводу в Риме шутили: «Счастливы были бы люди, будь у отца Нерона такая жена». Обычно сообщают, что официальных жен у Нерона было три: Октавия, Поппея и Статилла Мессалина. Считая себя небездарным поэтом и артистом, Нерон любил выступать с пением и чтением стихов. Одна из самых баснословных легенд о нём гласит, что он приказал поджечь Рим и, глядя на пожар, исполнял песню о гибели Трои (хотя сам Нерон обвинил в поджоге Рима христиан). А, умирая, якобы произнёс: «Какой великий артист погибает!»
Как бы то ни было, Нерон продержался у власти 14 лет, а если иногда в экстремальных условиях год считают за два, то, в условиях всемирной державы (как мы это хорошо знаем по России), политический год можно приравнивать и к большему количеству лет.
Само сохранение единой державы следует признать достижением, при условии, если это сопровождается не ослаблением, а усилением власти центра. Действия Нерона, со всей их иррациональностью, жестокостью и т.д., работали на эту цель, пусть даже вызываемый эффект первоначально был, по видимости, обратным. Например, его жестокие гонения на христиан привели к увеличению числа мучеников и исповедников и в итоге к укреплению христианской религии, а усиление им эксплуатации провинций окончилось восстаниями в Галлии и Испании (68 н.э.) и Иудее (66 н.э.).
Однако я вернусь к хронологическому изложению событий правления Нерона с тем чтобы затем перейти к Веспасиану и Иудейской войне.
Как и начало царствования Калигулы, начало правления Нерона было весьма либеральным. Император Траян впоследствии утверждал, что первые пять лет правления Нерона являются образцом для всех властителей. Действия Нерона одобрял и сенат, и народ. Император упразднил некоторые налоги и уменьшил другие, поддерживал обедневшую знать, благотворительствовал простым людям. Затем история с Калигулой повторилась: имперская администрация начала испытывать всё больший недостаток средств, и за этим последовало всё большее ужесточение правления Нерона, всё более жестокие казни. Возможно, как и Калигула, Нерон именно в этот второй период своего правления озлобился на иудеев, хотя во времена Нерона более реальную угрозу для Рима уже начали представлять христиане. С одной стороны, это были всё те же иудеи, но, с другой, это была уже самостоятельная секта, активно вербующая прозелитов среди традиционных иудеев, эллинов и римлян.
В Риме во время правления Нерона жили Св. Павел и Св. Петр. Св. Павел был доставлен в Рим после того, как был арестован в Иудее, отдан там под суд и оправдан, однако, ещё не зная, что будет оправдан, он сам потребовал над собой суда императора (Нерона). Книга «Деяния святых Апостолов», автором которой был Св. Лука, описывает то, как Св. Павла судили в Иудее (Гл. 24-26), и то, как он затем всё-таки был этапирован в Рим. Св. Лука, который путешествовал вместе со Св. Павлом в Рим, пишет, что в Риме Павел пользовался большой свободой: «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его… Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев… И он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем… И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему…» (Деян. 28: 16, 17, 22, 30).
Живя в Риме, Павел старался завести знакомства именно при дворе Нерона, и, судя по всему, сумел это сделать. Св. Иероним, один из учителей христианской церкви (342-420), предполагал даже, что Павлу удалось устроить христианскую молельню в самом императорском дворце. Св. Павел небезуспешно пытался заинтересовать христианством вторую жену Нерона Поппею. Вот как об этом пишет историк де Сервье:
«…Действуя через своих друзей в императорском дворце, Св. Павел сумел переговорить наедине с Поппеей. Он без стеснения нарисовал перед ней живую картину её прежней порочной жизни и, почувствовав, что она готова его выслушать до конца, объяснил ей суть христианской религии, предложив ей принять это новое христианское учение. Все эти слова были произнесены им с такой поистине апостольской ревностью, что оказали сильнейшее воздействие на императрицу.
Это, конечно, не ускользнуло от внимания Нерона. Он был уязвлён до глубины души, так как Поппеей теперь овладели такие странные чувства, одобрить которые он никак не мог. Ему сообщили, что этот Св. Павел преподал ей уроки строгости и раскаяния, и посему она вдруг стала такой смиренной и невероятно скромной. Где же его распущенная, жадная до похотливых удовольствий жена? Он её не узнавал. В припадке дикой ярости он велел задержать святого. Обрушив на его седую голову поток отборной брани, называя его негодяем, совратителем и бродягой, он приказал заковать его в цепи и бросить в темницу.
Св. Павел оказался сокамерником Св. Петра, и им суждено было вместе пройти через мученичество. Их заперли в ужасной темнице, но даже там строгие тюремщики не могли остаться равнодушными к тем словам, которые слетали с их уст…
Когда императору донесли, что Св. Павел и в темнице не прекращает своих проповедей, а продолжает уговаривать императрицу принять новую веру и святость, которая отнюдь не соответствовала злодейским наклонностям Нерона, он велел вывести апостола Павла за городскую стену и там обезглавить. В тот же день по эдикту Нерона на кресте был распят и Св. Петр.
Поппея снова вернулась к своим безумствам. Она, всё ещё опьяненная своей красотой и властью, всячески стремилась сохранить первую, чтобы не выпустить из рук вторую, а император, ужасно довольный тем, что она вновь стала прежней, не чаял в ней души и делал любые поблажки».36
Итак, императрицу на свою сторону «иудео-христиане» склонить всё-таки до конца не смогли, хотя вообще метод прозелитизма через женщин широко практиковался в иудействе и затем также и христианами.
Исследование всех перипетий борьбы Нерона с христианами увело бы слишком далеко от главной темы этой книги, поэтому упомянем лишь два факта: казнь Сенеки (о котором христианские писатели позже утверждали, будто он принял христианство) и поджог Рима, в котором обвиняли как христиан, так и Нерона.
Знакомство Сенеки и Св. Павла представляется весьма вероятным, хотя многие авторы указывают, что якобы сохранившаяся переписка Сенеки и Св. Павла является более поздней фабрикацией. Об обращении Сенеки в христианство говорит Св. Иероним, который даже причисляет Сенеку к святым и церковным писателям. Казнь же Сенеки (который был учителем юного Нерона) связана была не с его взглядами, а скорее с его замешанностью в один из заговоров против Нерона, за участие (или мнимое участие) в которых были казнены и брат Сенеки Аней Мела, и знаменитый писатель Петроний, и сенаторы, и многие другие римские вельможи.
Что же касается поджога Рима, то, как уже сказано, Нерон обвинил в этом христиан, а христиане, соответственно, Нерона. И хотя логичнее, видимо, было бы поджигать Рим противникам Рима нежели его собственному правителю, автор от суждения о том, кто в этом виноват, воздержится.
Главный вывод, к которому можно прийти, анализируя правление Нерона, состоит в наличии некоторого сходства с правлением Калигулы, о чём уже упоминалось. Тот и другой императоры начали с либерализма, который затем сменился свирепыми казнями и отчаянными попытками «закрутить гайки» в империи. При этом особенно сильный гнев того и другого императора навлекли на себя иудеи. И речь идет не просто об эмоциях, но об исторических действиях, о фактах. Так мы видим, что меньше чем за два года до окончания правления Калигулы вспыхивает погром в Александрии, а за два года до окончания правления Нерона начинаются кровавые побоища в Цезарее и других городах Иудеи, ставшие началом Иудейской войны 66-71 н.э.
Ещё одно сходство событий времён Калигулы и Нерона заключается в том, что в одном и другом случае среди главных инициаторов антисионистской борьбы были греки. События времен Нерона (в 66 н.э.) начались, как я уже сказал, в Цезарее, городе, изначально построенном как эллинистический портовый центр, но постепенно попавшем под контроль иудеев. Нерон приказал своему ставленнику в Иудее, Гессию Флору, а затем новому наместнику Веспасиану (будущему императору) безжалостно подавить начавшиеся, в ответ на греческие погромы, иудейские волнения…
Вот как описывает политику Гессия Флора и события 66 н.э. Г. М. Лившиц в своей весьма важной, можно даже сказать, канонической монографии «Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима»:
«После Альбина прокуратором Иудеи был Гессий Флор (64-66), обязанный этим назначением своей жене Клеопатре, находившейся в дружбе с императрицей Поппеей. Своим произволом и жестокостями он превзошёл даже наихудших из своих предшественников. По выражению Иосифа Флавия, в сравнении с Гессием Флором «образцом добродетели» являлся даже Альбин…
Согласно сообщению Иосифа Флавия, не было предела беспощадной жестокости… Гессия Флора. Он вёл себя так, «как будто его прислали в качестве палача для казни осужденных». Прокуратор открыто оказывал покровительство всякого рода разбойникам с тем условием, чтобы они делили с ним награбленное имущество. Целые города и общины были разграблены и разорены до основания. Масса иудеев была вынуждена оставить свои насиженные места и бежать в другие провинции в поисках новых убежищ.
Действия Флора накалили атмосферу во всей стране до последней степени, и достаточно было искры, чтобы вспыхнул общий пожар восстания против римского владычества. Первыми предвестниками его явились спровоцированные Флором в начале 66 г. кровавые столкновения между эллинизированным и иудейским населением Цезареи. Ещё в 61 г. проживавшие там сирийцы и греки добились того, что Нерон передал в их руки управление городом. С тех пор отношения между ними и местными иудеями значительно обострились. Последние имели синагогу на участке, принадлежавшем одному из греков. Неоднократные попытки цезарейских иудеев приобрести этот участок за сумму, далеко превышавшую настоящую его стоимость, не увенчались успехом. Более того, владелец застроил свободное место несколькими зданиями и почти загородил вход в синагогу. В дело вмешался Флор, который обещал за взятку в 8 талантов решить спор в пользу иудеев. Однако как только деньги оказались в его руках, он уехал из Цезареи, не сделав ничего для прекращения раздоров среди населения города.»37
…Затем прокуратор направился в Иерусалим, где также назревало иудейское восстание. Во время его пребывания в Иерусалиме и вспыхнул бунт, с которого началось открытое восстание иудеев… Г. М. Лившиц пишет, что действия Гессия Флора вызывали в Иерусалиме «сильнейшее возмущение и самое решительное осуждение. Всенародное негодование возросло, когда прокуратор именем императора потребовал выдать ему из храмовой казны 17 талантов. Если до сих пор он ограничивался ограблением граждан, то теперь его руки тянулись к сокровищам храма, чем затрагивались и религиозные чувства народа.
Дерзкое требование наместника было отвергнуто. По всей стране раздавались проклятия по его адресу и призывы к освобождению от тирании. Некоторые жители Иерусалима, насмехаясь над алчностью и корыстолюбием прокуратора, обходили толпу с корзинками в руках и просили милостыню в пользу «бедного, несчастного Флора».
…Флор лично явился в Иерусалим в сопровождении сильных отрядов конницы и пехоты, чтобы силой римского оружия отстоять свои требования. Он потребовал денег и немедленной выдачи тех лиц, которые его оскорбляли. Получив отказ, рассвирепевший прокуратор приказал своим солдатам грабить и убивать жителей города (выделено мной как пример явной необъективности Лившица, свойственной этой его книге в целом – А. А.). Во время этого страшного погрома не пощадили ни женщин, ни детей. Общее число погибших иудеев достигло около 3600 человек. Не довольствуясь устроенной по его распоряжению резнёй, наместник приговорил к смертной казни и распятию на крестах большое число местных жителей, среди которых находились и лица, имевшие права римского гражданства и принадлежавшие к всадническому сословию…
Вскоре в Иерусалим должны были прибыть ещё две римские когорты, двигавшиеся сюда из Цезареи. Флор потребовал от жителей Иерусалима выйти навстречу прибывавшему войску и дружелюбно приветствовать его. По заявлению наместника, иудеи должны были таким путём на деле проявить свою покорность и показать, что они не помышляют о восстании против Рима. Одновременно прокуратор послал тайные инструкции начальникам когорт, чтобы они запретили солдатам отвечать на приветствия иудеев и немедленно пустили в ход оружие в случае, если кто-либо из жителей Иерусалима посмеет высказать неодобрительные замечания в его адрес.
Немало усилий потребовалось иудейской аристократии для того чтобы побудить народ к исполнению нового требования Флора. В назначенный день иерусалимцы вышли навстречу приближавшимся к городу римским солдатам и приветствовали их, но на эти приветствия обе когорты ответили мрачным молчанием. Такое поведение солдат возмутило жителей города, и некоторые из них стали поносить имя Флора. Это послужило римским солдатам поводом к нападению на собравшуюся толпу. Под их ударами иерусалимцы поспешили в город, причём многие из них были раздавлены и задушены вследствие страшной давки в воротах. Ворвавшись в Иерусалим, солдаты стали избивать всех, кого только настигали на улицах и в домах.
На помощь обеим когортам спешно прибыл Флор с остальным войском. Он рассчитывал… завладеть восточным холмом, где были расположены храм и замок Антония. Однако этот план прокуратора полностью провалился, так как население Иерусалима, оправившись от первого удара, стало оказывать решительное сопротивление римским солдатам. На улицах города разгорелся ожесточенный бой…»38 После этого Гессию Флору пришлось из Иерусалима скрыться, а вскоре были изгнаны и остальные римские войска…
События 66 н.э. подробно изложены Г. М. Лившицем в цитированной книге, основным источником для которой послужила «Иудейская война» Иосифа Флавия. И я буду далее опираться на «Иудейскую войну» Иосифа Флавия. Однако вначале я приведу ещё одну обширную цитату об Иудейской войне другого еврейского историка, профессора американского университета Лоренса Шиффмана:
«…Как мы уже видели, восстание практически не прекращалось с того момента, как римляне впервые вступили на Землю Израиля. …мы проследили постоянно нараставшее недовольство и сопротивление со стороны части еврейского народа в иродианский период и при прокураторах. Тем не менее полномасштабное восстание вспыхнуло только в 66 г. н.э.
Непосредственным поводом к нему послужили действия прокуратора Гессия Флора… В Иерусалиме начались беспорядки, и на их волне часть священников решила приостановить жертвоприношения за императора, что соответствовало объявлению открытой войны. Попытки царя Агриппы II, верхушки священников и некоторых фарисеев предотвратить восстание не увенчались успехом. Вскоре Иерусалим оказался в руках восставших, что в свою очередь привело к восстанию по всей стране, где евреи атаковали своих нееврейских соседей. Наместник Сирии Цестий Галл попытался подавить восстание, но его войска были разгромлены евреями.
С целью подготовки к отражению нового наступления римлян в разные части страны были посланы военные командиры. В их число входил и будущий историк Иосиф Флавий, который возглавил еврейские силы в Галилее. Судя по его опыту, назначенным из центра военачальникам приходилось соперничать с народными и даже мессианскими лидерами. На основании этого можно заключить, что восставшие не были объединены, а в восстании участвовало множество различных сил. Среди них были, например, сикарии, известные убийствами сторонников римлян в период, предшествовавший восстанию. Они совершали эти убийства с помощью коротких кинжалов (по-латыни sica), которые прятали под одеждой, отсюда произошло их название. Сторонники Симеона бар Гиоры считали своего лидера мессианской фигурой и проявляли во имя его жестокость не только по отношению к римлянам, но и по отношению к другим группам восставших. Зелоты (буквально «ревнители») вполне могли происходить из числа тех групп, которые не прекращали борьбу против римлян с момента установления римского владычества в Палестине, но, согласно мнению многих ученых, они сформировались как организованное движение только с началом восстания. Неспособность различных фракций в среде восставших действовать совместно стала одной из главных причин их поражения. Однако если судить трезво, становилось ясно, что, даже объединившись, евреи не смогли бы противостоять военной мощи Рима и его огромным военным ресурсам».39
…Итак, отдельные беспорядки переросли в крупный региональный конфликт. Римские гарнизоны были уничтожены или отступали по всей Иудее. Император Нерон принимает решение подавить начавшееся восстание против Рима и главнокомандующим для выполнения этой задачи назначает Тита Флавия Веспасиана (годы жизни 9 – 79 н.э.).
К описанию его личности мы и переходим.
Веспасиан происходил из не очень знатного и не очень богатого рода и являл бы собой тип добросовестного, но непритязательного служаки, если бы не две весьма необычные и, между прочим, дополняющие одна другую черты. Первая это непоколебимая вера Веспасиана в своё предназначение быть императором (что, впрочем, могло быть «досочинено» биографами), а вторая – это его способность исчезать на целые годы не только из Рима, но как бы вообще – с политической арены, тогда, когда над его головой нависала опасность.
Таких «исчезновений» было по крайней мере два. Первый раз Веспасиан отправил сам себя в добровольную ссылку, попав в немилость ко всесильной и безжалостной жене Клавдия Агриппине (матери Нерона). Второй раз Веспасиан попытался бежать после того, как уже сам Нерон разгневался на него за то, что он (Веспасиан) нечаянно заснул во время пения императора. Понимая, что Нерон может ему этого не простить, Веспасиан снова попробовал «исчезнуть».
Другой испытывал бы судьбу, надеялся «на авось», продолжая «мозолить глаза» правителям, – Веспасиан чувствовал, что рисковать так не имеет права, и вот эта его осторожность, на взгляд автора этих строк, лучше всего говорит о его недюжинных способностях. В молодости Веспасиан угождал Калигуле, которого был на три года старше (а старше Нерона он был почти на тридцать лет), но главным покровителем Веспасиана был могущественный вельможа по имени Нарцисс. Впрочем, угодничество для Веспасиана, по-видимому, было лишь неприятной необходимостью, отнюдь не страстью (может быть, ещё и поэтому он так охотно «исчезал» из круга императорских придворных). В первую очередь, Веспасиан был всё-таки солдат: служил в Германии, потом в Британии, где участвовал в тридцати боях, покорил два сильных племени, захватил большой соседний с Британией остров Вектис.
Правда, его карьера почти рухнула, когда его покровитель Нарцисс был убит по приказу Агриппины. Такая же участь грозила и всем «клиентам» Нарцисса, и вот тут-то, чтобы не рисковать, Веспасиан устраивает себе назначение консулом в провинцию Африка, и впервые «исчезает». Вернувшись, он сопровождает Нерона, уже императора, в поездке в Грецию, потом, как уже отмечено, засыпает под царское пение и снова пытается «исчезнуть». «Исчезнуть» ему, в каком-то смысле, не дают, а, в другом смысле, как бы и помогают: вызвав к императору, дают поручение возглавить антииудейскую кампанию. Веспасиан назначается главнокомандующим и новым наместником Рима на Ближнем Востоке (формально говоря, его должность называлась «наместник в Сирии»). Вот как об этом пишет Светоний:
«Веспасиан оказался избран как человек испытанного усердия и нимало не опасный по скромности своего рода и племени. И вот, получив вдобавок к местным войскам 2 легиона, 8 отрядов конницы, 10 когорт и взяв с собою старшего сына одним из легатов, он явился в Иудею и тотчас расположил к себе соседние провинции: в лагерях он быстро навёл порядок, а в первых же сражениях показал такую отвагу, что при осаде одной крепости сам был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько стрел».40
Итак, Веспасиан получает назначение на должность наместника в Сирии. Назначение состоялось в Ахайе (Греция), где находился тогда Нерон. Своего сына Тита Веспасиан отправляет морем в Александрию, чтобы тот с дислоцированными там войсками двигался на восставших иудеев из Египта. Сам же Веспасиан переправился через Геллеспонт и двинулся на иудеев по суше, по Малой Азии, и вскоре прибыл в Антиохию. Там он начал деятельно готовить военную экспедицию в Палестину.
К тому времени, как уже говорилось, в Иерусалиме победила наиболее радикальная партия иудеев, что произошло после ожесточенной внутренней борьбы. Как пишет в своей «Иудейской войне» Иосиф Флавий, одной из главных целей иудейских радикалов было – завладеть богатствами Иерусалима и уничтожить долговые расписки и прочие хозяйственные документы. Когда это удалось и долговые расписки были сожжены, это было воспринято радикальной партией как победа, потому что отныне устанавливался своеобразный «военный коммунизм». Теперь вся хозяйственная жизнь страны была подчинена задаче борьбы с врагом (Римом).
Единого руководителя у восставших не было, и это, наверное, тоже закономерно для революций, где должен торжествовать принцип коллективного принятия решений. Правда, на роль диктатора в Иерусалиме начал было претендовать мало кому известный властолюбивый человек по имени Манаим (Менахем). Со своими подчиненными и последователями он вел себя как крайне авторитарный владыка, однако во время некоего его торжественного входа в Иерусалимский храм на него напала храмовая стража во главе с Элеазаром и убила его; таким образом, этот «кандидат в Наполеоны» был устранен. Впоследствии также выдвинулись Симеон, Иоанн, но о них позже.
…Итак, в Иерусалиме правил некий самоназначенный «революционный комитет» с текучим кадровым составом; этот комитет пытался прочно взять власть в свои руки по всей стране. Во все области страны были направлены «военные комиссары» с чрезвычайными полномочиями – одним из них был Иосиф, автор «Иудейской войны», который получил в управление Галилею (об этом уже говорилось в приведенной выше цитате Л. Шиффмана). Иосиф занялся укреплением городов, обучением войск и в целом подготовкой к боевым действиям, но был вынужден то и дело отвлекаться на внутреннюю борьбу со всякого рода претендентами на власть, которые, опираясь на «творчество восставших масс», пытались отстранить его от управления Галилеей.
…Восстание распространялось вширь со скоростью лесного пожара в ветреный день: толпы восставших, где могли, нападали на римские гарнизоны и на верных Риму людей. Вот как в «Иудейской войне» Иосиф Флавий описывает нападение восставших на город Аскалон (перевод Я. Л. Чертка):
«Кто только способен был носить оружие бросился, не долго думая, в поход, предпринятый против Аскалона. Это старый город, отдаленный от Иерусалима на 520 стадий, всегда ненавидимый иудеями и долженствовавший поэтому сделаться теперь первой жертвой их нападения. Во главе кампании стояли три человека, выдававшиеся телесной силой и предусмотрительностью; это были: Нигер Перейский, Сила Вавилонянин и ессей Иоанн. Аскалон был сильно укреплен, но почти без войска: в городе находились лишь одна когорта пехоты и один лишь эскадрон всадников под командою Антония.
В своем ожесточении они шли так быстро, что сразу, как будто прибывшие из недалека, очутились пред городом. Но Антоний, предупрежденный заранее об их враждебном намерении, вывел уже своих всадников и, не робея пред многочисленностью и смелостью врагов, храбро выдержал их первый натиск и отбросил назад тех, которые подступили к стенам. Новички в борьбе с опытными солдатами, пешие против конных, разбросанные в беспорядке против тесно сомкнутых рядов, с наскоро сколоченным оружием против воинов в полных доспехах, руководимые больше гневным инстинктом, чем предусмотрительностью, воюя против солдат, привыкших повиноваться слову команды и действовать по одному мановению, – иудеи были легко преодолены. Ибо как только их передовые ряды пришли в смятение, они уже были приведены конницей к отступлению и таким образом, напирая на задние ряды, стремившиеся к стене, теснили друг друга до тех пор, пока все, преследуемые конницей, не рассеялись по всей равнине. Широко и открыто расстилалась равнина пред римской конницей, что значительно способствовало победе римлян, для иудеев же было причиной гибели. Бежавших римляне обгоняли и оборачивались к ним лицом; собиравшихся на пути бегства они вновь рассеивали и убивали в бесчисленном множестве; другие окружали со всех сторон толпы иудеев и расстреливали их без всякого труда; иудеям многочисленность их, вследствие отчаянного положения, в котором они очутились, казалась ничтожеством; римляне же, как их ни было немного, но благодаря тому, что счастье было на их стороне, считали себя достаточно сильными для того, чтобы одержать верх. Так как первые, стыдясь своего поспешного бегства и выжидая благоприятного оборота дела, боролись с своим несчастьем, а последние не переставали пользоваться своим счастьем, то битва затянулась до самого вечера. В результате десять тысяч иудеев и среди них двое из предводителей, Иоанн и Сила, легли мёртвыми на поле сражения. Остальные, большею частью раненые, с уцелевшим ещё предводителем Нигером, спаслись в идумейский городок по имени Саллис. Римляне имели в этой битве только немного раненых.
Это сильное поражение не смирило, однако, гордости иудеев; скорее это несчастье только усилило их смелость. Не проученные жертвами, лежавшими у их ног, а увлеченные счастьем, улыбавшимся им прежде, они дали себя заманить в другое поражение. Не выжидая даже столько времени, сколько требовалось для заживания ран, они собрали все свои боевые силы, чтобы с большей яростью и в большем количестве ещё раз напасть на Аскалон. Но, вместе с неопытностью и другими военными недостатками, им сопутствовала туда и прежняя судьба. Антоний на этот раз уже заблаговременно занял все проходы; таким образом они неожиданно попали в засаду, и прежде, чем успели выстроиться в боевой порядок, были оцеплены всадниками и опять потеряли свыше восьми тысяч человек. Все остальные бежали…»41
Итак, от Аскалона иудеи были отбиты, однако попытка римского наместника в Сирии, Цестия Галла, взять Иерусалим (ещё до передачи им дел Веспасиану) была отбита, в свою очередь, иудеями.
Все ждали действий Веспасиана, и эти действия удивили многих своей простотой и в то же время решительностью.
Веспасиан просто-напросто двинулся к югу вдоль побережья и в городе Птолемаиде соединился с Титом, который так же, вдоль побережья, дошёл сюда из Египта.
…Вот так война! – кто-то может здесь сказать. Ни Веспасиан, ни Тит, судя по всему, никаких боевых действий по дороге сюда не вели. По крайней мере, в книге «Иудейская война» Иосиф Флавий ни о каких боевых столкновениях у побережья не упоминает и, лишь одной фразой сказав о соединении войск Веспасиана и Тита, продолжает дальше повествовать о событиях, происходивших в Иудее вдали от побережья.
(С другой стороны, нельзя не отметить, что Иосиф Флавий в своей «Иудейской войне» опускает многие важные события или говорит о них лишь мельком. Так, например, лишь походя он касается ситуации в другом портовом городе, Цезарее (Кесарее), с которой начались события 66 н.э.: «Жители Кесареи убили всех иудеев в городе; в один час убито было свыше 20 тысяч, так что во всём городе не осталось ни одной иудейской души, ибо и бежавших Флор изловил и, как пленных, поместил в корабельные верфи.»42)
…Соединившись с войсками Тита в г. Птолемаида (который находится на побережье Средиземного Моря против района Галилеи, севернее Иерусалима), Веспасиан двинулся вглубь страны и вскоре осадил город Иотапату. Этой осаде посвящено в «Иудейской войне» значительное внимание, поскольку сам Иосиф был среди осаждённых и руководил обороной города. Согласно его описаниям, защищающие город иудеи проявили чудеса мужества и самоотверженности. Осада, которой с римской стороны руководил сам Веспасиан, продолжалась 47 дней; римляне неоднократно пытались штурмовать город, но всякий раз бывали отбиты; на сорок седьмые же сутки заняли город… без боя! Якобы им накануне сообщил перебежчик, что иудеи по ночам бодрствуют, ожидая атаки, а по утрам, поняв, что атаки не будет, засыпают – вот тогда-то и можно, дескать, без шума войти в город. Веспасиан, поколебавшись, якобы так и сделал, и ему удалось разоружить спящих часовых, а, когда жители Иотапаты проснулись, они увидели, что в городе – римские солдаты и сопротивляться поздно.43
Эта история кажется настолько неправдоподобной, что закрадывается вопрос: не был ли город на самом деле кем-то сдан римлянам, быть может, самим руководителем его обороны, т.е. Иосифом? Сам Иосиф упоминает в своей книге, что другие иудеи неоднократно грозили убить его, так как считали предателем. А он якобы не скрывал своего мнения о том, что и вся эта война не нужна, так как всё равно будет проиграна, и что город лучше сразу сдать, потому что защита его приведёт лишь к напрасному кровопролитию. Иосиф в книге повествует и ещё об одном, не менее странном эпизоде, произошедшем якобы уже после того, как римляне захватили город Иотапата. Группа озлобленных иудеев – защитников города хотела убить Иосифа; как крайнюю уступку, для спасения его чести они предлагали ему покончить жизнь самоубийством. Чтобы «смыть позор» сдачи города, он согласился на самоубийство, но при одном условии: если вместе с ним уйдут из жизни и эти мужественные защитники города. Чтобы определить порядок самоубийств, тянули жребий, и Иосифу по жребию выпало кончать с собой последним. Он дождался, пока все убьют себя, а потом убивать себя не стал, сдался римлянам, так как изначально, мол, идея самоубийства ему не нравилась…
Вот уж поистине «иудейская война»! – скажу я здесь. Если Иосиф, действительно, был верховным военным командиром в Галилее и если он, действительно, хотел сдать эту территорию Риму, то напрашивается подозрение, что именно он организовал и убийство этих ревностных защитников города, предполагавших стоять насмерть, и помог римлянам снять часовых и войти в Иотапату…
Так это или нет, мы теперь не узнаем, но неопровержимый факт заключается в том, что Иосиф стал почётным пленником Веспасиана, а затем и рабом императорского дома Флавиев. Так он, собственно, и получил имя «Иосиф Флавий», по тому обычаю, по которому рабы порой имели право называть себя именем хозяев.
…Карьера Иосифа-военачальника с падением города Иотапата закончилась, и началась его карьера писателя – автора «Иудейской войны», «Иудейских древностей» и других произведений. Надо полагать, право на безопасную жизнь и занятия литературой никто не горел желанием преподнести ему на блюдце, и это право ему пришлось покупать дорогой ценой. Началось это, когда Иосиф, взятый в плен и приведенный к Веспасиану, предсказал тому, что тот будет императором. Так, по крайней мере, утверждает сам Иосиф в «Иудейской войне», хотя и тут возможны некоторые сомнения. Слишком грубая лесть почти никому не нравится и может быть опасна. Веспасиан также весьма жёстко мог обойтись с Иосифом в ответ на такое предсказание при том, что императором Рима был сравнительно молодой Нерон…
Но оставим в стороне Иосифа и сосредоточимся на Веспасиане. Ему ещё предстояло главное: взять Иерусалим и разрушить храм…
Галилея – очень плодородная и густо населённая область, похожая на сплошной фруктовый сад. Вся земля в ней возделана, и очень много поселков, городов и городков. Судя по всему, солдатам было дано разрешение грабить и разорять эту территорию, что они и делали. При этом не забывая, разумеется, обогащаться. Правилом в римских армиях было наличие довольно большого обоза (чаще всего в каждом легионе – свой обоз), куда относили добычу и где временно содержали перепродаваемых рабов и военнопленных.
С другой стороны, не добивался Веспасиан и создания «выжженной земли», т.е. не стремился к полному уничтожению всех богатств земли и всех её жителей. При нём находился еврейский царь Агриппа II, который уговаривал непокорных не сопротивляться, выдавать зачинщиков сопротивления и, если они это сделают, обещал им милость. Милость потом они, действительно, получали, но иногда могли и не получить…
…Главным в действиях Веспасиана, судя по всему, было стремление всегда держать в своих руках инициативу и оставлять за собой принципиальные решения. «Хочу, поступаю так, а хочу – иначе. Сегодня я решил так, а завтра могу изменить решение, сегодня я вам что-то обещал, а завтра могу взять назад обещание. Если будете покорны, к вам может быть проявлена милость, а может и не быть проявлена, это уж как мы решим».
При покорении чужих земель легко впасть в грех катастрофизма, т.е. озлобленной и безнадёжной жестокости. Но нельзя впадать и в противоположный грех мягкости к врагу. «Если не будете сопротивляться, вас не тронут». Но на это противник может ответить: «Если оставите нам оружие – мы не будем сопротивляться». Главное тут – настоять, чтобы не было никаких «если», вернее, «если» может быть, но это должно быть «если» победителя, а не «если» побежденного.
Главное для Веспасиана было – не сбавлять усилий и каждый день придумывать что-то новое. Например, сегодня Веспасиан мог настаивать прежде всего на внешней покорности иудеев – поклонах и т. д., а завтра, наоборот, поощрять полную свободу их внешнего поведения, но требовать пунктуальной выплаты дани до каждого гроша. Главное, Веспасиан понимал, что римлянин должен жить этим (подчинением себе другого народа) и больше ничем – жить превосходством молодого и успешного римского народа над любым другим народом. Знать, что победы раз и навсегда быть не может, победа должна происходить каждый день и чуть ли не каждую минуту. А иудеи, как и все остальные народы, должны были научиться жить под Римом, но это означало раствориться в Риме и исчезнуть как народ. Не хотите? Тогда всё равно исчезнете, но мучительно. А покоритесь – к вам будет проявлена милость, а может быть, и не будет, вы сначала покоритесь, а потом посмотрим. Главное было для Веспасиана – всегда оставаться деятельным и по возможности не повторяться, всё время навязывать врагу какие-то новые повороты стратегии и тактики…
…Вот так примерно вёл Иудейскую войну Веспасиан. Это была война на уничтожение, хотя некоторые иудеи ещё этого не понимали…
Что касается взятого города Иотапата, то его Веспасиан приказал срыть, всех жителей казнить, кроме женщин и детей, которых продали в рабство.
Сама по себе 47-дневная осада должна была (по замыслу Веспасиана) стать некоей пропагандистской атакой на иудеев, которые, естественно, переживали за осаждённых, душой были с ними, ведь стойкость того или иного города во время войны зачастую делается символом стойкости всей нации. А 47 дней это как раз достаточный срок для того, чтобы все в душе ещё не покорившиеся римлянам иудеи начали сопереживать защитникам Иотапаты. И тут – удар по их надеждам!
Веспасиан, думается, рассчитал всё точно. Если бы дать городу продержаться дольше – хотя бы 100 дней или более того, то иудеи могли бы говорить, что это «всё равно их победа». Но и если бы город был взят слишком быстро, к нему не успели бы прикипеть душой и поражение не было бы столь болезненным…
Такими психологическими ударами Веспасиан пытался сломить иудеев, уничтожить их военную решимость…
…После Иотапаты Веспасиан взял небольшой город Иоппию и решил вопрос с покорностью Тивериады. Этот крупный город на берегу Галилейского моря колебался: поддержать ли ему Веспасиана или покориться той небольшой кучке иудеев-радикалов, которая настаивала на сопротивлении. Договориться удалось с помощью того самого царя Агриппы, которого Веспасиан возил с собой ради таких поручений, и жители Тивериады открыли ворота и помогли арестовать и казнить тех воинствующих иудеев, которые подталкивали к бою. Часть стены срыли, как это делали римляне во всех покоренных городах, причём порой эту работу делали сами жители городов, не дожидаясь приказов.
А вот другой небольшой город, Гамала, был хорошо укреплён и сопротивлялся яростно. В этот период войны последовательно проявили свою личную храбрость сын Веспасиана Тит, а за ним сам Веспасиан. Вначале Тит (при взятии ещё одного города, Тарихеи), посланный Веспасианом на разведывательное задание и отправившийся на него всего с шестью сотнями всадников, неожиданно встретился с силами иудеев, которые количественно значительно превосходили его силы. Послали за подкреплением; ему советовали отступить; но Тит обратился к своим воинам с краткой речью, в которой сказал, что главное на войне – не число, а дух, и увлек римлян за собой в атаку, не дожидаясь подкреплений. И римлянам, действительно, удалось разбить и обратить в бегство иудеев…
Титу, родившемуся в 41 н.э., было во время этого боевого эпизода 26 лет. И, кстати, случайно или нет взял его с собой на эту войну Веспасиан, но присутствие сына на театре боевых действий, возможно, помогало Веспасиану принимать более мудрые решения, а иудеям – воспринимать его как «отца» и их нации тоже.
Впрочем, Веспасиан, даже при громадной управленческой нагрузке, которая на нём лежала, отнюдь не отсиживался в тылу, это был боевой командир, который при передвижениях войск шел впереди основной массы солдат, а при взятии крепости Гамала лично вступил в бой, когда солдаты попали в ловушку, и с риском для себя лично вывел их из иудейского окружения.
Город и крепость Гамала были расположены частично на скалах, где дома лепились один над другим подобно ласточкиным гнездам. В ходе одного из штурмов римляне прорвали оборону иудеев и овладели «нижним» городом, однако, вместо того чтобы остановиться и осмыслить ситуацию, они дальше бросились за отступающими иудеями в «верхний» город. Веспасиан был вместе с войсками, и вот тут-то иудеи, скопившиеся в верхней цитадели в большом количестве, ударили по римлянам и буквально обрушили их сверху вниз как лавину, в том числе и на крыши домов, которые под тяжестью солдат начали рушиться, заваливать обломками находящихся внизу римлян. Штурмующими овладела паника; началась бойня; но вот тут-то Веспасиан, находящийся среди штурмующих, сумел как-то сплотить их, взбодрить и с боем вывести из окружения. Слово Иосифу Флавию в переводе Я. Л. Чертка:
«Каждый обвалившийся дом опрокидывал многих стоявших внизу, а эти последние развалили других, стоявших ещё ниже. Это стоило жизни множеству римлян; ибо в своей беспомощности они вскакивали на крыши даже тогда, когда видели их уже обрушивающимися. Таким образом многие были похоронены под развалинами, многие изувечены в бегстве, большинство, однако, погибло в удушливой пыли. Гамаляне видели в этом Божью помощь и, не взирая на собственный урон, с ещё большей настойчивостью напирали на римлян, искавших убежища на крышах, и с верху расстреливали тех, которые падали, сбиваясь на крутых улицах. Развалившиеся дома доставили им кучи камней, а оружие—убитые враги: у павших они срывали мечи и обращали их против других, боровшихся ещё со смертью. Многие, которым грозила опасность упасть вместе с крышами, бросались с них и таким образом сами убивали себя. Даже бежавшим не было так легко спасаться: не зная выходов и кружась в пыльной мгле, они не узнавали своих, сталкивались между собою и резали друг друга.
Кто только отыскивал выход, тот спешил прочь из города. Веспасиан всё время оставался при своём поражаемом войске. Сердце его дрогнуло при виде того, как город обрушился над его солдатами; не думая о личной безопасности, сам того не замечая, он протеснился чуть ли не до самой возвышенной части города, где среди величайшей опасности очутился один лишь с очень немногими; при нём не было даже сына его, Тита, находившегося тогда в командировке у Муциана в Сирии. Считая обратное возвращение ни безопасным, ни достойным для себя, он, собрав всё свое мужество и вспомнив о пережитых им от самой молодости опасностях, точно охваченный божественным вдохновением, приказал сопровождавшим его сомкнуться телом и оружием в одну массу. Таким образом он оборонялся против устремившихся сверху масс неприятеля и, не страшась ни численности его, ни его стрел, держался до тех пор, пока враг, усмотрев в его мужестве нечто сверхъестественное, умерил нападение. Как только натиск сделался слабее, он шаг за шагом сам отступал, не показывая, однако, тыла, и так вышел за стену города. Множество римлян пало в этой битве…
Веспасиан был очень удручен понесенными армией потерями: такое несчастие её ещё нигде не постигало. Последняя же в особенности сгорала от стыда при воспоминании о том, что оставила полководца одного в опасности. Веспасиан поэтому старался утешить её, но ни единым словом не упомянул о своей собственной особе, не проронил даже ни малейшего упрека и только сказал: «Общие несчастия нужно перенести стойко и не забывать, что по природе войны, никакая победа не даётся без кровопролития. Изменчивая фортуна витает всегда над воюющими, переходя то на одну, то на другую сторону. Естественно поэтому, что они, истребившие тысячи иудеев, должны были и сами принести року маленькую жертву. Но подобно тому, как недостойно чересчур зазнаваться в счастье, точно так же малодушно совершенно опускать руки в несчастии. Ибо быстра перемена судьбы, а потому здравомыслящий человек должен сохранять присутствие духа в неудачах и бодро стремиться к возвращению себе потерянного. То, что совершилось на наших глазах,—продолжал он,—произошло не вследствие нашей слабости и не вследствие храбрости иудеев, а только позиция была выгодна для них и убийственна для нас. В этом отношении единственно в чём вас можно упрекнуть, так это в том, что вы увлеклись безумным порывом. Ибо после того, как враги отступили на возвышения, вы должны были остановиться, а не подвергать себя опасностям, угрожавшим сверху; вы должны были занять нижний город, а затем постепенно вызывать бежавших наверх на верный и правильный бой. Вы же в своем горячем стремлении к победе забыли совершенно о собственной безопасности. Но необдуманность в битвах и бешеная горячка не в обычае римлян, а присущи варварам и составляют также главную особенность иудеев; мы же выигрываем сражения своей опытностью и дисциплиной. Мы должны поэтому возвратиться к свойственной нам храбрости и постигшее нас незаслуженное поражение должно вызвать в вас скорее чувство досады, чем упадок духа. Самого верного утешения пусть всё-таки каждый ищет в своей собственной руке—тогда вы отомстите за павших и накажете их убийц. Что касается меня, то я останусь тем же, каким был прежде: в каждом бою с недругом я вам буду предшествовать и оставлять поле сражения последним».
Такими словами он воодушевил свое войско. Радость гамалян по случаю неожиданной победы была непродолжительна. Вскоре они сообразили, что теперь потеряна всякая возможность мирного соглашения, а надежды на спасение не было никакой…»44
Когда город Гамала в конце концов взяли, последовала расправа, римляне уничтожили всех его жителей, не пощадив даже младенцев, которых кидали в пропасть… Но не хотелось бы давать твердую привязку наказаний Веспасиана к тем или иным городам или эпизодам войны. Как уже сказано, он мог иногда казнить, иногда миловать независимо от того, как именно протекали предыдущие боевые действия. Хотя общую ситуацию он всегда учитывал. И в качестве ещё одного примера того, как Веспасиан проводил карательные мероприятия, процитируем описание его действий после взятия другого города, Тарихеи:
«По окончании битвы Веспасиан сел в Тарихее на судейское кресло, чтобы отделить людей, нахлынувших извне и вовлекших всех в войну, от жителей города и чтобы совместно с начальниками решить вопрос о том, следует ли их оставить в живых. Все считали помилование их делом опасным: как люди без родины, они наверно не останутся в покое и будут в состоянии принудить к войне силой даже тех, у которых они найдут приют. Веспасиан также признавал, что они не достойны пощады и что они своим спасением воспользуются во вред своим освободителям. Он поэтому останавливался только над тем, каким способом удобнее будет их извести. Убив их на месте, он должен был опасаться нового восстания коренных жителей, которые без сомнения не допустили бы добровольно заклания столь многих просящих; кроме того он сам не мог позволить себе напасть на людей, которые, доверившись его слову, передали себя в его руки. Но его друзья взяли верх над ним, сказав: против иудеев всё позволительно и всегда нужно полезное предпочесть достойному, если нельзя и то и другое соединить вместе. Таким образом Веспасиан в двусмысленных словах обещал пришельцам пощаду, но позволил им выступить только по дороге к Тивериаде. Со сладкой верой в свою мечту, ничего дурного не подозревая, открыто неся с собою свои пожитки, они выступили по указанному им пути. Римляне же между тем заняли всю дорогу до Тивериады для того, чтобы никто не завернул в сторону, и заперли их в город. Вскоре туда явился Веспасиан, который приказал всем собраться в ристалище. Здесь он приказал стариков и слабых в числе 1200 убить; из молодых он избрал 6000 сильнейших, чтобы послать их к Нерону на Истм. Остальную массу, около 30400 человек, он продал, за исключением тех, которых подарил Агриппе. Царю он предоставил поступить с людьми, бежавшими из его области, как ему заблагорассудится; они, впрочем, были царём также проданы. Остальная масса из Трахонеи, Гавлана, Иппа и Гадары, состояла преимущественно из бунтовщиков, беглецов и других людей, которые были вовлечены в войну постыдными делами, совершёнными ими ещё во время мира…»45 Их Веспасиан приказал казнить…
* * *
Из других эпизодов войны можно отметить осаду и взятие Гисхалы, а также отказ Веспасиана нападать на Иерусалим в то время, как там (как ему было известно) иудеи разделились на враждующие партии и выясняли отношения силой оружия. Наиболее радикальная партия, зелоты, сумела захватить Иерусалимский храм и оборонялась в нём как в крепости от более умеренных иудеев. Ранее эта радикальная партия проводила по отношению к умеренным настоящий террор, – кстати, эта внутренняя борьба иудеев до странности напоминает нам и террор якобинцев, и террор российских большевиков по отношению к эсерам, меньшевикам и другим своим менее радикальным «попутчикам»…
Зелоты убили вождя умеренных первосвященника Анана и вызвали себе на подмогу идумеев, которые хитростью ворвались в Иерусалим и устроили в нём новую резню умеренных… Зная обо всем этом, Веспасиан воздерживался от осады Иерусалима, давая возможность своим войскам отдыхать на зимних квартирах, а иудеям – убивать друг друга в Иерусалиме.
Более того, Веспасиан понимал, что, если он в такой момент нападет на иудеев, они как раз объединятся и забудут распри, промедление же усилит римлян. «Если же кто скажет, – говорил Веспасиан, обосновывая свою тактику медлительности, – что блеск победы без борьбы чересчур бледен, то пусть знает, что достигнуть цели в тишине полезнее, чем испытать изменчивое счастье оружия. Ибо столько же славы, сколько боевые подвиги, приносят самообладание и обдуманность, когда последними достигаются результаты первых».46
Игра кошки с мышкой – вот, пожалуй, с чем можно сравнить стратегию и тактику Веспасиана. Наверное, все мы наблюдали эту игру кота с пойманным мышонком, и никто из нас не может сказать, что кошка не рискует: мышь, действительно, может проявить прыть и спастись. Но без такой рискованной игры, видимо, невозможно по-настоящему понять, почувствовать своего противника или – скажем прямо – свою пищу. Без этого невозможно в собственные гены и в гены собственных детей вложить интимное знание о поведении этой пищи. А если мышь, и правда, ускользнет, это тоже не беда: она унесет с собой унизительный, парализующий ужас перед высшим существом, и этим ужасом заразит своих соплеменников.
Примерно так вел Веспасиан Иудейскую войну, кажется, сознательно её затягивая. (Думается, многие полководцы не торопятся закончить войну победой, так как после заключения мира они попадают в полную зависимость от главы собственного государства и от его спецслужб.) Веспасиан мог бы откладывать штурм Иерусалима до бесконечности, но Нерон покончил жизнь самоубийством, легионы на Востоке провозгласили именно Веспасиана следующим императором, и ему ничего не оставалось как брать верховную власть в Риме, низложив самозванцев Вителлия, Отона и других.
События, связанные с вступлением Веспасиана на престол, изложены Тацитом в его дошедшей до нас книге «История»; довольно подробно – Иосифом Флавием в его «Иудейской войне», а также многими другими авторами. Поэтому здесь мы лишь кратко коснёмся произошедшего в это время.
…Итак, на долю двадцатидевятилетнего в то время Тита выпала эта задача – разрушить Иерусалим и главный иудейский храм.
Нужно ли описывать перипетии этого заключительного этапа войны, штурма Иерусалима и самого храма? Тит просто выполнил указание своего отца, выполнил в приемлемые сроки (примерно за четыре месяца) и без больших потерь для римлян. Иудеи оборонялись яростно, однако римляне избегали действовать методом «навались», своих солдат зря не губили. В Иерусалиме было тогда несколько обводов стен, и их пришлось штурмовать последовательно. Почти перед каждой стеной римляне возводили свой собственный вал, т.е. свою стену, по высоте, желательно, превосходящую обороняемую. Иногда к этому добавлялись ещё и боевые башни, с которых римляне обстреливали иудейскую стену и не давали иудеям мешать работе таранов. Таранами разрушали иудейские стены и уже в проломы вводили войска. Преимущество доспехов, вооружения, выучки, наконец, физической силы профессиональных бойцов было на стороне римлян, поэтому в прямом бою пехоты лицом к лицу они почти всегда побеждали иудеев и, неся незначительные потери, убивали десятки и сотни иудейских бойцов.
Кроме того, за римлянами было преимущество всякого рода военной техники – наличие у них катапульт и других камнеметательных, стреломётных и т.д. машин, которыми они постоянно обстреливали осаждаемых.
Численного преимущества как такового у римлян не было вовсе – было лишь преимущество в организации. Все римские войска в Палестине насчитывали максимум 20-30 тысяч человек, а в штурме Иерусалима никогда не бывало задействовано одномоментно более нескольких тысяч солдат. Большему количеству просто невозможно было развернуться в узких проломах стен, на улицах и т.д.
Данные о количестве убитых иудеев разнятся у разных авторов, невозможно произвести и подсчёт того, сколько всего жителей было в Иерусалиме во время осады и штурма. Множество народа стеклось в Иерусалим из всей разоренной войной Палестины, но множество и бежало из Иерусалима.
В Главе 9 Книги шестой «Иудейской войны» Иосиф Флавий приводит свою оценку числа пленных и павших за войну иудеев, но автору этих строк подсчёты Иосифа кажутся завышенными. В любом случае можно сказать, что число павших иудеев превысило сто тысяч, и, таким образом, разгром 70 н.э. можно считать одним из крупнейших разгромов в иудейской истории.
Всё-таки, наверное, некоторые подробности взятия Иерусалима привести стоит.
В самом начале Тит во главе разведывательного отряда подъехал близко к Иерусалиму и вдруг был отрезан вылазкой иудеев.
Он чуть не попал в плен, однако сам же и исправил свою ошибку, подбодрив бойцов и бросившись первым пробиваться из окружения.
Вскоре молодой военачальник ещё раз был вынужден рисковать собой. Трём легионам он назначил место для лагеря в трёх местах вокруг Иерусалима. И вот, когда один из легионов был занят строительством лагеря, иудеи совершили неожиданную по массовости и ярости вылазку. Они почти опрокинули легион и заняли лагерь, так что Титу пришлось лично броситься в бой чтобы остановить отступающих и повести их в контратаку. Строящийся лагерь отбили, иудеев заставили отступить обратно в город, и все римляне восхищались мужеством Тита.
Однако через некоторое время ситуация повторилась: опять вылазка, опять отступление римлян, и опять лично Тит с подмогой исправляет положение дел.
Кто кого проверял в этих ситуациях, не вполне ясно; наверное, все проверяли всех. Ведь интрига заключалась в том, что неизвестно было, как поведёт себя Тит в новой роли. Раньше он никогда не командовал целым театром военных действий, служил под руководством отца. Вот и сейчас он опирался на мнение некоторых опытных военачальников, например, Тиберия Александра, наместника в Египте, которому поручил общее командование войсками при взятии Иерусалима.
Как бы то ни было, но Тит не гнушался лично ввязываться в бой, и солдаты его за это, видимо, уважали.
Другая, более важная интрига состояла в том, изменятся или нет цели всей войны после смены императора в Риме. Ведь задачу уничтожить Иерусалим и Иерусалимский храм поставил неистовый Нерон, а захочет ли император Веспасиан доводить её до конца?
Именно в этом уверял иудеев Тит во время многочисленных переговоров с ними: мол, нет, не захочет, у римлян нет радикальных намерений в отношении иудеев, и иудеям лучше сдаться, зачем бессмысленное кровопролитие? Впрочем, в чём именно хотел уверить иудеев молодой военачальник и хотел ли он их уверить в чём-либо, это понять трудновато. Несколько раз Тит поручал вести переговоры Иосифу Флавию – по крайней мере, так утверждает в своей книге сам Иосиф Флавий. Речи Иосифа Флавия к иудеям – образчик двусмысленности (если, опять же, верить книге «Иудейская война», в которой эти речи приводятся). Дескать, «все народы покорились римлянам, одни иудеи сопротивляются; у всех народов достало разума понять, что римская мощь неодолима,
только иудеи упорствуют в своем ослеплении, в своей гордыне и т.д.» Неужели неясно, что такие речи скорее должны были возбудить военную гордость иудеев, чем заставить их сдаться?..
…А переговоров хватало, в том числе и издевательских, со стороны иудеев…
…Римляне уже пошли на штурм очередной стены, и тут вдруг сверху, с этой стены им закричал некий еврей Кастор, чтобы они остановились. Дескать, он и его товарищи – защитники хотят сдаться. Тит распорядился остановить штурм и лично через переводчика вступил в разговор. Дескать, он приветствует желание Кастора сдаться, пусть тот спускается вниз со стены. Кастор, стоя вполоборота, красноречиво описывал, почему он хочет сдаться, но делать это не спешил. Дескать, он ждёт товарищей, и они тогда вместе, целым отрядом, перейдут на сторону римлян. В то же время Кастор послал донесение командующему иудеев о том, что он, дескать, хитро задерживает атаку, и просил подкреплений и припасов…
Вскоре штурм возобновили, но Тита ещё не раз иудеи вовлекали в подобные псевдо-переговоры, и он всякий раз использовал их чтобы внушить, что у римлян, дескать, вполне мирные намерения. Причём Иосиф Флавий сообщает нам, что Тит якобы говорил это вполне искренне…
…Но переговоры переговорами, а штурмовые работы велись – со сбережением сил, но и без промедления. На 15-й день осады римляне овладели первой стеной; через 5 дней после первой взяли вторую стену. Тут, правда, Тит распорядился вторую стену не ломать, так как надеялся, что иудеи «одумаются» и прекратят сопротивление. (Он тогда с ними вступил в очередные переговоры.) Но они не одумались и даже отобрали назад кое-что из того, что однажды уже было захвачено римлянами, так что пришлось штурмовать вторично…
После второй стены взяли третью, потом часть храма; потом весь храм. О том, что собой представлял храм и как его обороняли, историк Г. С. Кнабе пишет следующим образом:
«Главным узлом обороны… являлся храм, периметр которого был равен 1110 м. Его территория представляла собой искусственно насыпанное плато, охваченное со всех сторон стенами, сложенными из параллельных рядов огромных каменных глыб. По краям плато шли дворы и портики, окружавшие так называемый внутренний храм, с его особой оградой, за которой располагался сначала женский двор, и лишь за ним шла стена, отделявшая само святилище». 47
…Итак, храм был взят, и здесь Тит, согласно Иосифу Флавию, попытался запретить солдатам поджигать храм, но они вышли из повиновения и подожгли его… Впрочем, так обстояло дело согласно Иосифу Флавию, а другие историки с ним в этом вопросе расходятся. Вот соответствующая цитата из «Иудейской войны»:
«Когда Тит увидел, что он не в силах укротить ярость рассвирепевших солдат, а огонь между тем всё сильнее распространялся, он в сопровождении начальников вступил в Святую Святых и обозрел её содержимое. Так как пламя ещё ни с какой стороны не проникло во внутренние помещения храма, а пока только опустошало окружавшие его пристройки, то он предполагал – и вполне основательно – что собственно храмовое здание может быть ещё спасено. Выскочив наружу, он старался поэтому побуждать солдат тушить огонь, как личными приказаниями, так и чрез одного из своих телохранителей, центуриона Либералия, которому он велел подгонять ослушников палками. Но гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения превозмогли даже уважение к Цезарю и страх пред его карательной властью. Большинство кроме того прельщалось надеждой на добычу… И вот в то время, когда Цезарь выскочил, чтобы усмирить солдат, уже один из них проник вовнутрь и в темноте подложил огонь под дверными крюками, а когда огонь вдруг показался внутри, военачальники вместе с Титом удалились и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать. Таким образом храм, против воли Цезаря, был предан огню».48
Так говорит Иосиф Флавий. Но историк Сульпиций Север, наоборот, утверждает, что Тит настаивал именно на разрушении храма, споря с некоторыми миротворцами из своего окружения. Эти данные Сульпиция Севера, по всей видимости, соответствуют тексту Тацита об этих событиях, который, правда, до нас не дошел…
После взятия полусгоревшего храма войска провозгласили Тита «императором» – это было почти в порядке вещей после крупных военных побед, и тем не менее Титу не хотелось, чтобы его отец заподозрил, будто он хочет отложиться от Рима. Потому Тит поспешил отдать все распоряжения о разрушении Иерусалима и отбыть в Рим – чтобы лично заявить отцу о своей лояльности.
Взятых в плен в Иерусалиме иудейских священников Тит приказал казнить, заявив, что «не должен жить священник после того, как храм его Бога разрушили». Войска Тит наградил и некоторых легионеров отпустил на покой. Солдаты столько награбили, что золото на рынках Сирии сильно упало в цене: его ходило слишком много. Празднуя победу, Тит задал для солдат пир, продолжавшийся три дня…
Затем город и храм римляне сравняли с землей – Тит распорядился оставить лишь несколько отдельно стоящих башен, чтобы они свидетельствовали о высоте когда-то находившихся здесь укреплений и о мощи того врага, которого победил Рим.
В Цезарее Тит устроил праздничные игры, в которых частью представления было то, что пленных иудеев заставляли сражаться со зверями и друг с другом. Таким образом было умерщвлено довольно много иудеев-воинов (по оценке Иосифа Флавия – несколько тысяч). Многих пленных иудеев отправили в Рим и позже использовали на строительстве Колизея, начатого Веспасианом и завершённого уже в годы императорства Тита.
Вся захваченная земля в Палестине, как это было принято, становилась собственностью римского государства (т.е. лично императора); но Веспасиан большую часть земли продал. Согласно Иосифу Флавию, количество римских ветеранов, которых наделили землей недалеко от Эммауса, было небольшим: всего восемьсот человек. Но главное, исчез иудейский этнос как оседлый народ, как влиятельный хозяйствующий субъект именно в этом регионе. Товарные и денежные потоки переключили на себя греки, сирийцы, египтяне, а в первую очередь – сами римляне.
…Погромы прошли во всех городах Ближнего Востока, и везде, где иудеев было меньшинство, их стало ещё меньше, а кроме того у них отняли практически всё имущество. Нечего и говорить, что все религиозные отправления иудеев были теперь запрещены; иудеев даже специально нагружали работами по субботам, чтобы не дать им выполнять субботние обряды. С другой стороны, Иосиф опять показывает нам либерализм Тита (в который, как уже сказано, не увсе историки верят), повествует о том, как Тит отверг просьбу антиохийцев, намеревавшихся выселить всех евреев из Антиохии. «А где же им жить?» – ответил Тит и предоставил антиохийцам разбираться со своими иудеями самостоятельно.
…Из Антиохии Тит, через Иерусалим, вернулся в Александрию и отплыл оттуда в Рим, где ему и отцу был устроен грандиозный триумф.
Победа над иудеями Рима имела не только военный, не только хозяйственно-политический, но ещё и идеологический, духовный аспект, который, возможно, и был самым важным. Размах и пышность триумфа соответствовали этому; среди наиболее замечательного, что было в этом триумфе, историки упоминают громадные башнеобразные сооружения, которые несли в процессии, – некоторые из них были по три, даже по четыре этажа. На этих «башнях» наглядно представлены были основные эпизоды Иудейской войны; триумф включал также шествие многочисленных пленных, демонстрацию захваченных богатств, религиозных предметов…
Вскоре после окончания Иудейской войны Веспасиан воздвиг храм Богини мира…
С воцарением Веспасиана в империи, действительно, установился мир. (Хотя были и восстания германцев, и галлов, и волнения в других областях империи…)
* * *
Веспасиан правил 10 лет, с 69 по 79 н.э.
Это было десятилетие методического «подтягивания гаек», заметно ослабевших за время правления Клавдия, а затем Нерона. Как пишет о Веспасиане Светоний, «он не упускал ни одного случая навести порядок. Один молодой человек явился благодарить его за высокое назначение, благоухая ароматами, – он презрительно отвернулся и мрачно сказал ему: «Уж лучше бы ты вонял чесноком!» – а приказ о назначении отобрал».49
Веспасиан, конечно, вошел в историю и своим решением обложить налогом туалеты, и своей фразой, сказанной по этому поводу: «Деньги не пахнут – Non olet pecunia».
Вообще Веспасиан не скрывал своего низкого происхождения и не стремился казаться более культурным или менее грубым чем был на самом деле. Светоний: «Лициний Муциан, известный развратник, сознавая свои заслуги, относился к нему без достаточного почтения, но Веспасиан никогда не бранил его при всех и, только жалуясь на него общему другу, сказал под конец: «Я-то ведь всё-таки мужчина!»»50
Скупость Веспасиана вошла в поговорку. Он не брезговал даже тем, что скупал и перепродавал предметы мебели, если видел, что на этом можно заработать. За скупость александрийцы презрительно называли его «селёдочником», однако же на самом деле Веспасиан неплохо владел финансовыми вопросами в масштабе империи.
В начале своего правления он сказал, что нужно 40 миллиардов сестерциев, чтобы империя встала на ноги, и, как знать, может быть, его экономность в итоге заработала римскому государству и больше чем эта сумма. Рассказывали, что он заботливо продвигал некоторых богачей на всё более денежные должности чтобы в конце концов отдать их под суд и конфисковать капитал. Эта довольно распространенная политика императоров называлась «сухой губке дать намокнуть, а мокрую выжать».
Когда однажды царедворцы предложили ему за огромную сумму денег воздвигнуть его статую, Веспасиан протянул руку и изрек: «Ставьте немедленно, вот пьедестал». Другой вельможа за большую взятку обещал устроить человеку назначение на прибыльную должность, называя этого человека своим братом, но Веспасиан эту взятку присвоил себе, заявив царедворцу: «Ищи себе другого брата, это теперь мой брат».
В целом же его распорядок дня Светоний описывает следующим образом:
«Образ жизни его был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, ещё до света, и прочитывал письма и доклады от всех чиновников; затем впускал друзей и принимал их приветствия, а сам в это время одевался и обувался. Покончив с текущими делами, он совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц: после смерти Цениды у него их было много. Из спальни он шёл в баню, а потом к столу: в это время, говорят, был он всегда добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы. За обедом, как всегда и везде, был он добродушен и часто отпускал шутки: он был большой насмешник, но слишком склонный к шутовству и пошлости, даже до непристойностей».51
