Белая гвардия. Избранное
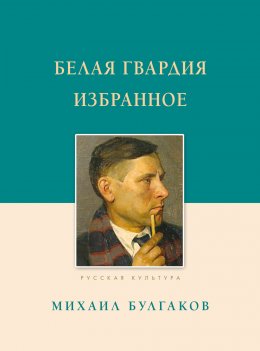
© Соколов Б.В., вступительная статья, комментарии, 2025
© Издательство «Даръ», 2025
© ООО ТД «Белый город», 2025
Михаил Булгаков: Краткая биография
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) – одна из крупнейших величин не только русской, но и мировой литературы. Сегодня Булгаков – едва ли не самый популярный из русских писателей 20–30-х годов XX века.
Почти все булгаковские произведения в той или иной степени автобиографичны. Факты собственной биографии писатель причудливо сочетал с полетом художественной фантазии. Были еще тысячи и тысячи книг, прочитанных Булгаковым и преображенных его гением в романах, рассказах и пьесах. Преломление чужих литературных образов часто помогает понять взгляды самого писателя. А узнаваемые персонажи-современники нередко позволяют приоткрыть непрочитанные еще страницы булгаковской биографии. И в каждом из произведений факты собственной биографии Булгаков преломляет через события эпохи.
Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3(15) мая 1891 года в Киеве. Об этом сохранилась запись в метрической книге Киево-Подольской Крестовоздвиженской церкви: «Тысяча восемьсот девяносто первого года родился мая третьего, а крещен восемнадцатого числа Михаил. Родители: доцент Киевской духовной академии Афанасий Иванович Булгаков и законная жена его Варвара Михайловна, оба православного вероисповедания». Крестил Михаила 18 мая священник Матвей Бутовский.
Будущий писатель появился на свет в доме № 28 по Воздвиженской улице, принадлежавшем крестившему Михаила священнику Крестовоздвиженской церкви Матвею Бутовскому (сейчас это дом № 10). А с 1904 года родители Михаила поселились на Ильинской улице, 5/8, в угол с Волошской, занимая квартиру в доме Духовной академии.
В 1900 году Булгаковы приобрели дачу под Киевом в поселке Буча, где проводили лето. Сестра писателя Надежда вспоминала: «Роскошь была в природе. Роскошь была в цветнике, который развела мать, очень любившая цветы… Цветник. Много зелени. Каштаны, посаженные руками самой матери. И дети вырастали на свободе, на просторе, пользуясь всеми радостями природы». По ее словам, мать говорила детям: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, – это образование». В 1909 году Булгаков закончил киевскую Первую Александровскую гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета.
Писатель Константин Паустовский, учившийся в гимназии вместе с Булгаковым, вспоминал: «Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы – оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном слове. Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу… Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом – будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос. Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский…». Однако серьезных неприятностей все эти шалости Михаилу не принесли. В «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» Булгаков перенес действие в здание Александровской гимназии. Именно там располагается артиллерийский дивизион, куда вступают добровольцами его герои. Ни в каком артиллерийском дивизионе Булгаков никогда не служил, и в те декабрьские дни 1918 года часть, куда он пошел добровольцем, не располагалась в Александровской гимназии. Но Михаилу Афанасьевичу очень нужно было перенести кульминацию действия своего любимого романа именно в этом здании, с которым было связано столько светлых и забавных воспоминаний.
26 апреля 1913 года Булгаков венчался с Татьяной Николаевной Лаппа, дочерью управляющего Саратовской казенной палатой, в Киево-Подольской церкви Николы Доброго. Венчал их друг семьи Булгаковых о. Александр Глаголев. Весной 1916 года Михаил Афанасьевич успешно окончил университет и три месяца работал врачом в прифронтовых госпиталях городов Каменец-Подольска и Черновиц. С конца сентября 1916 года Булгаков трудился врачом Никольской земской больницы Сычевского уезда Смоленской губернии. В сентябре 1917 года он был переведен в Вяземскую городскую земскую больницу заведующим инфекционным и венерическим отделением.
Тогда же Булгаков получил удостоверение Сычевской уездной земской управы о том, что «зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником».
Годы Гражданской войны в булгаковской биографии характеризуются, наверное, наибольшим числом душевных потрясений, связанных с событиями братоубийственной борьбы. Это и наименее документированный отрезок жизненного пути писателя. Известно только, что в конце февраля 1918 года Булгаков, освобожденный от военной службы по болезни, вместе с женой вернулся в Киев. Весной этого года Булгаков избавился с помощью второго мужа матери, врача Ивана Павловича Воскресенского, от морфинизма, к которому пристрастился в Никольском, и открыл частную практику в Киеве как венеролог. 14 декабря 1919 года, по воспоминаниям Булгакова, записанным его другом философом и литературоведом Павлом Сергеевичем Поповым, он «был на улицах города. Пережил близкое тому, что имеется в романе» («Белая гвардия»). В этот день в город вошли войска Украинской Директории во главе с С.В. Петлюрой, а Булгаков в составе офицерской дружины безуспешно пытался защитить правительство гетмана П.П. Скоропадского.
В начале февраля 1919 года Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Директории Украинской Народной Республики, но в ночь на 3 февраля при отступлении украинских войск из Киева успешно дезертировал и остался в городе. В конце августа 1919 года Булгаков предположительно был мобилизован в Красную Армию в качестве военного врача и вместе с ней покинул Киев. Но уже 14–16 октября вместе с частями Красной Армии будущий писатель вернулся в Киев и в ходе боев на улицах города перешел на сторону Вооруженных сил Юга России (или попал к ним в плен). После этого Булгаков стал военным врачом (начальником санитарного околотка) 3-го Терского казачьего полка. Вместе с полком он прибыл на Северный Кавказ в конце октября или в начале ноября 1919 года и в качестве военного врача участвовал в походе на Чечен-аул и Шали-аул против восставших чеченцев. 26 ноября вышла первая публикация Булгакова – фельетон «Грядущие перспективы» в газете «Грозный», где он крайне пессимистически оценивал перспективы Белого движения.
Конец ноября или в начале декабря 1919 года Булгаков приехал во Владикавказ, где работал в военном госпитале. Но уже в конце декабря Булгаков оставляет службу в госпитале и вообще, по его словам, «окончательно бросил занятие медициной» и начал работать журналистом в местных белогвардейских газетах. В конце февраля или в начале марта 1920 года Булгаков заболел возвратным тифом и поэтому не смог эвакуироваться из Владикавказа вместе со ВСЮР. Болезнь продолжалась до начала апреля. Булгаков очнулся, когда во Владикавказе уже были красные. Он стал работать заведующим литературным отделом (Лито) и театральным отделом (Тео) подотдела искусств Владикавказского ревкома, читал лекции перед спектаклями оперной и драматической труппы местного Русского театра, а 1 июля 1920 года выступил на диспуте о Пушкине. Но уже в ноябре 1920 года Булгаков вместе с заведующим писателем Юрием Львовичем Слезкиным и еще двумя сотрудниками были изгнаны из подотдела искусств как бывшие белогвардейцы.
Весной 1921 года Булгакову удалось поставить во Владикавказе свои пьесы «Парижские коммунары» и «Сыновья муллы» в Первом советском театре Владикавказа. В мае он выехал в Тифлис (Тбилиси) через Баку, а в конце июня вместе с женой отправился в Батум (Батуми), предполагая оттуда уехать за границу. Но ему не удалось ни эмигрировать, ни найти работу в Батуме, и в сентябре 1921 года Булгаков отправился в Киев, а оттуда – в Москву, куда прибыл 28 сентября. В октябре – ноябре Булгаков работал секретарем Литературного отдела (Лито) Главполитпросвета Наркомпроса. Тогда же он поселился в квартиру 50 в доме 10 по Большой Садовой, запечатленной в романе «Мастер и Маргарита» в образе Нехорошей квартиры. Затем Михаил Афанасьевич несколько месяцев бедствовал. Он записал в дневнике 9 февраля 1922 года: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки (Николая Mихайловича Покровского. – Б.С.) немного муки, постного масла и картошки. У Бориса (брата Андрея Михайловича Земского, мужа Надежды Афанасьевны Булгаковой. – Б.С.) – миллион. Обегал всю Москву – нет места. Валенки рассыпались». Булгаков сменил несколько работ, пока не стал фельетонистом газеты «Гудок». Это произошло в апреле 1922 года. А в мае писатель начал сотрудничать в берлинской газете «Накануне». Булгаков мощно дебютировал в русской литературе в 1920-е годы. Уроженец Киева, он осенью 1921 года навсегда переехал в Москву и стал одним из самых московских писателей. Но дебютировал Булгаков произведениями, которые отражали его опыт в годы Гражданской войны в Киеве и на Северном Кавказе – романом «Белая гвардия» и повестью «Записки на манжетах», где также отражены первые месяцы московской жизни писателя. Свой опыт земского врача в смоленской глуши он запечатлел в «Записках юного врача» и повести «Морфий». Необычным и уникальным для советской литературы того времени было то, что в «Белой гвардии», равно как и в поставленной в Художественном театре по ее мотивам пьесе «Дни Турбиных», Гражданская война показана глазами белых, а не красных. Точно так же в «Записках на манжетах» события Гражданской войны и восстановления советской власти на Северном Кавказе даны глазами интеллигента, которого нельзя с уверенностью отнести ни к белому, ни к красному стану и который с переменным успехом пытается противостоять вульгаризации культуры новой властью. А новый советский быт Булгаков блестяще запечатлел в повестях «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (последняя повесть не была пропущена цензурой и так и не была опубликована при жизни автора), в рассказах и фельетонах, публиковавшихся в газетах «Накануне» и «Гудок» и в других изданиях, а также в пьесе «Зойкина квартира», поставленной в 1926 году в Театре имени Евгения Вахтангова. В другой пьесе, «Багровый остров», поставленной в 1928 году в Камерном театре, Булгаков остроумно спародировал представления сменовеховской части эмиграции о событиях революции и Гражданской войны.
Советская пресса утверждала, что «Багровый остров» – это пасквиль на революцию. По этому поводу Булгаков писал в знаменитом письме правительству СССР от 28 марта 1930 года: «Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень и это тень Главного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает панегиристов и запуганных “услужающих”. Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее. Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, написала, что “Багровый остров” – памфлет на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком – не революция».
Из тактических соображений драматургу в письме правительству, конечно, выгоднее было выставить главной мишенью в пьесе не слишком просвещенных и охваченных запретительным ражем чиновников Главного репертуарного комитета, а не социалистическую революцию и строй в целом. Но косвенно он и тут признавал, что если не пасквиль, то памфлет на революцию в «Багровом острове» присутствует.
26 октября 1923 года Михаил Афанасьевич признался в дневнике:
«В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимися (отражающимися) в произведениях, трудно печататься и жить».
Советская критика обрушилась на Булгакова как на писателя, который не рядится «даже в попутнические цвета». Событием, выходящим далеко за пределы литературы, стала премьера в Художественном театре в 1926 году булгаковской пьесы «Дни Турбиных», написанной по мотивам романа «Белая гвардия». Несмотря на все цензурные потери, «Дни Турбиных» стали первой (и десятилетиями оставались единственной) пьесой в советском театре, где белый лагерь был показан не карикатурно, а с сочувствием и личная порядочность и честность большинства участников Белого движения не ставились под сомнение. Вина же за поражение возлагалась на штабы и генералов, не сумевших предложить программу, способную привлечь народ на сторону белых. Особый интерес к мхатовскому спектаклю проявляла интеллигентная публика. За первый сезон (1926/27 годы) «Дни Турбиных» прошли во МХАТе (были разрешены к постановке только в этом театре) 108 раз, что значительно превышает среднее число постановок за сезон всех остальных спектаклей московских театров. Это обеспечивало Булгакову авторские отчисления, достаточные для вполне сносной жизни.
В апреле 1924 года Булгаков развелся с Т.Н. Лаппа и в сентябре 1924 года начал жить с Любовью Евгеньевной Белозерской, вернувшейся в Москву из эмиграции. Их брак был зарегистрирован 30 апреля 1925 года.
Белые офицеры у Булгакова были очень уж симпатичны, и единственный, кто из белых отрицательный герой, так это, опереточный гетман, но и он показан не страшно, а всего лишь смешно, как и карьерист Тальберг.
Отрицательные в пьесе, конечно же, петлюровцы, но они олицетворяют, скорее, не конкретных сторонников Симона Петлюры, а народную стихию вообще. Цензура это быстро поняла, и сцена в петлюровском штабе была изъята при постановке.
Коммунисты демонстративно покидали спектакли «Дней Турбиных». Владимир Маяковский публично призывал устроить обструкцию и сорвать пьесу. Единственная объективная рецензия на «Дни Турбиных» появилась в «Комсомольской правде» 29 декабря 1926 года за подписью Н. Рукавишникова. Она была написана как ответ на ранее опубликованное письмо поэта А. Безыменского (в будущем – одного из прототипов булгаковского Бездомного), назвавшего Булгакова «новобуржуазным отродьем». Рукавишников пытался уверить коллег-критиков и власти, что «живых людей» в «Днях Турбиных» можно «показать зрителю совершенно безопасно», но никого не убедил. К 1930 году в булгаковской коллекции, как он признавался в письме правительству 28 марта 1930 года, скопилось 298 «враждебно-ругательных» отзывов и лишь 3 «похвальных», причем подавляющее большинство рецензий было посвящено «Дням Турбиных».
А вот в эмиграции на «Дни Турбиных» появилось немало положительных рецензий. Так, известный писатель Михаил Осоргин писал в «Последних новостях» 20 октября 1927 года: «Булгаков… по мере сил и таланта старается быть объективным. Его герои – не трафаретные марионетки в предписанных костюмах, а живые люди. Он усложняет свою задачу тем, что все действие романа переносит в стан “белых”, стараясь именно здесь отделить овец от козлищ, искренних и героев от шкурников и предателей идей белого движения. Он рисует картину страшного разложения в этом стане, корыстного и трусливого обмана, жертвой которого явились сотни и тысячи юнкеров, офицеров, студентов, честных и пылких юношей, по-своему любивших родину и беззаветно отдававших ей жизнь. Живописуя трагическую обреченность самого движения, он не пытается лишить его чести и не поет дифирамбов победителям, которых даже не выводит в своем романе… В условиях российских такую простоту и естественную честность приходится отметить как некоторый подвиг…»
Булгаковская пьеса «Бег», описывающая русскую эмиграцию и предназначенная для Художественного театра, так и не была поставлена при жизни драматурга. 9 мая 1928 года Главрепертком признал «Бег» «неприемлемым» произведением, поскольку автор никак не рассматривал кризис мировоззрения тех персонажей, которые принимают советскую власть, и политическое оправдание ими этого шага.
Цензура сочла также, что белые генералы в пьесе чересчур героизированы, и даже глава крымской контрреволюции Врангель будто бы по авторской характеристике «храбр и благороден». В первой редакции пьесы белый главнокомандующий, в котором легко узнаваем главнокомандующий Русской армией в Крыму генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель (журнальная вырезка с фотографией его похорон сохранилась в булгаковском архиве), в портретной ремарке описывался следующим образом: «На лице у него усталость, храбрость, хитрость, тревога» (но никак не благородство). Кроме того, Главреперткому очень не понравилась «эпизодическая фигура буденновца в 1-й картине, дико орущая о расстрелах и физической расправе», что будто бы «еще более подчеркивает превосходство и внутреннее благородство героев белого движения» (иного изображения врагов, чем простая карикатура, цензоры решительно не признавали).
На сторону пьесы встал Максим Горький. 9 октября 1928 года на заседании художественного совета он высоко отозвался о «Беге»: «Чарнота – это комическая роль, что касается Хлудова, то это больной человек. Повешенный вестовой был только последней каплей, переполнившей чащу и довершившей нравственную болезнь. Со стороны автора не вижу никакого раскрашивания белых генералов. Это – превосходнейшая комедия, я ее читал три раза, читал А.И. Рыкову (председателю Совнаркома. – Б.С.) и другим товарищам. Это – пьеса с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием…
Когда автор здесь читал, слушатели (и слушатели искушенные) смеялись. Это доказывает, что пьеса очень ловко сделана.
“Бег” – великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас».
Однако точку в споре вокруг «Бега» поставил Сталин. 2 февраля 1929 года он ответил на письмо драматурга Владимира Наумовича Билль-Белоцерковского о булгаковской пьесе. Иосиф Виссарионович писал: «“Бег” есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. “Бег”, в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление.
Впрочем, я бы не имел ничего против постановки “Бега”, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему “честные” Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою “честность”), что большевики, изгоняя вон этих “честных” сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно».
Близкие к Булгакову люди единодушно свидетельствуют, что он считал «Бег» своей лучшей пьесой. Хлудова должен был играть Николай Павлович Хмелев, игравший в мхатовской постановке Алексея Турбина, и, как утверждала Любовь Евгеньевна, «мы с М.А. заранее предвкушали радость, представляя себе, что сделает из этой роли Хмелев со своими неограниченными возможностями. Пьесу Московский Художественный театр принял и уже начал репетировать… Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник…» Третья жена писателя Елена Сергеевна Булгакова вспоминала: «“Бег” был для меня большим волнением, потому что это была любимая пьеса Михаила Афанасьевича. Он любил эту пьесу, как мать любит ребенка».
О «Днях Турбиных», которая в действительности была любимой пьесой Сталина, вождь в том же письме Билль-Белоцерковскому отозвался более благосклонно: «Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже “Дни Турбиных” – рыба». При этом Сталин оговорился, что данная пьеса «не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от “Дней Турбиных”, есть впечатление, благоприятное для большевиков: “Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь”. “Дни Турбиных” есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма». И тут Иосиф Виссарионович поспешил уточнить: «Конечно, автор ни в какой мере “не повинен” в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»
К концу 20-х годов все пьесы Булгакова были запрещены и он был лишен возможности публиковать свои произведения в СССР (в начале 30-х годов были вновь разрешены только «Дни Турбиных»). Один из самых популярных советских драматургов 20-х годов, Булгаков в 30-е годы вынужден был замолчать, продолжая, однако, писать «в стол» свой главный роман «Мастер и Маргарита», который после своей публикации в 1966–1967 годах сделал имя Булгакова поистине бессмертным.
После того как была запрещена новая пьеса Булгакова о Мольере «Кабала святош», драматург 28 марта 1930 года обратился с письмом к Правительству СССР. Он так характеризовал свою жизненную ситуацию: «Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены – работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы, – блестящая пьеса». После этого подчеркивал Булгаков: «…погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа “Театр”.
Все мои вещи безнадежны».
Причину такого к себе отношения писатель видел в своих усилиях «стать бесстрастно над красными и белыми» и в том, что «стал сатириком и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима».
В этом письме Булгаков также изложил свое идейное и писательское кредо. Совет ряда «доброжелателей» «сочинить «коммунистическую пьесу»… а кроме того, «обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик», автор письма решительно отверг: «Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет».
Булгаков вполне соглашался с мнением германской печати о том, что «Багровый остров» – это «первый в СССР призыв к свободе печати». Он так суммировал главное в своем творчестве: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.
Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя M.E. Салтыкова-Щедрина». Писатель сводил мнение критики в короткую формулу: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй».
Здесь слова о себе как о «мистическом писателе» помещены в явно иронический контекст, что, разумеется, было бы немыслимо для настоящего мистика.
Последними чертами своего творчества «в погубленных пьесах “Дни Турбиных”, “Бег” и в романе “Белая гвардия”» Булгаков назвал «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях “Войны и Мира”. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией».
Булгаков предлагал правительству два возможных варианта своей судьбы. Первый: «Приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой». Он обращался к «гуманности советской власти», призывал «писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу». Булгаков не исключал, что его все же, как и раньше, обрекут «на пожизненное молчание в СССР». На этот случай он просил, чтобы ему дали работу по специальности и командировали в театр в качестве штатного режиссера. Правительственный приказ о командировании требовался потому, что, по признанию писателя: «Мое имя сделано настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили испуг, несмотря на то что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров отлично известно мое виртуозное знание сцены».
Булгаков предлагал себя как «совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста – режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня.
Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный театр – в лучшую школу, возглавляемую мастерами К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко». Опальный драматург, если бы его не взяли режиссером, готов был идти хоть рабочим сцены. Он молил с ним «как-нибудь поступить», потому что у него, «драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, – нищета, улица и гибель».
Письмо было отослано в ряд адресов 31 марта и 1 апреля. А уже 18 апреля Булгакову позвонил Сталин. Е.С. Булгакова в 1956 году записала этот разговор по памяти: «18 апреля, часов в 6–7 вечера, он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Бол. Ржевском и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал:
– Михаил Афанасьевич Булгаков?
– Да, да.
– Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
– Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:
– Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или Михаил Афанасьевич – не помню точно).
– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
– Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда – вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?
(Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) – что растерялся и не сразу ответил):
– Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
– Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
– Да, я хотел. Но я говорил об этом, и мне отказали.
– А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.
– Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.
– Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего».
Сам Булгаков упомянул об этом памятном разговоре в сохранившемся в его архиве черновике письма к Сталину от 30 мая 1931 года.
Там он признавался, что «писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к вам.
Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.
Вы сказали: “Может быть, вам действительно нужно ехать за границу…”
Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
Есть еще один, поистине уникальный источник сведений о разговоре писателя с диктатором и вообще о личности Булгакова. Это – воспоминания видного американского дипломата Чарльза Болена, позднее, в 50-е годы, ставшего послом США в Москве. В 30-е же годы он был секретарем американского посольства в СССР. Посол Уильям Буллит несколько раз приглашал Булгакова, чей талант драматурга очень ценил, на приемы в посольство. С Боленом автор «Дней Турбиных» познакомился в августе 1934 года. Американский дипломат не был обольщен социалистической действительностью. В годы Второй мировой войны, будучи одним из советников президента Рузвельта по внешнеполитическим вопросам, он убеждал американцев, что «выдающаяся доблесть русской армии и неоспоримый героизм русского народа» не должны заставлять забыть об «опасности, исходящей от большевиков». В своих воспоминаниях, вышедших в 1973 году, Болен несколько страниц посвятил своей дружбе с Булгаковым. Он вспоминал: «Coup de grâce (удар милосердия. – фр.; имеется в виду удар кинжалом, которым рыцарь добивал поверженного противника. – Б.С.) был нанесен Булгакову после того, как он написал рассказ “Роковые яйца”. Речь в нем идет о профессоре, который нечаянно открыл средство роста и по ошибке использовал его для рептилий. Рептилии выросли и превратились в монстров метров сто длиной. Они быстро размножились и начали опустошать сельскую местность. Была призвана Красная Армия, но потерпела полное поражение. Как раз тогда, когда несчастье казалось неизбежным, сверхъестественным образом ударил сильный мороз и убил всех монстров. Небольшой литературный журнал “Недра” напечатал рассказ целиком, прежде чем редакторы осознали, что это – пародия на большевизм, который превращает людей в монстров, разрушающих Россию и могущих быть остановленными только вмешательством Господа.
Когда настоящее значение рассказа поняли, против Булгакова была развязана обличительная кампания. В прессе появились карикатуры с такими, например, подписями: “Сокрушим булгаковщину на культурном фронте”. Булгаков украсил этими карикатурами стены своей квартиры. В конечном счете пьесы были запрещены, писатель не мог устроиться ни на какую работу. Тогда он обратился за выездной визой. Он рассказывал мне, как однажды, когда он сидел дома, страдая депрессией, раздался телефонный звонок и голос в трубке сказал: “Товарищ Сталин хочет говорить с вами”. Булгаков подумал, что это была шутка кого-то из знакомых, и, ответив соответственным образом, повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и тот же голос сказал:
«Я говорю совершенно серьезно. Это в самом деле товарищ Сталин». Так и оказалось. Сталин спросил Булгакова, почему он хочет покинуть родину, и Булгаков объяснил, что поскольку он – профессиональный драматург, но не может работать в таком качестве в СССР, то хотел бы заниматься этим за границей. Сталин сказал ему: “Не действуйте поспешно. Мы кое-что уладим”. Через несколько дней Булгаков был назначен режиссером-ассистентом в Первый Московский Художественный театр, а одна из его пьес, “Дни Турбиных”, отличная революционная пьеса, была вновь поставлена на сцене того же театра».
После разговора со Сталиным Булгакова в мае 1930 года приняли режиссером-ассистентом в Художественный театр. Но принципиальных перемен в его положении не произошло. Булгаков по-прежнему был лишен возможности публиковаться в СССР, и написанный им для серии ЖЗЛ роман «Мольер» при жизни Булгакова опубликован не был. Из его пьес 18 февраля 1932 года по решению правительства были возобновлены только «Дни Турбиных». В ноябре 1932 года МХАТ поставил написанную Булгаковым инсценировку «Мертвых душ», которая в течение многих лет с успехом шла на сцене театра. Но оригинальные булгаковские пьесы – «Блаженство», «Адам и Ева», «Последние дни (Александр Пушкин)», «Дон Кихот», «Полоумный Журден» и «Батум», равно как и инсценировка толстовской «Войны и мира», так и не были поставлены при жизни драматурга.
3 октября 1932 года Булгаков развелся с Л.Е. Белозерской, а 4 октября вступил в брак с Еленой Сергеевной Шиловской, которая перед этим развелась со своим мужем Евгением Александровичем Шиловским, видным военачальником, будущим генерал-лейтенантом. Шиловский угрожал Булгакову револьвером и заставил их на полтора года прекратить встречи. Но затем наступила развязка. Елена Сергеевна, принявшая фамилию Булгакова, вспоминала: «В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь.
Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушествовала и осталась, и я не видела Булгакова двадцать месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу, то встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: “Я не могу без тебя жить”. И я ответила: “И я тоже”. И мы решили соединиться, несмотря ни на что».
Елена Сергеевна Булгакова стала основным прототипом Маргариты в самом знаменитом булгаковском романе.
Булгаковская пьеса «Мольер» готовилась к постановке во МХАТе 4 года, но в марте 1936 года была снята после всего лишь семи представлений. Причины снятия «Мольера» заключались в публикации 9 марта статьи «Правды» «Внешний блеск и фальшивое содержание». «Мольер» в ней был назван «реакционной» и «фальшивой» пьесой, Булгаков же обвинен в «извращении» и «опошлении» жизни французского комедиографа, а МХАТу вменялась в вину попытка прикрыть недостатки пьесы «блеском дорогой парчи, бархата и всякими побрякушками». На самом деле судьба пьесы была решена на Политбюро 29 февраля 1936 года, куда председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР Платон Михайлович Керженцев представил записку «О “Мольере” М. Булгакова (в филиале МХАТа)». Там утверждалось, что драматург «хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим строем, пьесы которого запрещают. В таком плане и трактуется Булгаковым эта “историческая” пьеса из жизни Мольера. Против талантливого писателя ведет борьбу таинственная “Кабала”, руководимая попами, идеологами монархического режима…» Из-за подобных аллюзий было решено снять пьесу не путем формального запрета, а публикацией критической редакционной статьи в «Правде». Вскоре после снятия «Мольера» Булгаков ушел из МХАТа в Большой театр, где с начала октября 1936 года стал либреттистом-консультантом. Булгаков написал четыре либретто: «Черное море», «Минин и Пожарский», «Петр Великий» и «Рашель», но ни одна из опер по булгаковским либретто не была поставлена на сцене театра. Обиженный на Художественный театр за то, что он не стал бороться за «Мольера», Булгаков в 1936–1937 годах написал неоконченный «Театральный роман», где довольно зло спародировал систему Станиславского и юмористически изобразил многих актеров и режиссеров МХАТа.
Главным делом для Булгакова в 1930-е годы стала работа над романом «Мастер и Маргарита», начатым еще в 1929 году. В самых ранних вариантах романа и московские, и ершалаимские сцены были приурочены к одним и тем же июньским дням. Июньская датировка могла быть связана с христианским праздником Дня Вознесения Господня, отмечавшимся в 1929 году 14 июня. Вероятно, поэтому визит буфетчика Театра Варьете к Воланду с требованием замены поддельных денег настоящими на следующий день после сеанса черной магии происходил в первой редакции 12 июня, а следовательно, сатана со свитой и Мастером оставлял Москву как раз в ночь на 14 июня.
Однако месяц нисан, на который в Евангелиях приходятся события Страстной недели – распятие и воскресение Иисуса Христа, – в разные годы соответствовал марту или апрелю юлианского календаря (старого стиля), но никогда – июню. А приуроченность визита Воланда со свитой в Москву к Страстной неделе, несомненно, представлялась Булгакову соблазнительной возможностью. Между тем в XX веке православные Страстная неделя и Пасха ни в одном году не могут приходиться на июнь. Если еще в 1933 году в сохранившейся хронологической разметке глав события в московских сценах в первых главах были приурочены к июню, то в последних Булгаков уже стал исправлять июньскую датировку на майскую, вернувшись к весенней приуроченности действия одного из вариантов 1929 года. В окончательном тексте нет точного указания, когда именно происходит встреча Воланда с литераторами на Патриарших прудах, но, оказывается, эту дату несложно вычислить.
Если исходить из предположения, что московские сцены, как и ершалаимские, происходят на православной Страстной неделе, то требуется определить, когда Страстная среда в XX веке приходится на май по григорианскому календарю (новому стилю), принятому в России с 14 февраля 1918 года. Ведь именно в среду, в «этот страшный майский вечер», Воланд и его свита прибыли в Москву. Выясняется, что только в 1918 и 1929 годах Страстная среда падала на 1 мая. Больше в XX веке такого совмещения, по-своему символического, не было. 1 мая – это официальный советский праздник, отмечавшийся шумными и многолюдными демонстрациями. 1918 год как время действия московской части «Мастера и Маргариты» отпадает – в романе изображена явно не эпоха военного коммунизма, когда не было даже червонцев, которыми так щедро одаривают спутники Воланда публику в Театре Варьете.
Булгаков приурочил начало действия к 1 мая 1929 года, когда праздник международной солидарности трудящихся опять пришелся на Страстную среду. Именно вечером этого дня в Москве появляется Воланд со своей свитой и предсказывает председателю МАССОЛИТа Михаилу Александровичу Берлиозу на Патриарших прудах гибель под колесами трамвая, вероятно, также и за то, что Михаил Александрович в этот скорбный день проводит праздничное собрание правления своей организации. 1929 год был провозглашен Сталиным «годом великого перелома», призванного покончить с нэпом и обеспечить переход к сплошной коллективизации и индустриализации. Тогда же переломилась и судьба Булгакова: все его пьесы оказались под запретом. Ночь же на 1 мая – это знаменитая Вальпургиева ночь, великий шабаш ведьм на Брокене, восходящий еще к языческому древнегерманскому весеннему празднику плодородия. Прямо после Вальпургиевой ночи Воланд со свитой и прибывает в Москву. А последний полет Воланда, его товарищей и Мастера и Маргариты происходит в ночь на Пасху, с субботы 4-го на воскресенье 5-го мая.
В ранней редакции романа Иешуа говорил Пилату, что «тысяча девятьсот лет пройдет, прежде чем выяснится, насколько они наврали, записывая за мной». Появление в Москве Воланда, рассказывающего свой вариант Евангелия, и Мастера, создающего роман о Понтии Пилате, совпадающий с рассказом сатаны, как раз и означает выяснение истины, открытой Иешуа, но искаженной переписчиками. Если московские сцены датированы 1929 годом, то срок в 1900 лет должен указывать, что ершалаимские сцены относятся к 29 году.
В одном из вариантов последней редакции, написанном в 1937 году, на предложение поэта Ивана Бездомного отправить Канта годика на три на Соловки Воланд ответствует, что «водрузить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже сто двадцать пять лет находится в местах, гораздо более отдаленных от Патриарших прудов, чем Соловки». Иммануил Кант скончался 12 февраля 1804 года, так что происходящее на Патриарших оказывается однозначно приурочено, принимая во внимание слова о майском вечере, к маю 1929 года. В окончательном тексте Булгаков заменил «сто двадцать пять лет» на «с лишком сто лет», чтобы избежать прямого указания на время действия, но косвенные указания на Страстную неделю 1929 года сохранил.
События московских глав в пародийном, сниженном виде повторяют события ершалаимских через промежуток ровно в 1900 лет. В финале, в пасхальную ночь на воскресенье, московское и ершалаимское время сливаются воедино. Это одновременно и 5 мая (22 апреля) 1929 года, и 16 нисана 29 года (точнее, того года иудейского календаря, который приходится на этот год юлианского календаря) – день, когда должен воскреснуть Иешуа Га-Ноцри, и его видят только что прощенный Понтий Пилат, Мастер с Маргаритой и Воланд со своими помощниками. Становится единым пространство московского и ершалаимского миров, причем происходит это в вечном потустороннем мире, где властвует «князь тьмы» Воланд. Ход современной жизни смыкается с романом Мастера о Понтиий Пилате. Оба этих героя обретают жизнь в вечности, как это было предсказано Пилату – внутренним (или божественным?) голосом, говорившим о бессмертии, а Мастеру – Воландом, после прочтения романа о прокураторе Иудеи. Роман о Пилате в сцене последнего полета стыкуется с «евангелием от Воланда», и сам Мастер, прощая прокуратора, в один и тот же миг завершает и собственное повествование, и рассказ сатаны. Затравленный в земной жизни автор романа о Понтии Пилате обретает бессмертие в вечности. Временная дистанция в 19 столетий при этом как бы свертывается, дни недели и месяца в древнем Ершалаиме и современной Москве совпадают друг с другом. Такое совпадение действительно происходит во временном промежутке в 1900 лет, включающем в себя целое число (25) 76-летних лунно-солнечных циклов древнегреческого астронома и математика Калиппа – наименьших периодов времени, содержащих равное число лет по юлианскому и иудейскому календарям. День христианской Пасхи становится днем воскресения Иешуа в высшей надмирности и Мастера в потустороннем мире Воланда.
В данном случае писатель опирается на книгу о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», в которой в качестве приложения помещены специальные «Заметки о троичности», а третье письмо из двенадцати писем основной части книги озаглавлено «Триединство». Флоренский доказывает, что троичность – это наиболее древний из всех архетипов человеческого мышления, и возводит ее к Божественной Троице. Идея троичности получила дальнейшее развитие в романе «Мастер и Маргарита», где Булгаков создал три мира – древний ершалаимский, современный московский и вечный потусторонний, а также три ряда функционально подобных персонажей.
В качестве примеров троичности Флоренский привел трехмерность пространства; три основные категории времени: прошедшее, настоящее и будущее; наличие трех грамматических лиц практически во всех языках; минимальный размер полной семьи в три человека: отец, мать, дитя; философский закон трех моментов диалектического развития: тезис, антитезис, синтез; а также наличие трех координат человеческой психики, выражающихся в каждой отдельной личности: разума, воли и чувства. Сюда можно добавить широко известный в лингвистике факт, что никогда не заимствуются из других языков названия первых трех числительных: один, два и три, а также то неоспоримое обстоятельство, что в художественной литературе трилогий значительно больше, чем дилогий или тетралогий. Флоренский доказал, что троичность как основную категорию бытия невозможно логически вывести ни из каких оснований, и потому возводил ее к изначальному триединству Божественной Троицы.
Отметим, что элементы троичности присутствуют не только в христианстве, но и в подавляющем большинстве других религий народов мира. Если же подходить к проблеме троичности с точки зрения науки, а не веры, то троичность бытия можно прежде всего объяснить троичностью человеческого, которая, в свою очередь, напрямую связана с установленной нейрофизиологией еще в XIX веке асимметрией функций полушарий головного мозга. При этом правое полушарие воспринимает внешний мир со всеми его красками и звуками и дает образ для мышления, а левое полушарие преобразует наше восприятие мира в грамматические и логические формы и осуществляет сам мыслительный процесс. Правое полушарие отвечает за конкретное, левое – за абстрактное.
Число 3 – это простейшее выражение асимметрии в целых числах по формуле 3=2+1, тогда как простейшая формула симметрии 2=1+1. Троичность мышления сводится к тому, что окружающую действительность человек воспринимает как трехсоставную. В связи с этим можно указать также, что подавляющее большинство исторических и историософских теорий, призванных объяснить явления действительности, не относящиеся непосредственно к мышлению одного человека, все равно несут в себе троичную структуру. Поэтому они вряд ли корректны, поскольку передают не особенности объясняемого, а особенности мышления, бессознательно присущие творцам этих теорий. В качестве примера приведем то, что в истории различных цивилизаций, как и в жизни человека, всегда выделяют молодость, зрелость и старость (или зарождение, расцвет и упадок). На самом деле данная периодизация не имеет отношения к существованию той или иной цивилизации, а только к способу истолкования ее историком или философом. Еще один пример – выделение Я, ОНО и Сверх-Я в психоанализе Зигмунда Фрейда. Получается, что для объяснения действительности адекватно самой действительности нам необходимо абстрагироваться от особенностей нашего мышления. Троичность мышления неразрывно связана с присущей разуму свободой воли. Если бы человеческое мышление было симметричным, то человек никогда не смог принять решение о выборе между двумя альтернативами, оставаясь в положении буриданова осла, который, согласно известному парадоксу, обладая абсолютной свободой воли и находясь на абсолютно одинаковом расстоянии от двух одинаковых вязанок хвороста, умрет от голода, так как не сможет отдать предпочтение ни одной из них.
Симметрия преобладает в природе, тогда как разум асимметричен. И троичный архетип, без сомнения, самый древний. Он возникает в тот момент, когда возникает само мышление (или разум).
В дальнейшем именно троичность стала основой композиции романа «Мастер и Маргарита». Три основных мира романа – древний ершалаимский, вечный потусторонний и современный московский, не только связаны между собой (роль связки выполняет мир сатаны), но и обладают собственными шкалами времени. В потустороннем мире оно вечно и неизменно, как бесконечно длящаяся полночь на Великом балу у сатаны. В ершалаимском мире – время прошедшее, в московском мире – настоящее. Эти три мира имеют три коррелирующих между собой ряда основных персонажей, причем представители различных миров формируют триады, объединенные функциональным подобием и сходным взаимодействием с персонажами своего мира, а в ряде случаев – и портретным сходством. Но два таких важнейших героя, как Мастер и Га-Ноцри, да и сам Воланд, входят в роман фактически без биографии. Здесь они существенно отличаются от Понтия Пилата, чье жизнеописание, пусть в зашифрованном виде, в романе присутствует. У читателей остается впечатление, что не помнящий своих родителей бродяга из Галилеи и творец истории прокуратор Иудеи существовали и будут существовать всегда. В этом отношении они уподоблены Богу, чье бытие представляется вечным. Укажем, что, как и бытие Божие, логично было бы представить Вселенную не только бесконечной, но и безначальной, что, тем не менее, восстает против коренных особенностей человеческого мышления и не находит поддержки в системах философии, признающих первичным сознание. Несмотря на это, безначально-бесконечная интерпретация мирового пространства присутствует в финале последнего булгаковского романа. Маргарита же уникальна в структуре романа, как уникальна олицетворяемая ею любовь.
Для того чтобы пробить своему великому роману дорогу в печать, Булгаков согласился написать для МХАТа к сталинскому юбилею в 1939 году пьесу о молодом Сталине, взяв за основу организованную им Батумскую демонстрацию 1902 года. Однако тут драматурга ждало фиаско. Пьеса была запрещена Сталиным к постановке и публикации, хотя он и сказал, что «пьесу “Батум” он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить». Причины запрета так и остались неизвестны Булгакову и руководству МХАТа. Только через много лет после смерти Сталина в архиве были найдены неопубликованные воспоминания Натальи Иосифовны Киртадзе (или Киртава) – Сихарулидзе, которая послужила прототипом Наташи – единственного женского персонажа «Батума», играющего в пьесе важную роль. Оказалось, что у них был короткий роман со Сталиным, но вскоре она отвергла предложение Сталина переехать к нему в Тифлис из Батума, и Сталин на нее за это очень обиделся. По воспоминаниям Натальи Иосифовны, когда через несколько месяцев они вновь встретились на партсобрании в Батуме, «я подошла поздороваться, но, увидев меня, он крикнул с озлоблением: “Уйди от меня”». Очевидно, и тридцать с лишним лет спустя Сталин не мог забыть былую обиду и не желал, чтобы единственной женщиной в пьесе была та, сходство которой с реальной Натальей Киртадзе-Сихарулидзе было бы очевидным для участников батумских событий. В то же время Сталин, естественно, не мог посвящать Булгакова и руководителей МХАТа в особенности своих взаимоотношений с Натальей Киртадзе-Сихарулидзе, а они тем более не могли знать об этом.
Булгаков заболел острым нефросклерозом буквально в тот же день, когда узнал о запрете «Батума», – 14 августа 1939 года. В то время нефросклероз был неизлечимой смертельной болезнью. От него в 1907 году в возрасте 47 лет скончался отец Михаила Афанасьевича Афанасий Иванович Булгаков. Как врач, писатель понимал, что он обречен. 4 октября 1939 года Булгаков начал диктовать жене последнюю правку к «Мастеру и Маргарите». Диктовка с перерывами продолжалась вплоть до 13 февраля 1940 года, когда Михаил Афанасьевич прекратил ее на словах Маргариты: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» Булгаков успел фабульно завершить роман, но не успел его окончательно отредактировать. 11 февраля 1940 года Булгаков подписал Елене Сергеевне свою фотографию в черных очках: «Жене моей Елене Сергеевне Булгаковой. Тебе одной, моя подруга, подписываю этот снимок. Не грусти, что на нем черные глаза: они всегда обладали способностью отличать правду от неправды.
Москва. М. Булгаков. 11 февраля 1940». Это был последний булгаковский автограф. 4 марта 1940 года Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике одно из последних его высказываний: «Я хотел служить народу… Я хотел жить в своем углу… (Сергею (Сергею Евгеньевичу Шиловскому, пасынку Булгакова. – Б.С.)) Ты знаешь, что такое рубище? Ты слышал про Диогена? Я хотел жить и служить в своем углу… я никому не делал зла…»
6 марта 1940 года Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике одни из последних осмысленных высказываний мужа: «16.00. Уснул. (Поцеловал и так заснул.). “Они думают, что я исчерпал… исчерпал уже себя?!” (при Цейтлине, Арендте (врачах. – Б.С.) и Якове Леонтьевиче (Леонтьеве, заместителе директора Большого театра. – Б.С.). Когда засыпал после их ухода: “Составь список… список, что я сделал… пусть знают…” 12.30 ночи. Проснулся – в почти бессознательном состоянии… Потом стал очень возбужден, порывался идти куда-то… Часто выкрикивал: “Ой, маленький!!”… Был очень ласков, целовал много раз и крестил меня и себя – но уже неправильно, руки не слушаются. Потом стал засыпать и после нескольких минут сна стал говорить: “Красивые камни, серые красивые камни… Он в этих камнях (много раз повторял). Я хотел бы, чтобы ты с ним… разговор… (большая пауза). Я хочу, чтобы разговор шел… о… (опять пауза). Я разговор перед Сталиным не могу вести… Разговор не могу вести”. Проснулся в восемь часов утра в таком же состоянии, что и ночью. Опять все время вырывался и кричал: “Идти! Вперед!” Потом говорил много раз: “Ответил бы. Ответил непременно! Я ответил бы!” Одно время у меня было впечатление, что он мучится тем, что я не понимаю его, когда он мучительно кричит… И я сказала ему наугад (мне казалось, что он об этом думает): “Я даю тебе честное слово, что перепишу роман, что я подам его, тебя будут печатать!” – А он слушал, довольно осмысленно и внимательно, и потом сказал: “Чтобы знали… чтобы знали”».
10 марта 1940 года в 16 часов 39 минут Михаил Афанасьевич Булгаков скончался у себя дома в Нащокинском переулке, 3/5, квартира 44. 11 марта прошла гражданская панихида в здании Союза советских писателей (улица Воровского, 52). 12 марта состоялась кремация тела Булгакова. Урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище.
Друг Булгакова П.С. Попов говорил: «Он презирал не людей, он ненавидел только человеческое высокомерие, тупость, однообразие, повседневность, карьеризм, неискренность и ложь, в чем бы последняя ни выражалась: в поступках, искательстве, словах и даже жестах. Сам он был смел и неуклонно прямолинеен в своих взглядах. Кривда для него никогда не могла стать правдой. Мужественно и самоотверженно он шел по избранному пути».
«Мастером и Маргаритой», великим романом, Булгаков воздвиг себе вечный памятник, обессмертил свое имя. Его роман нередко называют лучшим мировым романом XX века. Булгаков запечатлел в нем и современные бури, и вечные вопросы, стоящие перед человечеством, дал один из наиболее художественно убедительных вариантов евангельской легенды. И сделал все это с неподражаемым юмором, с удивительной стилистической легкостью. Булгаков творил новую реальность из самой литературы, сложно преобразуя и сплавляя воедино в своей прозе, и прежде всего в «Мастере и Маргарите», литературу и жизнь. И оставил среди прочего множество и загадок, и шифров в своих текстах, которые еще долго будут будить воображение миллионов его читателей.
Борис Соколов
М.А. Булгаков. Москва, 1926 г. Фото Р. Кармена
Белая гвардия
Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской
Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.
– Ну, барин, – закричал ямщик, – беда, буран!
«Капитанская дочка»
И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими.
Часть первая
1
Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.
Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.
Когда отпевали мать, был май, вишенные деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.
Алексей, Елена, Тальберг, и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик Бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?
Улетающий в черное, потрескавшееся небо Бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх… эх…
Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и «Саардамский Плотник», и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.
Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XVI, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, «Капитанской дочкой», золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:
– Дружно… живите.
Но как жить? Как же жить?
Алексею Васильевичу Турбину, старшему – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.
Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а «Капитанскую дочку» сожгут в печи. Мать сказала детям:
– Живите.
А им придется мучиться и умирать.
Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:
– Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот…
Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный, спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.
– Что сделаешь, что сделаешь, – конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) – Воля Божья.
– Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? – неизвестно у кого спросил Турбин.
Священник шевельнулся в кресле.
– Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – пробормотал он, – но унывать-то не следует…
Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.
– Уныния допускать нельзя, – конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. – Большой грех – уныние… Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, – он говорил все увереннее. – Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше все богословские…
Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал: «…Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь…»
2
Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.
Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна.
В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.
– Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытащили, смотри.
Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.
– Вот бы подстрелить чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю – это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.
– А ну их… Идем. Бери.
Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.
Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:
Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь.
Союзники – сволочи…
Он сочувствует большевикам.
Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:
«Улан Леонид Юрьевич».
Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!
Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в папахе с синим хвостом.
Подпись:
«Бей Петлюру!»
Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства – Мышлаевского, Карася, Шервинского – красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:
- Елена Васильевна любит нас сильно.
- Кому – на, а кому – не.
- Леночка, я взял билет на Аиду.
- Бельэтаж № 8, правая сторона.
- 1918 года, мая 12 дня я влюбился
- Вы толстый и некрасивый.
- После таких слов я застрелюсь.
(Нарисован весьма похожий браунинг.)
- Да здравствует Россия!
- Да здравствует самодержавие!
- Июнь. Баркаролла.
- Недаром помнит вся Россия
- Про день Бородина.
Печатными буквами, рукою Николки:
Я ТАКИ ПРИКАЗЫВАЮ ПОСТОРОННИХ ВЕЩЕЙ НА ПЕЧКЕ НЕ ПИСАТЬ ПОД УГРОЗОЙ РАССТРЕЛА ВСЯКОГО ТОВАРИЩА С ЛИШЕНИЕМ ПРАВ. КОМИССАР ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА. ДАМСКИЙ, МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПОРТНОЙ АБРАМ ПРУЖИНЕР.
1918 года, 30-го января
Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе – в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, – столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень… Неопределенно трень… потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо…
На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)
Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.
Старший бросает книгу, тянется.
– А ну-ка, сыграй «Съемки»…
Трень-та-там… Трень-та-там…
- Сапоги фасонные,
- Бескозырки тонные,
- То юнкера-инженеры идут!
Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах – жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.
- Здравствуйте, дачники,
- Здравствуйте, дачницы…
Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут – ать, ать! Николкины глаза вспоминают: Училище. Облупленные александровские колонны, пушки.
Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.
Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор…
- Здравствуйте, дачницы,
- Здравствуйте, дачники,
- Съемки у нас уж давно начались.
Туманятся Николкины глаза.
Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.
Елена раздвинула портьеры, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.
Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.
– Погодите. Слышите?
Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились – пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у… Николка положил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.
В гостиной – приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество» – снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах – напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.
– Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.
Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, двенадцать верст от города, не дальше. Что за штука?
Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.
– Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело…
– Ну да, тебя там не хватало… – Елена говорит в тревоге. – Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли, – самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.
В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу – коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы – приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства… Эх… эх…
На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем, как у Moмуса.
В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.
Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, что-нибудь с ним?.. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленою остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова:
- …мрак, океан, вьюгу.
Не читает Елена.
Николка наконец не выдерживает:
– Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть…
Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и – тонк-танк – идет к четверти одиннадцатого.
– Потому стреляют, что немцы – мерзавцы, – неожиданно бурчит старший.
Елена поднимает голову на часы и спрашивает:
– Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? – Голос ее тосклив.
Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.
– Ничего не известно, – говорит Николка и обкусывает ломтик.
– Это я так сказал, гм… предположительно. Слухи.
– Нет, не слухи, – упрямо отвечает Елена, – это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.
– Чепуха.
– Подумай сама, – начинает старший, – мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно.
– Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.
– Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.
– Так, по-вашему, Петлюра не войдет?
– Гм… По-моему, этого не может быть.
– Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.
– Но Боже, где же Сергей? Я уверена, что на их поезд напали и…
– И что? Ну, что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.
– Почему же его нет?
– Господи Боже мой! Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.
– Революционная езда. Час едешь – два стоишь.
Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:
– Господи, Господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали…
Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ – вот он. Пожалуйста:
Союзники – сволочи.
Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили – раз, и тотчас же часам ответил заливистый, тонкий звон под потолком в передней.
– Слава Богу, вот и Сергей, – радостно сказал старший.
– Это Тальберг, – подтвердил Николка и побежал отворять.
Елена порозовела, встала.
Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.
– Здравствуйте, – пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык.
– Витя!
Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова это была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.
– Откуда ты?
– Откуда?
– Осторожнее, – слабо ответил Мышлаевский, – не разбей. Там бутылка водки.
Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
– Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.
– Ах, Боже мой, конечно.
Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.
– Ну, конечно… Полно. Кишат.
– Вот что, – испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту, – Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.
В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
– Легче… Ох, легче…
Размотались мерзкие пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду – пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.
- Слух… грозн…
- Наст… банд…
- Влюбился… мая…
– Что же это за подлецы! – закричал Турбин.
– Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?
– Ва…аленки, – плача, передразнил Мышлаевский, – вален…
Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:
– Кабак!
Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцем в носки, простонал:
– Снимите, снимите, снимите…
Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.
– Неужели же отрезать придется? Господи… – Он горько закачался в кресле.
– Ну, что ты, погоди. Ничего… Так. Приморозил большой. Так… отойдет. И этот отойдет.
Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз, Петлюру, и немцев, и метель и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.
Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».
– Гетман, а? Твою мать! – рычал Мышлаевский. – Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу… Господи! Ведь думал – пропадем все… К матери! На сто саженей офицер от офицера – это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!
– Постой, – ошалевая от брани, спрашивал Турбин, – ты скажи, кто там под Трактиром?
– А! – Мышлаевский махнул рукой. – Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Сорок человек. Приезжает эта лахудра – полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля – переходите в наступление, с нами Бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь…» (Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом) – и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж! Мороз. Иголками берет.
– Да кто же там, Господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?
– А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены… Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах, Трактир – верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется – ползут… Ну, думаю, что будем делать?.. Что? Вскинешь винтовку, думаешь – стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь – в цепи где-то отзовется. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь – каюк. И под утро не вытерпел, чувствую – начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех поехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на Город. Перебьют – перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И, вообрази, – стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты – в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.
– А! Наш, наш! – вскричал Николка. – Погоди-ка, он не белградский гусар? – спросил Турбин.
– Да, да, гусар… Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»
Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с Постом-Волынским, – дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то к чертям.
– Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.
– А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские!.. у-у… вашу мать!
– Господи Боже мой!
– Да-с, – хрипел Мышлаевский, посасывая папиросу, – сменились мы, слава те, Господи. Считаем: тридцать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать…
– Как! Насмерть?
– А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла – ни одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази – глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики… хлопчики…» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэ ж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел… Мороз… Остервенился… Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил страшное ругательство) прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!» И лошади нашлись и розвальни.
Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается – уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное – мертвых некуда деть! Нашли наконец перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество… И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, спять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, Боже мой. Ну, конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. П-полный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать – жертвы. Я так измучился…» И коньяком от него на версту. А-а-а! – Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:
– Дали отряду теплушку и печку… О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в Город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз… окоченел… замок Тамары… водка…
Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.
– Вот так здорово, – сказал растерянный Николка.
– Где Елена? – озабоченно спросил старший. – Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.
Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит…
И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.
Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича…
Эх-эх… Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже – ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка – академии и университета – белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали – неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.
– Кто ж такие? Петлюра?
– Ну, если бы Петлюра, – снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, – вряд ли я бы здесь беседовал… э… с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюка». Они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. – Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: – Елена, пойдем-ка на пару слов…
Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот.
Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.
Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:
– Елена, никак иначе поступить нельзя.
Тогда Елена, помирившись о неизбежным, сказала так:
– Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?
Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена… Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда… Дней пять… шесть… И Тальберг сказал:
– Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи…
…Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом… потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут.
Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.
На дальнем пути Города-I Пассажирского уже стоит поезд – еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи… Гетманское министерство – это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что…
– Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли…
О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.
Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что «шаровары» при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:
«Игнатий Перпилло. Украинская грамматика».
В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук – «шароварам» крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», – выбирали «гетьмана всея Украины».
«Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», – говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте…» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.
Да, «оперетка»… Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не «шароварам», не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, – салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:
«Петлюра – авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю…»
– Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?
Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.
– Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть – значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее – в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну а в крайности у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.
Елена очнулась.
– Постой, – сказала она, – ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают?
Тальберг густо покраснел.
– Конечно, конечно, я обязательно… Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело мало меняет.
Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, – женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру «Фауста» там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин поет:
- Я за сестру тебя молю,
- Сжалься, о, сжалься ты над ней!
- Ты охрани ее.
Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного «Фауста». Эх, эх… Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», – совершенно бессмертен.
Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.
– Вы же Елену берегите. – Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: – Пора.
Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь… дзинь… в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.
В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.
– У… с-с-волочь!.. – проныло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.
А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.
– O, ja[1], – тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.
Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотание, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.
3
В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса… То есть сам-то он называл себя – Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, звали его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза ж, в третьем лице, никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас. Лис.».
Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены:
– Господи! Что же это такое?!
Ответил:
– Это Василисин сахар, черт бы его взял! – и после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.
Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то над верхними рядами книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу – тонкую цинковую пластинку – отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет Божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетик к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкали сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.
На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветви акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.
Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые – какая, к черту, Василиса! – это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек – зеленый игральный крап:
Знак державноі скарбниці 50 карбованців ходить нарівні з кредитовими білетами.
На крапе – селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:
За фальшування караэться тюрмою,
уверенная подпись:
Директор державноі скарбниці Лебідь-Юрчик.
Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебідя-Юрчика и ласково – на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее – предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют.
5 %-й прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «Николаев I-х», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и 2 Станислава.
В тайнике № 2 – 20 «катеринок», 10 «петров», 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, три портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50 золотых десяток, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).
Третий тайник – чердак: две четверти от трубы на северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183 золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.
Лебідь-Юрчик – на текущие расходы.
Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.
– Фальшування, фальшування, – злобно заворчал он, качая головой, – вот горе-то. А?
Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке – раз. В четвертом десятке – две, в шестом – две, в девятом – подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебідь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего 113 бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных – перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем Лебідевская. Василиса глядел на свет, и Лебідь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.
– Извозчику завтра вечером одну, – разговаривал сам с собой Василиса, – все равно ехать, и, конечно, на базар.
Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II:
– Извольте видеть: никогда покою нет…
Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал Лебідь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса и первое, что услыхал, – мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех…
За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.
– Единственное средство – отказать от квартиры, – забарахтался в простынях Василиса, – это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя.
- Идут и поют юнкера
- Гвардейской школы!
– Хотя, впрочем, на случай чего… Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры, в случае чего – защита-то и есть… Брысь! – крикнул Василиса на яростную мышь.
Гитара… гитара… гитара…
Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай…
На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:
- «Голым профилем на ежа не сядешь!»
– Вот веселая сволочь… А пушки-то стихли. А-стра-умие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! – Гитара.
- Арбуз не стоит печь на мыле,
- Американцы победили.
Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.
- Игривы Брейтмана остроты,
- И где ж сенегальцев роты?
– Где же? В самом деле? Где же? – добивался мутный Мышлаевский.
- Рожают овцы под брезентом,
- Родзянко будет президентом.
– Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!
Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга… от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном – Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах – стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой – Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же по александровской гимназической кличке – Карась.
