Осада «Мулен Ружа»
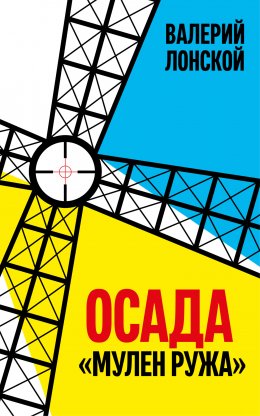
© Лонской В. Я., 2016
© ООО «БОСЛЕН», издание на русском языке, оформление, 2016
Осада «Мулен Ружа»
Кольке Ермолаеву приснился сон. Дело было в субботу, под утро. И не то чтобы страшный какой или очень уж там загадочный, про какие подумаешь – фантасмагория, да и только! – нет, а просто непонятный какой-то сон, хотя местами довольно забавный.
Стоит, значит, он во сне у пивного ларька, что напротив их дома, держит в руке кружку, а в кружке той вместо пива – фруктовая вода, лимонад вроде, но, правда, с пеной в палец толщиной. Вокруг в торжественных позах расположились соседские мужики, тоже пьют этот дурацкий лимонад, да еще нахваливают:
– Вот это пивко – знатное! Почище чешского будет!
Колька же пробует – фу, гадость! – плюется и ничего понять не может.
– Граждане! Да вы что?! – кричит он. – Вас обманули! Это же сплошное надувательство, а не пиво!
– Ты, друг милый, того… не кричи, не глухие, – отвечают мужики и скорбно сокрушаются:
– Эх, Колька! Опять выпендриваешься. Тебе что, больше всех надо?.. Ты лучше пей да помалкивай. Здесь не глупее тебя присутствуют. А ты пока еще юнга на нашей палубе жизни!..
– Как же так?! – зашелся от несправедливости Колька: их, мужиков, обманывают, как последних пацанов, а они же еще и радуются да его при этом ругают, эх!
И в этот самый момент увидел он свою жену, Татьяну. Татьяна шла мимо ларька и, что примечательно, вела на поводке собаку – здоровенного мраморного дога. А собак они сроду не держали, тем более такую громадину, на которую, как прикинул Колька, в день, почитай, килограмма три одной жратвы надо – не меньше!
– Тань! – захлопал он глазами. – Это что за явление природы?
– Ты что, собак никогда не видел? – невозмутимо спросила та. И добавила выразительно:
– Лучше бы у пивных поменьше отирался, алкоголик! – И ушла, вызывающе покачивая бедрами, чего обычно никогда не делала.
Колька оторопел. «Во дает! – подумал он. – Ну и логика, одно слово – женская… «Алкоголик» – скажет тоже! Ей бы Семиварова, нашего электрика, в мужья. Завыла б белугой через неделю!..»
Надо сказать, Колька выпивал редко. В основном, по большим праздникам, да и то в меру. И ему обидно было слышать такое. Пиво он, конечно, уважал, особенно в жару, после работы, мог выпить кружечку-другую, но ведь это же не водка. И вообще за всю свою сознательную жизнь, а прожил он, в общем, не так уж мало – целых двадцать семь лет! – Колька напивался до непотребного состояния всего два раза.
Причем первый раз это произошло на его же собственной свадьбе, что было нехорошо, после он и сам себя казнил. Но на то была причина. А напился он потому, что услышал, как мамаша Татьяны, отныне его теща, надменная дама в золотых побрякушках, сказала про него обидные слова, обсуждая со своей сестрой, невзрачной, поддакивающей ей особой, неожиданный и скороспелый брак единственной дочери. Дело было во время застолья, гости веселились вовсю, и мамаша думала, что их никто не слышит, а Колька как раз шел мимо, возвращаясь с кухни, куда выходил покурить. «Удружила Татьяна, что и говорить: нашла себе пару! Разве это муж? Да это же – сплошной кризис жанра, как говорит Андрей Петрович. Социальное недоразумение! – сокрушалась теща, запустив при этом палец в рот и проверяя прочность золотой коронки. – Разве о таком мы с тобой, Лена, думали-мечтали?.. Этот высоко не взлетит, так и прокукует на своем дурацком заводе. Ну, разве что бригадиром станет… Точно! Я птицу вижу по полету…»
Сама же Анастасия Львовна – так звали мамашу Татьяны – работала в районо, была там большим начальником и считала, что с ее положением да при тех деньгах, какие ей достались после смерти мужа, известного скульптора, она вправе рассчитывать на самого завидного зятя: молодого и перспективного сотрудника МИДа, например, или преуспевающего доктора наук (пусть он будет даже старше Татьяны – это не важно, лишь бы имел положение и деньги). В числе желанных соискателей могли быть и космонавт, и директор магазина, и ведущий сотрудник какой-либо большой процветающей фирмы, ну и, конечно, всякий другой состоятельный человек. О разных там инженерах, у которых зарплата ниже щиколотки, мелких чиновниках, работягах, изнуренных работой на станке и своей унылой участью, – и речи быть не могло. И вот на тебе – как снег на голову… Анастасия Львовна водила ладонью по груди, чуть пониже горла, словно что-то жгло ее изнутри…
Как-то раз, ожидая в парикмахерской своей очереди, Колька листал старые, замусоленные журналы и увидел в одном из номеров «Огонька» красочную репродукцию с картины знаменитого Рубенса, которая надолго осела в его памяти. Картина называлась «Возвращение Дианы с охоты», и на ней была изображена крупная молодая женщина, полуобнаженная, с охотничьими трофеями, в окружении сатиров и молодых наперсниц. Так вот, размерами и пышнотелостью, по мнению Кольки, Анастасия Львовна очень походила на эту самую Диану, только лицом, конечно, была похуже, повульгарнее. Зато дочь у нее уродилась настоящей красавицей. Правда, как считали некоторые, красоте девушки недоставало живости, тепла, открытости – в ней больше просвечивал лед, присущий холодным трезвым натурам; лед, который со временем, если не принять меры, мог разрушить эту красоту, разметать ее на части, словно бутылку лимонада, оказавшуюся на морозе, но Колька был ослеплен и думал по-другому…
Возвращаясь к мечтам Анастасии Львовны о достойной партии для дочери, следует сказать, что Татьяна, которая в образе мыслей многое унаследовала от своей матери и привыкла строить жизнь по ее рецептам, на этот раз жестоко подвела Анастасию Львовну, проявив не свойственное ей легкомыслие. Пока Анастасия Львовна отдыхала в «райской» Пицунде, в Доме творчества работников кино, грея в щедрых лучах южного солнца свое добротное, охочее до нескромных ласк тело, Татьяна познакомилась с Колькой и неожиданно для многих, в том числе и для самой себя, влюбилась в него. Вернувшись из «райских кущ» и узнав о романе дочери с парнем, работающим на заводе, Анастасия Львовна пришла в ужас, но изменить ничего не смогла. Никакие уговоры не помогали – Татьяна проявила завидное упорство: люблю – и все, хоть застрелите! И Анастасии Львовне пришлось в конце концов с болью в сердце согласиться на этот брак…
«Нет, не такого Татьяне надо, – повторила со вздохом несчастная теща и, подхватив со стола апельсиновую кожуру, долго мяла ее крепкими пальцами и, прикладывая к носу, нюхала. – Ладно, – твердо сказала она наконец, – пусть поживут, а там посмотрим… Когда будет нужно – разведем». Кольку аж в жар бросило от таких слов. Радости – как не бывало. Ошарашенный, он пролез на свое место, дрожащей рукой налил себе полный фужер водки и, пользуясь тем, что невеста увлеченно болтает с подругой и не видит его, залпом выпил. Настолько сильным было возбуждение, что Колька ничего не почувствовал – словно бы и не пил. Тогда он вновь наполнил фужер и тут же, не закусывая, выпил… Что было после, он помнил плохо. Помнил лишь, что, одурев, свернул на сторону половину длинного составного праздничного стола – и откуда в нем, щуплом, только сила взялась? – потом подхватил со скатерти тарелку с заливной рыбой, стал отдирать от нее куски в желтовато-сером желе и запихивать их в декольте любимой тещи, обкладывая со всех сторон ее грудь, словно вдохновенный скульптор, работающий с глиной. И ему казалось, что он приближает ее к совершенству Дианы – той самой! – вернувшейся с охоты. «Что ты делаешь, гадина?! – завопила Анастасия Львовна, будучи в одном лице и потрясенной матерью, и оскорбленной тещей. – Отцепись от меня, кретин!» Началась свалка. Захрустела под ногами битая посуда. Бледный взъерошенный жених, завершив работу по украшению тещиного бюста, теперь тыкал ей в благоухающую прическу рыбью голову – если автору не изменяет память, это был судак, которого именно теща и выудила из подвалов Елисеевского гастронома. «Люди! Уберите от меня эту пьянь!..» – взывала в отчаянии Анастасия Львовна, отталкивая от себя Кольку и выбрасывая из-за пазухи рыбное крошево и золотистые кружки лимона, которыми рыба была украшена. На одуревшего жениха навалилось сразу несколько человек – в основном это были родственники и приглашенные со стороны невесты; сама же невеста, вскочив на стул, что-то яростно кричала, размахивая букетом пронзительно-алых гвоздик, – чего она хотела, понять в этой свалке было невозможно, – может быть, опасалась, что поломают конечности ее новоиспеченному супругу. У Кольки вырвали из рук тарелку с остатками рыбы и убрали ее подальше от глаз, кажется, на платяной шкаф, а его самого крепко-накрепко связали по рукам и ногам бельевой веревкой, затем отнесли в другую комнату, где уложили на кровать и где он еще долго корчился и извивался, выкрикивая что-то бессвязное, пытаясь освободиться от стягивающих его пут, пока окончательно не обессилел и не заснул… После такого отнюдь не праздничного завершения свадебного застолья Анастасия Львовна долго отказывалась приходить в Колькин дом, куда переехала на жительство ее дочь, и снизошла до визита лишь после того, как Татьяна родила сына, Павлика, и Колька привез их из роддома…
Теперь вернемся к Колькиному сну. Далее во сне Колька пришел домой и с удивлением обнаружил, что в квартире никого нет: ни сынишки Павлухи, ни жены… Один дог сидит в пустой комнате. Черт мраморный! Смотрит строго в окно и мычит какую-то песню, словно человек. А над ним, на раскладной вешалке, которая висит в воздухе на невидимом гвозде, сохнет, покачиваясь, выходная Колькина рубашка в полоску. «Хорошо хоть рубашку выстирала, – подумал Колька, – а то вечером на люди выйти не в чем…» Потом случилось удивительное. В окно с улицы заглянула теща, Анастасия Львовна – та самая. Стояла, смотрела на него, привычно хмурилась. «Бред какой-то!» – подумал Колька, вспомнив, что его квартира находится на девятом этаже и вроде бы теща заглядывать сюда с улицы не может – больно высоко, но она, настырная, стояла там и заглядывала и сказать, видимо, что-то хотела, но медлила: то ли не решалась, то ли слова, как обычно, какие-нибудь едкие подбирала. «Кого я вижу! – воскликнул весело Колька. – Дочери Икара наш пламенный привет! Работают все радиостанции Советского Союза… Теща в космосе!..» – «Эх, Николай, – заговорила теща с тихой печалью, – грубый ты человек. Воспитания тебе не хватает… Но я, видит Бог, на тебя не обижаюсь, потому как люблю тебя нежно – всей душой!» Это было что-то новенькое в тещином репертуаре – про любовь. И Колька опешил. «На чем же она все-таки держится? – вновь подумал он. – Может, я проглядел, а там еще одну пожарную лестницу соорудили? «– «Как же, жди – соорудят! – воскликнула Анастасия Львовна, непонятным образом прочитав его мысли. – Старую-то никак починить не могут… Случись пожар – всем в окно прыгать придется. Ну ничего, там внизу яма с опилками – не разобьетесь». – «Я-то – нет, – уверенно согласился Колька, но тут же спросил озабоченно, вспомнив про жену и сына: – А как же Татьяна с Павлухой? Они-то прыгать в окна не умеют…» На эти слова Анастасия Львовна отреагировала самым странным образом. «Устал ты, Коля, голубчик, много работаешь, – сказала она задушевным тоном. – Съездил бы куда-нибудь на юг – отдохнуть… А путевочку я тебе сделаю… Хочешь в санаторий, а хочешь – в дом отдыха». Идея была заманчивой, и Колька согласился. И даже представил себе такую картину: стоит он на берегу моря в ярких импортных плавках, а через его ноги лениво катится волна, шуршит, пенится, переворачивая мелкие камешки… Над головой сверкает ослепительное солнце… Тело покрывает шоколадный загар… Ноздри жадно ловят морские запахи… Рядом стоит улыбающаяся Татьяна, стройная, милая, загорелая… У Кольки аж дух захватило: до чего хорошо! Он бы отправился в своих мечтах еще дальше, но тут в дальнем углу комнаты сам собою зажегся экран телевизора и появившийся на экране диктор, поправив галстук и пригладив волосы на затылке, напомнил ему привычным бодрым голосом, что Татьяна должна вскоре сдавать выпускные экзамены на курсах, где она изучает английский язык, и что по этой причине она поехать на юг не сможет. Ну вот! Волна под Колькой покатилась в обратную сторону, обнажая серый морской песок и удаляясь все дальше и дальше… «К сожалению, не выйдет, – протяжно вздохнул Колька и посмотрел на тещу: – Экзамены – дело серьезное… Вот если только Павлуху с собой взять». – «А ты один поезжай, – тихо и загадочно предложила теща – видимо, была у нее причина спровадить зятя. – Одному, поди, как хорошо, на юге-то…» Сказала это и ушла. А перед Колькой осталось пустое окно, открытое настежь. Колька бросился к нему. Навалившись на подоконник, выглянул наружу, пытаясь выяснить, куда теща делась, и увидел, что Анастасия Львовна с преобразившейся молодой фигурой, стройная и подтянутая, в спортивном трико телесного цвета, уходит спиной к нему по туго натянутому канату, как циркачка, направляясь в густую крону старого тополя, вознесшегося напротив, и только ее ягодицы упруго круглятся, как два ядра. Мгновение – и она исчезла в густой листве дерева. «Так, – отметил про себя Колька, – запутывает следы… И кто ее только научил по канату бегать, да так ловко!» Он хотел было вылезти в окно и последовать по канату за цирковой тещей, но тут за его спиной кто-то негромко запел. Пели «Клен ты мой опавший» на стихи Есенина. Колька обернулся. Это опять упражнялся дог – старательно, со знанием дела. Колька озадаченно почесал затылок. «Вот дела! – подумал он. – А Полкан-то мне зачем?» Он открыл дверь и хотел было выгнать собаку, но передумал. «Ладно, черт с ним, прокормим! Три рта или четыре – какая разница?»
Потом Колька снова очутился на улице. Долго куда-то мчался на новеньком красном мотоцикле, подставив ветру лицо, пока прямо перед ним не выросла высокая кирпичная стена. Свернуть он не успел – слишком неожиданно она появилась. Он врезался в стену, пробил ее насквозь, не почувствовав при этом никакой боли, словно преграда была из ваты… За стеной он увидел пригорок, а на нем нарядную деревенскую избу с расписными резными наличниками, с лавочкой у калитки и двумя тонкими березами в палисаднике. На лавочке сидел прораб Васин, Колькин сосед снизу, всегда занимавший у Кольки деньги на выпивку, обычно угрюмый, небритый, а теперь гладковыбритый, веселый, с галстуком-бабочкой на голой шее, и что-то пел, залихватски растягивая меха гармони. Рядом с ним восседала Татьяна с Павликом на коленях и подпевала Васину, и, что самое интересное, лицо у Татьяны было улыбчивое, озорное, а не замкнуто-хмурое, как в последнее время…
И тут Колька проснулся. Некоторое время лежал неподвижно, тупо созерцая потолок, осмысливая увиденное во сне и то, что являлось реальностью. А реальность была такова: ни Татьяны не было рядом, ни сына Павлухи, ни музыкально одаренного дога. Колька был один.
Колька поежился, как от холода, встал с кровати, натянул тренировочные штаны. По дороге в ванную зашел на кухню, включил на полную мощь радио – так веселее было начинать день. Радио притупляло остроту одиночества. Когда оно «пело» или «разговаривало», Кольке представлялось, что он в квартире не один. Вот и теперь кухня наполнилась звуками человеческого голоса, который как бы протягивал Кольке руку, призывая его к диалогу (пусть и в односторонней форме, но все же), стремясь вдохнуть в него уверенность и оптимизм, с которыми живет сегодня государство. Голос принадлежал артисту, который читал дурацкие стихи о строительстве ГЭС на далекой сибирской реке. Артист с таким воодушевлением выбрасывал в воздух звонкие слова, что Кольке подумалось, что тот, наверное, еще и пританцовывает при этом, как резвый бычок на лугу. «Старается, бедолага, – усмехнулся Колька, – хочет, чтобы я ему поверил… Ладно, старик, верю – не голоси!» И он переключил радио на другую программу. Искрящиеся звуки вальса Легара хлынули из динамика, словно смягчая холостяцкую обстановку, царившую в доме. Кухня стала казаться светлее, чище, уютнее, будто женская рука с влажной тряпкой прошлась по ее углам.
Колька шагнул в ванную, открыл кран и задумался. Прошло уже девять месяцев с тех пор, как Татьяна ушла от него. Ушла, обозвав «неудачником» и «пустоцветом». Если определение «неудачник» не вызывало у Кольки никаких эмоций (это он уже слышал, и не раз, от Анастасии Львовны, и здесь Татьяна пела с чужого голоса), то слово «пустоцвет» оскорбило его.
– Это почему же я «пустоцвет»? – хмуро поинтересовался он.
– Да потому, что толку от тебя никакого… – бесцветным голосом сказала Татьяна, небрежно укладывая вещи в чемодан; внизу у подъезда ее ожидала черная «Волга», где на переднем сиденье возле шофера сидела Анастасия Львовна, нервно поглядывавшая на дверь подъезда и готовая в любой момент подняться наверх и поторопить события.
– Объясни, не понимаю… – потребовал Колька. – Разве я в магазин не ходил? Или в прачечную? Или с Павлухой не гулял?
– Ну ходил, ну гулял… Да не в том дело! У всякого нормального человека должно быть здоровое тщеславие, а у тебя его нет. И ты поэтому ничего не добьешься. Вон Лермонтов в двадцать семь уже погиб, а сколько сделал!.. Без тщеславия живут одни лишь головастики, да и то, пока в лягушку не превратятся!
– Головастики?
– Угу.
– Это что-то новенькое – по части сравнений. Хотя песня старая! – вздохнул Колька и посмотрел в окно на эту самую злополучную «Волгу». – Слыхали мы это, и не раз… Вы всегда прохиндея из меня хотели сделать, ты и твоя мать. Чтоб я куски у других изо рта вырывал, пока они еще дымятся. Простите неразумного – не умею!
– А что ты умеешь? Что?! – Татьяна опустила крышку чемодана, щелкнула замками. Бесстрастно посмотрела в лицо бывшему мужу.
– Я? – Колька замялся. – Что надо, то и умею… Я в музеи хожу, на выставки картин…
– Ну а толку, толку-то, что по выставкам ходишь?.. Рисовал бы, в таком случае, если живописью интересуешься… Или иди на искусствоведческий, но что-то делай, чтоб человеком стать! А то и вправду, возьми краски и рисуй – кто мешает? Может, чего и получится.
– Счас… Нарисую… Тебе чего? Колбасу копченую или окорок? А может, шубу из норки? Тебя ведь больше ничего не интересует.
– Кто бы говорил…
– Ты и на курсы английские пошла, чтоб поближе к интуристам быть, к шмоткам разным из-за бугра!
– Дурак! Да если б я об этом думала, разве за тебя, голодранца, пошла бы? Лучших пять лет угробила!
Колька потемнел лицом. Слова жены об «угробленных пяти годах» тяжелым камнем легли на сердце. Заявляя сейчас подобное, она разом перечеркивала все то хорошее, что было когда-то между ними.
– Да, я дурак, – согласился он, играя желваками. – Дурак – потому что химичить не умею… и взяток не беру, как некоторые.
Выплеснув это, он хотел задеть Татьяну и достиг своей цели. Ее лицо пошло красными пятнами.
– Ты на что намекаешь?
– Ни на что не намекаю.
– Ты мою мать не трожь! Ей отцовских денег вполне хватает! – обычно флегматичная, тут Татьяна задохнулась от гнева. – Она честная, работает, как вол! Всем помогает… А духи по праздникам или коробка конфет – это не взятка! И потом, ты ее за руку держал, держал?!
– Ну да, ее удержишь – костей потом не соберешь!
– Дрянь неблагодарная! Она тебя, шантрапу, кормила-поила, а ты!..
– Я, между прочим, сам себя кормил.
– Это на сто семьдесят «рэ» с вычетами? Ой, держите меня! Это же жизнь за порогом бедности! Как у африканских негров!
– Мне хватает.
– Вот и продолжай в том же духе, но без меня!
Татьяна подхватила чемоданы, рванулась из комнаты в коридор, но неожиданно застряла в дверях и никак не могла пролезть: ни вперед, ни назад. Сколько она ни тужилась, ничего у нее не получалось.
– Давай помогу, – предложил Колька и шагнул к ней, – а то надорвешься с этими чемоданами…
Татьяне почудилось, что бывший муж, видя, в каком положении она оказалась, издевается над ней.
– Не подходи! – выкрикнула она с истеричными нотками в голосе.
– Ну чего ты упрямишься? Даже чужим людям принято помощь оказывать… Будем считать, что мы не знакомы и ты, к примеру, немощная старушка, – бесхитростно излагал Колька, – а я, допустим, отзывчивый пионер, который решил тебе помочь… Давай чемоданы.
– Я тебе не старушка… Сам ты – дурак немощный! – зашлась от негодования Татьяна, утратив напрочь чувство юмора.
– Ну, хорошо, хорошо, не старушка, – поспешно согласился Колька, – а молодая красивая дамочка. А я – всего лишь вежливый прохожий, который желает тебе помочь…
– Глаза б мои тебя не видели! – выдохнула Татьяна и, собрав все силы, дернулась всем телом вперед и вылетела в коридор.
Сгибаясь под тяжестью чемоданов, она добежала до входной двери и выскочила наконец за порог Колькиной квартиры, которую ненавидела теперь до одури, хотя именно здесь у них с Колькой было немало хороших минут до той печальной поры, пока под влиянием самых разных сил, одной из которых являлась ее корыстолюбивая мать, так до конца и не примирившаяся с зятем, Татьяна не охладела к мужу и не задумалась о лучшей для себя доле.
На лестничной площадке у лифта Татьяну поджидал коренастый мужчина в очках, на вид старше Кольки лет на пять-семь, солидный, с гладким лицом, одетый в модный заграничный плащ черного цвета. Татьяна бросила возле него чемоданы и уцепилась за его спасительный локоть, чтобы не упасть, так как ноги у нее подкашивались от волнения. Мужчина, не сказав ни слова, нажал кнопку вызова лифта. Колька, сунув руки в карманы брюк и не скрывая своего интереса, откровенно-вызывающе наблюдал в приоткрытую дверь, как они в полном молчании ожидали прихода кабины, каждый по-разному, исходя из своего внутреннего состояния, вслушиваясь в ровное гудение мотора: Татьяна покачивалась от нетерпения, как дерево на ветру, – так ей хотелось поскорее нырнуть в кабину и умчаться вниз; мужчина, наоборот, был абсолютно спокоен и казался неподвижным, будто манекен. Но вот он шевельнулся, неспешно повернул голову и посмотрел на Кольку. Посмотрел пристально, но не нагло, в глазах его светился интерес. Видимо, его мучило любопытство: каков же он, бывший муж? Бывший муж оказался худым, не очень высоким, взъерошенным парнем, с выражением простодушной серьезности на лице. «В общем, ничего особенного. Скорее даже простоват для такой яркой женщины, как Татьяна», – подумал мужчина.
Колька, в свою очередь, тоже внимательно разглядывал своего соперника. «Наверное, какой-нибудь ученый, – подумал он. – Глаза умные… и сам представительный. Доктор каких-нибудь наук – не иначе. И на Чехова похож, хоть и без бороды… Нашла, стерва!» И Колька чуть не заплакал от обиды, но сдержался. И дверь свою из вежливости не спешил закрывать, пока новые супруги не погрузились в лифт. Когда же те, наконец, скрылись в шахте, Колька остервенело хлопнул дверью и заметался по квартире, как подраненный селезень, не зная, что теперь делать и куда себя девать… Жена ушла, сына еще вчера отвезли к теще, желая уберечь его от лишних впечатлений. Теперь он один, совсем один…
Колька прибежал на кухню, попробовал найти себе там занятие, чтобы как-то отвлечься и не думать о бывшей жене, которую все еще любил, несмотря ни на что, но так ничего и не придумал: только переставил кастрюлю и чайник на плите – поменял их местами. Затем вернулся в комнату, взял газету с кроссвордом и тут же отбросил ее в сторону. Снял с полки первую попавшуюся книгу, начал было читать, но через минуту книга выскользнула у него из рук и тяжело шлепнулась на пол. Колька перешагнул через нее, резко метнулся к окну, дернул на себя раму и высунулся по пояс – захотелось еще раз взглянуть на Татьяну, захотелось увидеть, как бывшая жена будет садиться в машину, красивая, надменная и уже далекая, и посмотрит ли она наверх, на их окно, как это бывало раньше, когда Татьяна куда-либо уезжала… Но, увы, черная «Волга» уже развернулась и выехала со двора, увозя новых супругов навстречу тихим семейным радостям.
Кольку охватило отчаяние. Он забился в угол. Сидел неподвижно на полу, втянув голову в плечи, обхватив колени руками и глядя невидящим взором в одну точку.
Так прошло часа два или три. Тихий осенний день, теплый и ясный, медленно догорал. Пятна закатного солнца, бесформенными цветами лепившиеся на потолке, постепенно угасли. Стало смеркаться. Казалось, что вместе с сумерками в окно вползает вечерний холод, растекается по комнате, покачивая на своей зыбкой волне разбросанные Татьяной вещи на тахте, опрокинутый навзничь стул, старую расхристанную куклу, лежащую ничком у плинтуса… Холод подполз к Кольке, коснулся кончиков его пальцев и пронзил его, подобно электрическому току, до самого сердца. И Колька решил повеситься. Решил просто, буднично, как если бы надумал побриться или вскипятить чайник.
Он поднялся с пола и пошел искать веревку. Поиски длились долго – ничего подходящего ему не попадалось. Наконец в ванной комнате он обнаружил то, что требовалось. В тазу на стиральной машине лежала длинная бельевая веревка, которая, если ее сложить вдвое, вполне могла бы подойти. Колька повертел веревку в руках, подергал ее, пробуя на прочность, – в самый раз! Смущало только одно обстоятельство: вся веревка была увешана разноцветными пластмассовыми прищепками для белья, и висеть среди этой мишуры казалось Кольке малопристойным (вроде как на наряженной елке среди игрушек), а то, что прищепки можно просто-напросто отцепить, несчастному и в голову не пришло. С минуту Колька соображал, как быть, затем махнул рукой: ладно, пусть будет такая, лишь бы держала! Определившись с веревкой, он стал искать место, где ее можно было закрепить. Самым подходящим местом для этой цели оказалась прихожая, где он в свое время пристроил на высоте вытянутых рук кусок водопроводной трубы, которую использовал в качестве турника во время утренних занятий физкультурой. Особой популярностью эта труба пользовалась у гостей, которые, пропустив рюмку-другую, выползали в прихожую на перекур и, увидев ее, непременно висли на ней и начинали подтягиваться, краснея лицом, – кто больше? – смачно крякали и подзадоривали друг друга.
Колька сделал петлю. Залез на табурет, привязал свободный конец веревки к трубе. И накинул петлю на шею… «Как все просто, – подумал он, – и ничуть не страшно. Сочиняют люди, когда говорят, что трудно переступить эту грань, отделяющую жизнь от не жизни. Врут! Стоит только спрыгнуть с табурета – и сразу все это обилие красок, звуков, запахов исчезнет, словно их и не было вовсе, а там… там уже ничего не будет… Или будет? По крайней мере, есть прекрасная возможность проверить: есть Бог или нет Его? Если есть, то Он непременно себя обнаружит… Что же я скажу Ему в таком случае? Что поведаю о себе? Как объясню те или иные поступки? Да нет, если Он есть, то Он все, конечно, знает, и не надо Ему ничего рассказывать, не надо ничего объяснять…»
Неожиданный звонок в дверь прервал ход Колькиных мыслей. «Кого еще там черти носят? – с неудовольствием подумал он. – Отвлекают, понимаешь, человека от серьезного дела… А вдруг это вернулась Татьяна – забыла что-нибудь? – Сердце его забилось тревожно и радостно и так громко, словно скакал по столу шарик для пинг-понга. Но он тут же остудил себя: – Да нет, сегодня она не придет, даже если что и забыла… В лучшем случае через неделю появится, не раньше. Откроет дверь, глядь: а тут я болтаюсь, и уже синий, как баклажан…» Колька явственно представил эту малоприятную картину, и его переполнила пронзительная жалость к самому себе. Звонок повторился – и раз, и два, и три. Звонивший был настроен весьма решительно. Колька вынул голову из петли, спрыгнул на пол и пошел открывать дверь.
Это оказалась соседка, немолодая, но еще крепкая женщина, с красным одутловатым лицом. На животе у нее висел старый застиранный передник, тяжелые, мясистые, голые по локоть руки были испачканы в муке, и она держала их на весу, растопырив пухлые пальцы.
– Половина твоя дома? – спросила она, заглядывая через Колькино плечо в квартиру.
– Отсутствует.
– А когда будет?
– Не скоро… – сухо ответил Колька. Ему не хотелось в такой, можно сказать, ответственный момент, когда он готовился расстаться с жизнью, посвящать в свои дела посторонних.
– У нее нынче культурная программа. В театр с подругой пошла, – соврал он, – посмотреть, кто во что одет.
– Ну тогда ты выручай, – подалась к нему соседка. – Стала, понимаешь, тесто для пирогов делать, да смотрю, муки мало… У вас есть мука? Мне бы стакана три всего…
– Где-то была… – вздохнул Колька и после короткого раздумья сказал: – Пошли поглядим.
Он повернулся и направился на кухню, соседка, прикрыв дверь, двинулась за ним.
– Что это у тебя тут? – спросила она, увидев свисавшую с трубы веревку.
– Да вот, повеситься решил… – ответил рассеянно Колька, не думая о том, что такие вещи обычно держат в секрете.
Соседка засмеялась. Смех у нее был глухой, похожий на кашель.
– Шутник ты, Коля! – Она даже отдаленно не могла предположить, что эта мысль может серьезно прийти ему в голову. – Таньку, что ли, решил разыграть? Она входит, а ты вроде как повешенный? Не-е, не поверит… И потом, грех так шутить! Все у тебя в порядке: руки-ноги есть, здоров, жена в красоте пребывает, пацан растет… Вон, у Коростелевых Петька давеча после Афганистана из госпиталя вернулся – одной руки нет, ступни нет, голова прострелена… И Клавка, вертихвостка, невеста евойная, его не дождалась. Так он и то духу не теряет, скачет на костыле с утра до вечера, как кузнечик… А ты совсем, милок, на страдальца не похож. Верно, опять что-нибудь для физкультуры сочинил?
Колька вздохнул.
– Проницательная ты, Нин-Иванна, просто как Штирлиц!
Соседка опять засмеялась:
– Сережка мой, тот тоже, по твоему примеру, турник в доме соорудил. Висит по утрам в коридоре, болтает пятками – только ходить мешает… Но я ничего, не обижаюсь. По мне – пусть лучше в гимнастике надрывается да музыку свою мутотовую слушает, чем будет во дворе глаза бормотухой заливать среди алкашни никчемной. Бормотуха, она ведь что? Она, говорят, извилины в башке склеивает, да, да! Было у тебя, к примеру, от рождения несколько штук, а от этой гадости они все склеились и получилась одна. Одна-единственная! А с одной-то извилиной жить туго, сам понимаешь. Любой последний хмырь запросто тебя вокруг пальца обведет!
Рассеянно слушая болтовню соседки, Колька рылся в подвесных шкафчиках, переходя от одного к другому, где Татьяна держала всевозможные банки с припасами. Наконец он нашел то, что искал, – красную в белый горошек металлическую банку с надписью «Мука». Судя по тяжести, мука в банке была. Не заглядывая внутрь, Колька протянул банку соседке:
– На, Нин-Иванна, пользуйся.
– Дай газету – отсыплю, – попросила та.
Колька махнул рукой:
– Забирай все!
– А вы как же? Вдруг потребуется?
– Не потребуется… Определенно могу тебе сказать, что сегодня в этом доме ни пироги, ни оладьи печь не будут. – И Колька натянуто улыбнулся.
Соседка была счастлива:
– Вот спасибо, Коля, выручил. Вот спасибо…
А Колька тем временем, осененный неожиданной идеей, снял с полки две банки болгарского компота и тоже протянул их соседке:
– И это забирай.
– Зачем?
– Пригодится!
Он метнулся к холодильнику, распахнул дверцу, извлек оттуда батон сырокопченой колбасы, пакет молока, брикет рыбного филе, банку майонеза, все это сложил на столе и торопливо завернул в газету.
– И это тебе. – Он сунул сверток соседке.
– Да ты что! – испуганно попятилась та.
– Бери, бери! – почти весело сказал Колька. Ему нравилось быть щедрым. – У тебя вон сколько ртов! А мне теперь без надобности… Уезжаю я сегодня. – И он легонько подтолкнул женщину к выходу, желая поскорее остаться один и вновь приняться за прерванное дело.
Соседка, оглушенная свалившимся на нее маленьким, но все же счастьем, растерянно семенила по коридору в сторону двери, прижимая к груди Колькины дары, и смущенно бормотала:
– Как же так, Коля, как же так?
– Все! – прервал ее излияния Колька. – Привет! – И распахнул входную дверь. – Иди, мне еще вещи нужно собрать…
Задержавшись в дверях, соседка медлила, не уходила. Благодарную женщину распирало от чувств, и она решила в ответ на Колькину щедрость сообщить ему нечто важное, что знала и о чем раньше в силу щекотливости ситуации умалчивала.
– Понимаешь, Коля, не хотела я тебе говорить… Но обидно мне, что ты в дурачках пребываешь! – Соседка озабоченно вздохнула, понизила голос: – В общем, видела я тут намедни Татьяну твою… В центре это было. На Пушкинской. И что мне сразу не понравилось: шла она под ручку с каким-то мужиком. Он видный такой, в очках, гладкий… И смотрели они друг на дружку самым что ни на есть влюбленным образом… И все время смеялись – уж так им весело было, как в цирке! И скажу тебе честно, очень я огорчилась. Я ведь об Татьяне всегда с уважением, а тут…
– Да бог с ними, пусть развлекаются, – бесстрастно проговорил Колька. – Мне все равно.
– Да ты что! – Соседка от удивления чуть не выронила подарки из рук. И совсем перешла на шепот, словно боясь, что их могут подслушать: – Мой бы, случись такое, голову б оторвал и мне, и ему.
– Хорошо, Нин-Иванна, я подумаю… Может, бензином их оболью, а потом спичкой – чирк!..
Когда озадаченная соседка, наконец, ушла, тот вернулся к веревке.
Но теперь желание лезть в петлю пропало… Как Колька ни настраивался – не получалось. А тут еще, как назло, в воображении возник Павлик – светловолосый, сосредоточенный, с темными бусинками глаз, с оттопыренной нижней губой. Кольке вспомнилось лицо сына, каким он застал его однажды, придя с работы: Павлик, расположившись на полу, разламывал на части новенький игрушечный автомобиль, морща свой детский лобик и пытаясь понять своим светлым, не замутненным взрослыми мерзостями умишком, из чего этот самый автомобиль состоит. «Вот ведь, – умилился Колька, думая о сыне, – всего лишь четыре года как на свете существует, а так прикипел к сердцу, что и не оторвешь, словно был в этом сердце всю прошлую жизнь! Как же Павлуха без меня жить будет? Ну, поплачет немного, поплачет, а потом успокоится. А вырастет – и вовсе забудет. Выветрит время образ отца из его памяти насовсем, поскольку он сейчас еще кроха и мало что запомнить мог…» Кольке стало грустно от этих мыслей. А тут он представил, как отреагирует на его смерть незабвенная Анастасия Львовна («О, – скажет она, повеселев глазами, – отпелся неудачник!»), и умирать ему вовсе расхотелось. Нет уж, дудки! Ей он не доставит такого удовольствия! Ей бы, конечно, хотелось: ориведерчи, Коля (то есть «пока»), а он ей вместо этого: бонжур, Анастасия Львовна (то есть «фиг вам, не спешите, любезная, – мы еще побегаем по этой грешной и прекрасной земле»)…
Вспоминая сейчас события девятимесячной давности, Колька удовлетворенно хмыкнул, отметив, что сумел тогда совладать с собой и не поддался минутной слабости. Затем поругал себя за малодушие: бывают же дураки на свете! Нашел из-за чего в петлю лезть!
Вытеревшись насухо полотенцем, он вышел в прихожую. Подпрыгнул, ухватился за трубу, за ту самую. Подтянулся пять раз и бросил. Сегодня занятия физкультурой не были в охотку, думы о прошлом держали его, мешали расслабиться.
Человека, к которому ушла Татьяна, звали Никита Игнатьевич Лонжуков. Он не был ученым, как решил Колька при первой встрече, хотя и окончил в свое время биофак Московского университета. Три года после окончания вуза Лонжуков прозябал в одном из НИИ на должности младшего научного сотрудника, и каждый раз при получении аванса или получки из груди его вырывался такой звук, какой обычно издает сконфуженная девица, когда ее застают не вполне одетой, ибо эти аванс и получка, если их сложить вместе, составляли настолько скромную сумму, что получавший ее Лонжуков остро чувствовал себя неполноценным человеком, которому нет места в обществе, где процветают красивые, холеные женщины, которых надо хорошо одевать, вкусно кормить, возить на импортной «тачке» и дарить им всевозможные дорогостоящие безделушки, от коих у последних светятся глаза. Лонжукова угнетало его существование, при котором он ощущал себя в этой жизни кем-то наподобие лакея, сидящего сзади на рессорах барской кареты. Душа его, тоскующая по роскоши, жаждала сумм более значительных, чем те, что он получал, и Лонжуков решил переменить профессию. С помощью влиятельного родственника он устроился в мастерскую по ремонту легковых автомобилей на должность старшего механика, сменив, таким образом, надоевшие ему пробирки, чашки Петри и фанерный закуток с микроскопом на отдельный, пусть небольшой, но все же кабинет, с добротным письменным столом, селектором, двумя телефонами и получив при этом возможность распоряжаться по собственному усмотрению дефицитными запчастями. В новой для себя сфере общественных отношений Лонжуков освоился быстро. Всего лишь два месяца ушло на адаптацию, после чего новоиспеченный старший механик стал процветать. Теперь он хорошо и модно одевался, ездил на «Жигулях», мог бы купить и иномарку, но не хотел: зачем привлекать к себе внимание некоторых не в меру любопытных сограждан, состоящих на службе в небезызвестных органах? Лонжуков был улыбчив, обаятелен, работал тонко и чисто. Получая мзду за свои услуги, он одаривал клиента таким ясным прозрачно-синим взглядом, что тот уходил от Лонжукова в полном убеждении, что более приятного и милого человека нет в природе; кроме того, старший механик умел внушить владельцу автомобиля, что с того взяли за ремонт по-божески и что в любом другом месте наверняка содрали б раза в два дороже (как через кассу, так и сверх того). И еще одним завидным качеством обладал Лонжуков: он умел вовремя почувствовать опасность.
Как только появлялся человек, способный принести несчастье (сотрудник ОБХСС, например), у старшего механика всякий раз начинало покалывать под ложечкой, словно включался счетчик Гейгера, регистрирующий наличие повышенной радиации. Всех подозрительных Лонжуков чувствовал за версту. Тот еще только подъезжает на машине к конторе или идет через двор к мастерским, невинно попыхивая сигаретой, а у Лонжукова уже иголка гуляет во внутренностях. Ну и старший механик, конечно, старался вовсю, чтобы такого «клиента» обслужили, как положено, а за ремонт взяли строго по прейскуранту и ни копейки больше. После проверки, которая всякий раз завершалась благополучно, старший механик обрушивал на явившегося со столь коварной миссией целый поток обволакивающих цветистых фраз, почерпнутых, как правило, из популярных брошюр и газет, касаясь в непринужденной беседе самых разных вещей, будь то космические исследования или изучение земной коры, взаимоотношения полов или новый роман известного американского писателя, напечатанный в журнале «Иностранная литература», что в глазах собеседника должно было возвышать Лонжукова и являться свидетельством того, что он, Лонжуков, – человек образованный, незаурядный, а здесь, в мастерской, оказался случайно, словно был брошен в прорыв на улучшение автомобильного сервиса, наподобие комсомольцев, посланных осваивать целину, – и тем самым окончательно располагал к себе умиленного служителя законности. Укрепив свое материальное положение и почувствовав себя человеком, твердо стоящим на ногах, Лонжуков стал подумывать о будущем. Сидеть в автомастерской до седых волос он не собирался. Ему нужен был оперативный простор, другие, более широкие возможности. Наконец случай представился, и Лонжуков, теперь уже с помощью собственных связей и обаяния, устроился на высокую должность в Главное аптечное управление. О, счастье! Отныне в его руках было все или почти все. Перед ним открылись великолепные возможности, чтобы стричь этот мир, словно длинношерстную овцу! Посудите сами: все люди так или иначе болеют, каждому приходится лечиться, все хотят иметь дефицитные лекарства, лучше импортные, а где их достать? Конечно, у Лонжукова. Когда вас прихватит, вы готовы последнюю рубашку с себя снять, лишь бы заполучить необходимый препарат. Но Лонжуков не крохобор, натура у него широкая: зачем же последнюю рубашку? – деньги деньгами, но можно и по-другому: я – вам, вы – мне. Помоги, как говорится, ближнему своему, и он тебе воздаст! Только узнай сперва, чем он воздать сможет?..
Одним словом, этот примечательный человек и стал теперь мужем Татьяны. В отличие от Кольки, он мог ее хорошо обеспечить и освободить от многочисленных житейских забот, с которыми постоянно приходится иметь дело замужней женщине. Кроме того, Лонжуков всегда был элегантен, свеж, благоухающ, как изысканный парижанин (даже в те времена, когда трудился на ниве автосервиса), и, как уже говорилось, в совершенстве владел разговорным жанром, что в общении с женщинами, особенно молодыми, является мощным оружием, устоять перед которым дано немногим.
Ко всему сказанному следует добавить, что до встречи с Татьяной Лонжуков также успел познать «тихие радости» семейной жизни. Некоторое время он был женат на молодой актрисе, которая служила в Театре оперетты и играла там маленькие роли. Актриса была неисправимой транжирой: скудный семейный бюджет (Лонжуков тогда еще прозябал в НИИ) буквально испарялся на глазах, как от жаркого дыхания огнедышащего дракона; жена любила повеселиться, обожала всякие сборища, бесконечные вечеринки, ночные поездки в гости, полные веселой неразберихи, когда в одно такси набивалось по шесть-семь человек и тут же прямо из горлышка распивали шампанское, передавая липкую бутылку из рук в руки; но каждый раз впадала в уныние или злилась, когда нужно было заниматься стиркой, готовить еду или идти в магазин за продуктами. «Я вам не гончая, чтобы мчаться по жизни, выпучив глаза! – капризно морщилась она. – Я актриса! А театр, как известно, – храм, где на меня смотрят зрители, пришедшие на встречу с искусством! И я не имею права появляться перед ними, словно взмыленная, падающая от усталости лошадь! Кажется, Хемингуэй сказал, что их пристреливают, загнанных лошадей?! Вы посмотрите на Мирей Матье или Лайзу Минелли! Разве они носятся по городу с продуктовыми сумками, высунув язык?!» Лонжуков понуро соглашался. Он не был гурманом, но и ему в конце концов надоел аскетический рацион, на который его посадила жена, державшая равнение на зарубежных эстрадных див, и который состоял по преимуществу из подгоревшей прогорклой яичницы по утрам и уныло-серых безвкусных сосисок из театрального буфета на ужин. И когда он больше не смог терпеть, они расстались. Расстались тихо, без скандалов и взаимных оскорблений. Актриса забрала свои наряды, трехлетнюю дочь, прелестное белокурое дитя, и ушла к известному артисту, который был намного старше нее, имел звание народного и играл роли героев-любовников в том же театре. «Бедный Эдвин! – с грустью думал о нем Лонжуков, вспоминая благородный профиль любимца публики. – Он и не ведает, что ему уготована участь голодного студента. Сможет ли он после этого резво порхать вокруг Сильвы и петь: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?»»
Следует сказать, что Лонжуков не любил вспоминать о своем первом браке. Да и Татьяна, в свою очередь, не особенно интересовалась семейным прошлым нового мужа. Его бывшую жену она видела всего лишь раз: как-то случайно встретились в ресторане Дома кино. Лонжуков их познакомил, несколько минут поговорили. Бывшая жена оказалась смазливой девицей с пухлыми в ямочках щечками – эдакая сдобная булочка на стройных ножках, изрекающая разные глупости и банальности.
Больше всего новому семейному союзу радовалась Анастасия Львовна, которая наконец добилась своего, избавив любимую дочь («она же у меня просто куколка!») от унылого, бесперспективного существования со «сборщиком» – так она называла Кольку (называла, вероятно, потому, что тот работал на сборочном конвейере). И действительно, что он мог предложить Татьяне, кроме своей любви? Ничего. А вот Лонжуков… Лонжуков, – Анастасия Львовна была уверена в этом, – тот не остановится на достигнутом и, словно бесстрашный альпинист, будет штурмовать новые вершины благополучия, уверенно поглядывая на мир сквозь стекла своих фирменных очков, которые он носил не по причине плохого зрения, а для того, чтобы иметь внушительный вид и соответствовать нынешней эпохе технократов и деловых людей…
Колька побрился, причесал торчащие в разные стороны волосы. Разглядывая себя в зеркале, отметил, что заметно осунулся за последнее время – и так был худой, а тут совсем усох, как вобла. Правда, глаза у него при этом горели, полыхали веселым огнем, свидетельствуя о запасе духовных сил и готовности противостоять ударам судьбы, – и это тоже отметил Колька и порадовался.
Он надел рубашку, заправил ее в джинсы и отправился на кухню готовить завтрак. В холодильнике сиротливо стояла начатая бутылка молока, в морозилке валялась полупустая пачка пельменей, на внутренней стороне дверцы в пластиковых гнездах белели три яйца. Колька повертел в руках пачку с пельменями, сунул ее обратно. Пельмени пойдут на вечер, решил он, а сейчас смастерим яичницу… Масла, правда, нет, но можно, в конце концов, и сварить. Сделать яйца всмятку – на английский манер! И верно, чем мы хуже этих самых лордов?!
Пока Колька варил яйца и заваривал чай, размышляя о нынешней своей жизни, о предстоящем отпуске, одна мысль не давала ему покоя: как перед отъездом повидаться с Павликом? Задача была не из легких, и вот почему. В течение многих месяцев ему упорно не давали встречаться с сыном. Сначала придумывались различные отговорки, потом Павлика стали просто увозить из дома в те дни, когда ожидался Колькин визит. Но Колька не винил в этом Татьяну. Он знал, какое большое давление оказывают на нее. Тут не всякий металл способен выдержать подобные нагрузки и не лопнуть, а что вы хотите от простого смертного, тем более женщины, не относящейся к породе самых крепких? Нет, Татьяну он не винил. Колька знал, что Татьяна может вспылить, бывает резкой, необъективной, но бессердечной он ее не считал. Первое время после развода все было нормально и встречаться с сыном ему не мешали, хотя особого энтузиазма его визиты, конечно, не вызывали. Каждую пятницу вечером он звонил Татьяне и сообщал, что в субботу утром придет за Павликом и они пойдут в цирк, или в кино на мультики, или просто погуляют в парке, одним словом, Колька заранее оговаривал с бывшей женой свою программу. Ровно в десять он появлялся у дверей лонжуковской квартиры, где теперь жили Татьяна с Павликом, и нажимал кнопку звонка. Вслед за этим открывалась дверь, и ему выводили мальчика – делали это или сама Татьяна, или ее теперешний муж (за умный, пронзительный взгляд сквозь стекла очков Колька прозвал его «микроскоп»), или в редких случаях сама Анастасия Львовна, выходившая, как правило, с брезгливой гримасой, словно от Кольки пахло хлоркой или еще чем-нибудь похуже, – и Колька уходил с сыном на несколько часов. Так продолжалось месяца два или три. Но потом, после этих встреч, Павлик стал задавать своим домашним слишком много вопросов, вносивших определенную нервозность в отношения и на которые не было прямых ответов, например: почему они с мамой живут отдельно от папы? Или: почему мама завела себе дядю Никиту, который, конечно, хороший дядя, но ничуть не лучше папы? И почему он, Павлик, должен встречаться с папой только раз в неделю, а не каждый день, как его сосед по дому Димка Клюев, за которым папа ежедневно заходит в детский сад и они вместе идут домой, крепко взявшись за руки и подробно обсуждая Димкины дела; за что Димке такое счастье? Непонятно! Ведь он хуже Павлика, потому что жадный и бьет слабых… От этих вопросов Лонжуков хмурился, Татьяна протяжно вздыхала и уходила в себя, а ее мать болезненно морщилась, словно ее ущипнули за сытый бок. И вот однажды Анастасия Львовна не выдержала и заявила решительно: «Хватит! Пора кончать эту лавочку! Так недолго из ребенка анархиста сделать!»
И с этого момента картина резко изменилась: начались всевозможные уловки, целью которых было сократить встречи ребенка с «непутевым отцом» до минимума, а еще лучше – свести их на нет. Теперь, когда Колька звонил по телефону, чтобы предупредить о своем визите, он, как правило, оставался ни с чем. Если трубку брал Лонжуков, то он обычно говорил, что Татьяны нет дома и когда она будет – неизвестно, а Павлик уже спит, так как набегался сегодня во дворе и очень устал; если к телефону подходила Татьяна, то Кольке сухо сообщалось, что Павлик простудился и лежит с температурой в постели и что в течение ближайших двух недель она его никуда не выпустит, а приходить и навещать его не следует, так как это нервирует Никиту, то есть Лонжукова, а он, бедный, слишком устает на своей работе (тоже мне, сталевар! – морщился Колька) и хочет отдохнуть, и так далее, и все в таком же духе; если, случалось, трубку снимала Анастасия Львовна, то она холодно цедила сквозь зубы, что на этот раз с прогулкой ничего не выйдет, так как Татьяна вместе с горячо любимым мужем уехала на неделю в Домбай покататься на лыжах, и по поводу Павлика у нее нет никаких инструкций, следовательно, он будет с бабушкой и они поедут на дачу, где красота и чистый воздух, не то что в городе, где всюду гарь, копоть и где всякий, кому не лень, вроде Кольки, загрязняет окружающую среду. Колька, стиснув зубы, молча выслушивал все это и покорялся своей участи. «Ну, хорошо, – думал он, – не могут же они вот так, до бесконечности, морочить голову им же самим, наверное, неудобно. Может быть, в следующий раз они не станут препятствовать и отпустят мальчика с ним». Но и в следующий раз, увы, все повторялось снова. Когда же Колька схитрил однажды и пришел без звонка, то Татьяна, открывшая ему, строго отчитала бывшего мужа и тут же захлопнула перед его носом дверь. Правда, сделала она это беззлобно, больше для проформы, нежели по велению души, но не сделать этого не могла, так как знала, что в недрах квартиры к ее словам прислушиваются Лонжуков и почитательница его многочисленных талантов – ее мать… У Кольки даже появился нездоровый интерес: какую еще причину придумают эти люди в следующий раз, чтобы помешать ему увидеться с мальчиком? А Колька тосковал по сыну, мучился, переживая разлуку с ним. Павлик снился ему по ночам. Он постоянно думал о нем и сам же этому удивлялся: неужели так можно?..
Короче говоря, Кольку водили за нос в течение двух или трех месяцев, пока наконец однажды, презрев все хитрости, Анастасия Львовна не заявила ему открыто: отныне, товарищ Ермолаев, никаких встреч больше не будет, потому как от них никакого проку, а только вред, мальчик после этих встреч нервничает, грубит старшим, хулиганит – видимо, сказывается дурное влияние папаши, – поэтому самое разумное в данной ситуации встречи отменить, по крайней мере, до лучших времен, пока мальчик не окрепнет нравственно и не сможет противостоять пагубному воздействию человека, с которым его мать, то бишь Татьяна, никогда не была счастлива. «Ну уж, это вы хватили, товарищ заведующая народным образованием, насчет счастья, не вам об этом судить, – потемнев лицом, ответил Колька, – а что касается Павлика, то, извините, он мой сын, плоть от плоти (у него даже нос мой!), и я имею право встречаться с ним хотя бы раз в неделю; далее: в нашей стране торжествующей демократии управу можно найти на кого угодно (даже на министра!), не то что там на какую-то тещу, поэтому, если вы не прекратите загонять меня в угол, как зайца, разговаривать будем в другом месте и по-другому». – «Ой, как страшно! – изрекла на другом конце провода Анастасия Львовна. – Почище нашествия Мамая… В общем, так, товарищ Ермолаев, отныне попрошу вас моей дочери не звонить и здесь, в ее доме, не появляться». И она, не дожидаясь ответа, повесила трубку. «Ну уж нет!» – не на шутку рассердился Колька и, считая разговор неоконченным, снова набрал Татьянин номер. На этот раз трубку не сняли. Мучаясь от бессильной ярости, он раз за разом крутил диск, но в ответ ему звучали длинные раздражающие гудки. Наконец Колька с остервенением бросил трубку.
После столь откровенного разговора с тещей, определившего позиции сторон, Колька в течение некоторого времени регулярно ездил к дому Татьяны, надеясь поймать ее и объясниться по поводу сына, но без успеха. Он заходил в подъезд, поднимался по лестнице, долго и настойчиво звонил в дверь. И каждый раз внимательно прислушивался. Но за дверью было тихо – ни шороха, ни вздоха. Кольке казалось, что если бы там пролетела муха, то он непременно бы ее услышал… «Не похоже, что затаились, – думал он, внимая тишине в квартире, и объяснял себе: – Видимо, укатили куда-нибудь на отдых. Нашли комфортабельный блиндаж и хотят отсидеться там, пока буря не утихнет… Ну, ничего, мы люди не гордые, мы подождем». Колька выходил из подъезда и всякий раз караулил во дворе до ночи, прохаживаясь взад и вперед мимо пустой в это время детской площадки, мимо голых деревьев, мимо оцепеневших, притулившихся друг к другу автомобилей. Была зима. Было очень холодно, мерзли руки, ноги. Колька снимал перчатки и согревал горячим дыханием окоченевшие пальцы. И пристукивал ногами, словно выплясывал одному ему известный танец. Когда совсем было невмоготу, он находил какую-нибудь ледышку и, пытаясь согреться, начинал гонять ее по двору, увлекался, входил в раж, не обращая внимания на недовольные взгляды прохожих, которые шарахались от него в разные стороны.
Однажды к Кольке подошел милиционер – видимо, не выдержала чья-то активная душа из местных и сообщила куда надо, что во дворе каждый вечер бродит какой-то странный тип и что-то высматривает: может, наводчик, а может, кто и похуже.
– Ты чего? – спросил милиционер, внимательно всматриваясь в Кольку. Это был молодой парень, Колькин ровесник, коренастый, с рыжими тонкими усиками, краснощекий от мороза.
– Чего? – не понял Колька, отбивая ногой ледышку, словно подавал угловой.
– Ты валенком-то не прикидывайся, – сказал милиционер строго и для убедительности положил руку на кобуру с пистолетом. – Во дворе чего делаешь, спрашиваю?
– Гуляю. Воздухом дышу, – мирно отозвался Колька.
– А почему именно здесь?
– Нравится.
– Третью неделю подряд?
– Ну и что? Здесь не запретная зона – не огорожено. Ходи кто хошь!
– А вот грубить – нехорошо!
– Да кто ж грубит-то?
– И туману напускать бесполезно, – продолжал строго милиционер, пальцы у него мерзли, но он не спешил снимать их с кобуры. – Потому как я всякую подозрительную личность и в тумане различить сумею, при темных очках, понял? Так что в прятки играть не будем. Предъяви документ!
У Кольки, по счастливой случайности, оказался с собой военный билет – он брал его в тот день на работу, чтобы показать в отделе кадров, где уточняли кой-какие данные. Пока Колька снимал перчатки и рылся в карманах, отыскивая его, милиционер стоял напряженный, как струна, готовый отразить любой выпад, если таковой последует. Наконец билет был найден, и Колька протянул его милиционеру. Тот долго изучал документ в свете фонаря, под которым они стояли, изредка косо поглядывая на его владельца.
– Ермолаев Николай Степанович… Год рождения… Выдан Баумановским райвоенкоматом…
– Точно, – подтвердил Колька. И когда милиционер закончил изучение красной книжечки и закрыл ее, спросил: – Все? Можно идти?
– Не торопись, – сказал милиционер и убрал военный билет к себе в карман.
На Кольку, надо сказать, это не произвело никакого впечатления. Милиционер же ожидал от него другой реакции. Он был уверен, что Колька возмутится, станет негодовать, будет требовать военный билет обратно, но тот безразлично молчал. Это молчание блюститель порядка истолковал весьма своеобычным образом и сказал скорбно:
– Значит, поддельный…
– Что «поддельный»? – не понял Колька.
– Документ твой.
– Сам ты поддельный! – разозлился Колька.
– А вот грубить нехорошо, – спокойно заметил милиционер. – К тому же я при исполнении… наказуемо вдвойне.
– Эх! – махнул рукой Колька. Он никак не мог понять: то ли милиционер шутит, то ли он попросту идиот. Блюститель порядка помолчал немного.
– Так что же все-таки ты здесь делаешь? – спросил он.
– Жену жду… бывшую, – признался Колька. – И ее мужа.
– Зачем?
– Поговорить надо.
Милиционер опять истолковал Колькины слова неожиданным образом.
– Драку хочешь устроить? – поинтересовался он. И вдруг спросил участливо: – Давно развелись?
– С полгода…
– Симпатичная?
Колька со вздохом кивнул.
– Значит, не любила, – высказал предположение милиционер.
– Да нет, почему же, любила. До сих пор понять не могу: за что же мне такой подарок от судьбы получился – ее любовь?.. Я человек неприметный, а она… она, прямо как из итальянского кино!.. Бывало, лежу ночью, смотрю на нее, спящую, и думаю: неужели эта красивая девушка моя жена?.. А теперь как представлю, что рядом с ней этот… «микроскоп»… кричать хочется от обиды!
– «Микроскоп» – это кто? Муж ее, что ли?
– Он самый.
– Фамилия у него больно странная…
– Да нет, это не фамилия, это я его так называю… В очках он ходит и вроде умный с виду. А фамилия его Лонжуков…
Помолчали. Посмотрели друг на друга. Оба зябко повели плечами.
– Да-а, – вздохнул милиционер и с сочувствием посмотрел на Кольку: – Я тебе так скажу: если разлюбила – труба! Тут ничто не поможет, хоть на голове стой!.. И бить его бессмысленно, раз она его любит. Ну, ударишь ты его, и что? Она тебя за это только ненавидеть станет…
– Да нет, не собираюсь я его бить, – повел головой Колька, а сам подумал: случись драка, скорее Лонжуков ему шею намнет, чем он ему, он же крепкий, как лось, этот Лонжуков.
– Ладно, ладно… – не поверил Кольке милиционер. – По себе знаю… Была у меня тоже история… Можно сказать, гвоздем по сердцу! – Милиционер сунул руки в карманы черного дубленого полушубка, печально усмехнулся. Глаза его затуманились, выражение лица стало размягченным и каким-то детским. – Познакомили нас в кино, перед сеансом. Подружка приятеля. Смотрю: стоит передо мной чудо природы с улыбкой ангела! Я в нее сразу влюбился. Это как ожог, понимаешь, – раз, и все! Я когда раньше в книжках про такое читал, не верил, думал: так не бывает – сочиняют писатели. А тут вот сам… с первого взгляда.
И вдруг, расчувствовавшись и утратив всю свою казенную официальность, милиционер поведал Кольке историю своей несчастной любви, любви, которая, видимо, все еще сидела в нем, лизала языками обжигающего пламени его молодое сердце, не давая ему излечиться от недуга, хотя и прошло уже несколько лет. И вот что услышал Колька.
Она, бывшая спортсменка-разрядница, пловчиха, работала в педагогическом техникуме преподавателем физкультуры. У нее были светло-каштановые, коротко стриженные волосы, пухлые губы и большие, всегда округленные глаза, словно она постоянно чему-нибудь удивлялась – это в равной мере могло относиться и к грубому ответу учащегося, и к темному грозовому небу, свинцовой тяжестью придавившему город, и к букетику ландышей, подаренному ей поклонником, и к перевернутой неизвестно кем мусорной урне, лежащей на тротуаре и портящей весь вид, и к неожиданно возникшему на педсовете спору, посвященному сексу в среде подростков, и, наконец, к решительному поцелую нашего милиционера, когда тот однажды, не выдержав, прижал ее к себе в лифте, уносившем их на седьмой этаж в доме, где она жила. Милиционер долго перед этим ее обхаживал, не решаясь признаться в своих чувствах, но когда все-таки отважился и сжал ее в своих объятиях, в том самом лифте, она не сопротивлялась, а вроде даже ждала этого, хотя и округлила, как обычно, свои удивленные глаза. От волос ее исходил нежный запах персикового шампуня, губы были, как сладкие ягоды, и наш милиционер совсем потерял голову и готов был прямо здесь же, в лифте, овладеть ею, но… тут кабина остановилась, открылась дверь, и за дверью возникла дама средних лет, хорошо одетая, с воинственно приподнятым бюстом общественницы. Она стояла на площадке, не спеша войти в лифт, и смотрела на раскрасневшихся молодых людей с явно выраженным циничным любопытством, отчего у милиционера, который по натуре был человеком стеснительным, тут же вспотела под пиджаком спина и пропало всякое желание экспериментировать на почве любви в отсутствие подходящей для этого обстановки. И тем не менее с той памятной минуты в лифте, когда милиционер решился на столь бурное проявление чувств, физкультурница отдала ему свое отзывчивое сердце. Теперь они встречались каждый вечер. Ходили в кино, иногда в театр (если удавалось достать билеты на нашумевший спектакль), ездили в Лужники на хоккей (милиционер был заядлым болельщиком, и ей тоже нравилась эта игра сильных и мужественных мужчин); если вечером матери физкультурницы не было дома, влюбленные ложились в постель и осыпали друг друга нежными ласками, забыв обо всем на свете. Объятия были столь горячи, а время летело так быстро, что всякий раз его не хватало, влюбленные тянули до последнего, когда вот-вот должна была явиться мать, и тогда они вскакивали, торопливо одевались, поспешно прибирали в комнате, причем больше всего при этом суетился милиционер, человек, как было сказано, стеснительный, а она, наблюдая за тем, как он нервничает, всегда смеялась, негромко, но весело и в то же время как-то удивленно – смех у нее был замечательный… Однажды мать пришла раньше обычного, и он, красный от смущения, нырнул в ванную комнату и долго сидел там, оттягивая свой выход, – сначала разглаживал ладонью рубашку на груди, она казалась ему недостаточно отутюженной, потом так же мучительно долго водил расческой по голове, в который раз приглаживая свои давно уже причесанные волосы. Пребывание милиционера в ванной настолько затянулось, что его подруга была вынуждена постучать в дверь и спросить: уж не уснул ли он там? И только тогда милиционер вышел и, опережая неприязненный взгляд матери, сказал ей глухим, осипшим от волнения голосом, что намерен сделать предложение ее дочери. И как она, мать, на это посмотрит. Мать, вернувшаяся с тяжелого дежурства в больнице, где она работала медсестрой, безразлично пожала плечами и, сказав: «А что мне смотреть? Пусть сама решает», – ушла на кухню, устало шаркая ногами в шлепанцах. Дочь же, впервые, как и мать, услышавшая о столь решительных намерениях своего возлюбленного, приблизилась к милиционеру, покрывшемуся вследствие серьезности момента обильным потом, и сказала, округлив свои удивленные глаза, что о женитьбе говорить пока рано, надо подождать, ведь они еще слишком мало знают друг друга, а семейная жизнь – дело ответственное: как-никак не на месяц человека выбираешь, а на долгие годы! Слова физкультурницы огорчили милиционера, но не настолько, чтобы лишить его покоя и сна. «Не надо суетиться, – рассудил он, – главное – она меня любит. Пройдет немного времени, и все образуется, следует только подождать». И он решил ждать.
Они продолжали встречаться. Бывшая пловчиха по-прежнему была ласкова с ним. Сжимая ее в объятиях, милиционер терял рассудок, ему казалось, что он растворяется в воздухе, в голове его плыл звон, а душа уносилась к звездам, и для этого не требовалось ни космического аппарата, начиненного совершенной техникой, ни ракетного топлива… Прошла весна, затем лето, осень. И все было бы хорошо, но вот в начале зимы в педагогическом техникуме, где она работала, появился новый преподаватель физики. Это был худой мужчина в очках, лет тридцати, со светлыми вьющимися волосами и неизменной скептической усмешкой на губах. Выражение его лица говорило, что ему известно нечто такое, чего не знает никто на свете… Однажды, возвращаясь от больного приятеля, которого он ходил проведать, милиционер неожиданно встретил на улице свою любимую в обществе этого самого «физика». Они шли, взявшись за руки, что-то весело обсуждая. Причем физкультурница в это мгновение была так естественна, так хороша и так светилась от счастья, что у милиционера просто сердце сжалось от ревности и обиды. Увидев его, бывшая пловчиха слегка смутилась, округлив, как обычно, свои удивленные глаза, но тут же овладела собой и сказала как ни в чем не бывало: «Познакомьтесь». «Физик» протянул руку в перчатке из серой кожи и пожал скованную от растерянности кисть милиционера. «Это мой приятель», – представила милиционера физкультурница.
– Очень приятно, – кивнул «физик» с обычной своей скептической усмешкой, разглядывая милиционера и форму на нем. – А я было подумал, что нас хотят забрать в отделение.
– А что, уже есть опыт? – в ответ на эту плоскую шутку спросил милиционер.
Глаза у «физика» стали стеклянными, и он сразу заскучал. Чтобы избежать возможного скандала, физкультурница подхватила «физика» под руку и сказала милиционеру:
– Ты извини, мы торопимся.
И они ушли, оставив милиционера в полной растерянности. Был чудесный солнечный день, радостно хрустел снег под ногами, алмазным блеском сверкали сосульки. Милиционер стоял посреди тротуара как вкопанный, раздавленный вероломством своей подруги, не в силах пошевелиться. Ему казалось, мир рушится… Он даже услышал грохот падающих камней, треск ломающихся балок, звон бьющегося стекла и зажмурился, чтобы ничего этого не видеть. Очнулся он только тогда, когда его тронули за локоть и спросили, как пройти на Неглинную улицу. Это оказался какой-то приезжий. Милиционер ответил ему что-то нечленораздельное и, пошатываясь на ватных ногах, пошел вниз по Кузнецкому в сторону Петровки… Весь день после этого он бесцельно бродил по улицам, подавляя в себе желание набрать номер телефона физкультурницы и спросить ее, в чем дело. «Нет, нет, – убеждал он себя, – это глупо, это пошло – звонить и требовать объяснений… Но как же так? – вслед за этим недоумевал он. – Еще два дня назад она обнимала меня и шептала всякие нежные слова… Неужели она лицемерила? Как это мерзко!..» Наконец поздно вечером, устав с собой бороться, он снял трубку и набрал ее номер. Услышав ее голос, он коротко, без предисловия, спросил: «Что происходит?» – «Это ты?» – в ответ сказала она. Он молчал. Она тоже некоторое время молчала. Потом сообщила своим мелодичным голосом: «Ты знаешь, он интересный человек… Пишет рассказы, играет на гитаре. А как он поет! Ты бы слышал, как он поет!..»
«Зачем она все это мне говорит?» – подумал милиционер и обреченно спросил:
– А как же я?..
– Ты? – Она опять замолчала. – Не знаю… Мне было хорошо с тобой… Но теперь мы должны расстаться.
– Но почему?! – воскликнул милиционер в отчаянии. – Почему?! Я так не могу!..
– Мне тоже тяжело, – бесцветным голосом ответила физкультурница. – Я к тебе уже привыкла… но…
– Я его убью, – вдруг выдавил милиционер, убитый горем.
– Тебе нельзя, – сказала она невозмутимо, – ты милиционер. Ты, наоборот, должен пресекать любое проявление насилия… Тебе нельзя.
Затем она пожелала ему спокойной ночи и повесила трубку. Милиционер звонил ей каждый день в течение месяца. Когда не было дежурства, ждал ее после занятий у техникума. И если она выходила одна, бросался ей навстречу, умоляя возобновить прерванные отношения. Он обещал, что тоже станет писать рассказы, научится играть на гитаре и петь, если надо, пойдет в вуз учить физику, пусть только она вернется и все будет по-старому. Физкультурница смотрела на него удивленными глазами и качала головой. Однажды, когда в очередной раз он караулил ее на улице, из подъезда вышел «физик» и решительным шагом направился к нему.
– Послушайте… Э-э, не знаю, как вас зовут… – сказал он. – Ну сколько можно? Нельзя же так преследовать человека. Она же не преступник, в конце концов… Поймите, Вера вас не любит, – объяснил он и повторил по слогам: – Не лю-бит! Вы понимаете это?
– Не понимаю, – мрачно отозвался милиционер.
– Ну ладно, вам не повезло… С кем не бывает! Нельзя же из-за этого терять голову… Ну посмотрите, разве мало вокруг женщин? Стоит вам только захотеть, и вы…
– А я не хочу.
– Ну и напрасно… Ведь не станете же вы утверждать, что будете всю жизнь любить только ее одну?
– Может быть.
– Позвольте вам не поверить. – На губах «физика» появилась обычная скептическая усмешка. – Так в природе не бывает. Человеческие чувства изменчивы. На смену одному увлечению приходит другое. Это диалектика! Я надеюсь, вам известно, что это такое?
– Да-да, что-то слышал. Это колбаса такая, вроде «докторской»? – спросил милиционер, прикидываясь дурачком.
Глаза у «физика» стали стеклянными, как тогда на улице, он тут же потерял интерес к разговору и наверняка бы ушел, но уйти ни с чем ему не хотелось – видимо, пообещал физкультурнице отвадить бывшего кавалера.
– Я, честно говоря, думал, что вы умнее, – сказал он жестко, отчеканивая каждое слово.
– Вам, по-моему, пора, – с печалью во взоре произнес милиционер. – Сегодня мороз, а вы с непокрытой головой: застудите шарики и не сможете будущим педагогам про физику рассказывать…
– Идиот! – выругался «физик».
Милиционер рванулся к нему. «Физик», в одно мгновение утратив всю свою солидность, сорвался с места и помчался к подъезду, как мальчишка. Где-то на полпути он поскользнулся, упал на бок и покатился по ледяной дорожке, которую учащиеся раскатали в снегу. Милиционер тут же оказался рядом. Поверженный «физик» с испуганными глазами, катящийся по льду, являл собой жалкое зрелище. Злость у милиционера отхлынула, и он, вместо того чтобы воспользоваться падением соперника и ударить его, нагнулся и протянул ему руку с совершенно другим намерением – желая помочь ему подняться.
И тут в морозном воздухе прозвучал ее голос.
– Не смей! – крикнула она, выскочив раздетой на улицу, уверенная в том, что милиционер сейчас начнет бить «физика». – Слышишь, не смей его бить!
В считанные секунды она преодолела расстояние от подъезда до мужчин и встала между ними, заслонив грудью поднявшегося на ноги растерянного «физика». Глаза ее – обычно удивленные – на этот раз сверкали от гнева. (Куда девалась присущая ей флегматичность?) Порыв, ненависть, решимость – все сразу, – вот что было в них… Они ослепили милиционера, эти глаза, глаза женщины, способной на все, лишь бы защитить любимого. И он отшатнулся, потрясенный. «Все кончено, – пронеслось у него в голове, – она потеряна для меня навсегда. Даже если я найду способ разлучить их – ее любви мне не вернуть… А была ли любовь?.. Боже мой, ведь она же меня никогда не любила! – вдруг сделал он ужасное открытие. – Это был только способ уберечь себя от скуки, одно из развлечений, не более того… О, как она меня ненавидит, как ненавидит! Неужели можно так ненавидеть?..» У него сдавило горло, словно его перетянули веревкой, и он пошел прочь, как слепой, наталкиваясь на людей и предметы, судорожно хватая ртом воздух.
– Больше я ей никогда не звонил и не искал встречи… – закончил свой рассказ милиционер.
Он шмыгнул по-детски носом и посмотрел куда-то в ночь, будто там, в вязкой темноте, за вереницей спящих на стоянке автомашин, возле которых они стояли, можно было увидеть эту женщину, благодаря которой он был так богат, познав настоящее чувство, и был так беден, потеряв ее.
Исповедь милиционера пробудила в Кольке самые разные мысли, обнаружив некоторую схожесть их характеров и родственность чувств, какие удалось испытать обоим, и он, в свою очередь, оценив неожиданную откровенность собеседника, рассказал ему про Татьяну, про ее уход, про сына, с которым ему отныне не давали встречаться. Узнав о Колькиных неприятностях и проникшись пониманием несправедливости происходящего, милиционер пообещал при первой же оказии зайти к Лонжуковым и провести с ними строгую беседу, имеющую целью призвать их, бессердечных, к порядку, а если потребуется, то и пригрозить вызовом в отделение милиции.
– Ишь, что хотят, то и творят! Мракобесы! – возмущался милиционер, потирая замерзшие уши. Ему, видимо, нравилось это звонкое, летящее слово «мракобесы», и он повторил его дважды. – Ты, Николай, того… Не сдавайся! Держись до последнего. Пацан – это святое дело! Это твоя ниточка к будущей жизни… А на них управу найдем, непременно найдем!..
Незаметно разговор перешел на другие темы. Поговорили сперва о хоккее, прикинули, кто на этот раз возьмет верх – мы или канадцы, получалось, канадцы, потому как игра у наших в последнее время что-то разладилась: нет хороших защитников (один лишь Фетисов), да и нападение уже не то – постарели ребята, потеряли кураж; потом обсудили новую французскую кинокомедию, вполне дурацкую, но смешную, которую оба успели посмотреть и где в течение полутора часов, сменяя друг друга, разбивались в лепешку по меньшей мере двадцать новеньких автомашин, свидетельствуя о страстной любви авторов к металлолому (вот бы наших школьников туда – на это железо!); затем порассуждали о сложностях международной жизни, о затянувшемся военном конфликте в Ливане, где неискушенному человеку трудно понять, кто в кого стреляет и за что, о помощи американцев никарагуанским контрас (Кольке при слове «контрас» почему-то всегда представлялся бородатый и немытый тип, наподобие фольклорного Карабаса-Барабаса, только вместо кукол у него в руках автомат) и пришли к выводу, что нынешний президент США все-таки намного лучше прежнего…
Расстались почти друзьями около двенадцати ночи.
В конце очередной недели Кольке наконец повезло: он увидел, как в окнах лонжуковской квартиры загорелся свет. Колька тут же выскочил из телефонной будки, где грелся от холода, и помчался к подъезду.
Дверь ему открыл Лонжуков – после ванны, распаренный, вальяжный, в махровом финском халате темно-синего цвета с красной полосой вдоль борта, из-под которого виднелась покрытая редкой рыжеватой растительностью грудь, с длинной американской сигаретой, дымящейся в красивых белых зубах. Он, видимо, кого-то ждал, но никак не Кольку. И, судя по тому, как омрачилось его лицо, было ясно, что Колькино появление ему совсем некстати.
«Счастливый муж, он же «микроскоп», – собственной персоной!» – подумал Колька безо всякой злобы, а скорее даже весело, и вежливо поздоровался.
Лонжуков недовольно кивнул в ответ и, упреждая возможные Колькины вопросы, сказал:
– Татьяны нет. Она с Павликом у матери.
– У матери… – повторил Колька и пристально взглянул на счастливого супруга – правду ли говорит?
«Микроскоп», как и подобает в таких случаях значительным персонам, выдержал этот взгляд.
– Послушай, старик, – он впервые заговорил с Колькой покровительственным тоном, – зря ты так… Тебе же сказали: прежде чем приходить – звони.
– Я тебе не «старик», – оскорбился Колька, – а отец Павлухи! И он меня любит! И ты к моему пацану не примазывайся, понял?
– А ты, оказывается, заурядный хам, – сказал скорбно Лонжуков. – Между прочим, если хочешь знать, я к твоему детенышу в отцы не набиваюсь, у меня свой ребенок есть… Но поскольку Татьяна человек мне близкий и любимый, то смотреть, как всякий шампиньон выводит ее из равновесия, я не буду.
– Это кто – шампиньон? Я – шампиньон?! Да ты… ты… Сам ты – мракобес! – повторил Колька слово, которое так нравилось милиционеру, оно казалось ему сейчас самым подходящим. – Увел чужую жену, а теперь сына от меня прячете!
– Ну, во-первых, ее никто не уводил – она сама ушла. А во-вторых, за «мракобеса» можно и по шее схлопотать, у меня не заржавеет…
– Давай! – разозлился Колька и, нагнув голову, подставил шею: – На, бей!
– Пачкаться не хочу, – ответил «микроскоп» невозмутимо. – Шея у тебя грязная, давно не мыл!
И он потянулся к ручке, намереваясь закрыть дверь. Колька же, рассердившись и считая разговор неоконченным, решил помешать ему, и когда дверь стала закрываться, пихнул вовнутрь свою полиэтиленовую сумку, где была бутылка с кефиром, купленная им на ужин в магазине по соседству. Этот выпад не смутил резвого противника – дверь он все-таки захлопнул. В результате столь хитроумной операции, проделанной Колькой, ручки от сумки остались у него в руке, а бутылка с кефиром оказалась в квартире, по ту сторону двери.
– Кефир отдай! – потребовал Колька и стал яростно давить кнопку звонка, пытаясь мелодичным, но назойливым звоном вывести Лонжукова из себя, но у того нервы оказались крепкими – дверь он так и не открыл. – Ладно, черт с тобой! – махнул рукой Колька. – Кефир дарю, пользуйся, мне не жалко! Я еще куплю…
И пошел восвояси.
Ребята из цеха, узнав о Колькиных мучениях, посоветовали ему найти грамотного юриста (какого-нибудь хитрого, многоопытного старичка, специалиста по запудриванию мозгов, умеющего с блеском лавировать в этой трясине под названием «гражданское законодательство») и выяснить у него, как же следует вести себя в сложившейся ситуации. А еще лучше, если Колька сходит в свой районный суд на прием к судье. Напишет заявление: так, мол, и так, прошу помочь… – и дело пойдет. Это предложил рыжий, веснушчатый Збруев – балагур, горлопан, поддавальщик. И еще он сказал: «Нечего было с такой конфетной бабой связываться. Не ровня ты ей. Ты кто? На заводе пашешь, а ей печатник в отутюженных штанах нужен! Знаешь, кто такой «печатник»? Это тот, кто деньги печатает, не мы с тобой… Дай лучше трешку, башка болит, поправиться надо…» И, убрав полученную трешницу в карман спецовки, добавил: «А таких наглых, как ее мать, я б за ноги на деревьях вешал!.. Слушай, давай-ка подловим ее где-нибудь в темном месте и клизму ей сделаем из портвейна «Кавказ»? Вольем пару бутылок, во будет смеху!..» – «Чего ты плетешь, – прервал его Толя Подсечкин, невысокий, коренастый, со шкиперской бородкой, – человека за нос водят, а тебе все смехуёчки!» – «Я уже сказал: пусть топает в суд! – крутанул пятерней охальник Збруев. – И вообще, Коля, ежели что, сразу бей по морде! – Это была у него такая присказка на все случаи жизни. – Суд – самое оно! Там должны понять… Не козлы же они вонючие, а люди!..» В общем, все сошлись на том, что следует идти в суд – так будет правильно.
И все же Колька долго не мог решиться – слишком серьезной была инстанция, с детства в нем сидело какое-то боязливо-почтительное отношение к этому институту, при слове «суд» ему почему-то всегда хотелось встать и вытянуть по-холуйски руки по швам, и откуда в нем это было, он и сам не знал, может, от прочитанных книг, где все творящееся в суде представало, как правило, в печальном или трагическом свете, где витал дух наказания, порою несправедливого, и где одни люди, облеченные доверием государства, определяли судьбу других, а может, это шло от рассказов взрослых, особенно от рассказов маминого брата, дяди Сергея, который несколько лет провел в суде, являясь народным заседателем, и неоднократно высказывал недовольство по поводу творившегося там, но и не уходил оттуда по собственной воле, считая, что «его скромное участие способствует все же справедливому решению участи обвиняемых». Так или иначе, Колька провел не одну бессонную ночь, размышляя над тем, идти ему в суд или нет? Но потом желание выйти из «мертвой зоны» и что-то сделать, лишь бы вновь обрести сына, победило. Колька написал заявление и пошел.
В суде его направили в кабинет, где сидел человек лет сорока, узкоплечий, сухощавый, с редкими серыми волосами, очень умный, как подумалось Кольке, и очень уставший – по крайней мере, лицо у него было такое. Два темных озерца его глаз буквально покрывала тина тоски. Глядя на этого человека, можно было подумать, что он не просто устал, а устал за все человечество сразу.
– Что вы хотите? – спросил он у Кольки скорбно, подняв лицо от бумаг.
– Видите ли… э-э… в общем… – столкнувшись с уныло сверлящим взглядом, Колька вдруг оробел, стал мямлить, словно не умел связно говорить, – так ему было стыдно, что он отвлекает столь занятого человека по пустякам.
– Говорите внятно: что у вас? – потребовал узкоплечий. – Конфликт на производстве? Тяжба с соседом? Раздел имущества?.. Впрочем, – брови его вяло шевельнулись, словно рыбки в аквариуме, – судя по всему, ценного имущества, которое надо делить, мне думается, у вас нет…
– Это верно, – согласился Колька, порадовавшись тому, как хорошо этот узкоплечий понимает жизнь. Ценных вещей у него действительно не было, разве что книги.
– Итак, что вам угодно?
– В общем, я к вам за советом… Поспособствуйте! Мы развелись… А она, то есть жена, не дает мне встречаться с Павлухой, с сыном, значит, вот!
– О господи! – вздохнул узкоплечий и возвел скорбный взгляд к потолку, что, видимо, означало: тяжело ему здесь, на переднем крае борьбы за социалистическую законность, – производство шибко вредное, а тут даже молока не дают! – Вы что, сами договориться не можете? – спросил он. – Даже конфликтующие страны, если надо, находят общий язык, а вы!.. Вы, наверное, употребляете, – он указал пальцем на горло, – вот ваша жена и не дает вам ребенка. Бросайте пить, и все образуется.
Колька оторопел от подобного обвинения.
– Да я не пью, – попытался объяснить он. – Разве что иногда, по праздникам…
– Тем более, разве нельзя договориться? Вы же взрослые люди. Поймите, у нас на более существенные дела времени не хватает… Мелкотемье нас заело!
– Я хотел миром, но она… – Колька даже вспотел от волнения. – Она – ни в какую! То есть они… Там еще теща и новый муж… Даже ребенка прячут! А я ему отец. Я не хочу, как некоторые: произведут на свет и знать не желают! Мне без Павлухи жизни нет, потому и пришел… – объяснял Колька, стыдясь собственного косноязычия.
Узкоплечий уныло смотрел на него и не верил в искренность его отцовского чувства, он решил, что у Кольки имеется какая-то своя корысть.
– Попробуйте все уладить мирным путем, – сказал он. – Вы поймите, если ваша жена – человек психически полноценный…
– Полноценный, – подтвердил Колька, – даже очень полноценный.
– … то ребенка у нее никогда не отберут. И главные вопросы будут решаться в пользу матери. Ясно?
– Да мне и не надо, чтоб отбирали. Отбирать-то зачем?
– А что вам надо? – Узкоплечий опять с унылой подозрительностью пронзил его глазами.
Колька даже заерзал на стуле от этого взгляда.
– Что мне надо?.. С сыном гулять, – пробормотал он растерянно, – в кино с ним ходить… в зоопарк… Ну и мороженое!..
А узкоплечий все смотрел и смотрел на него недоверчиво-пронзительно, уверенный, как большой знаток человеческой психологии, каковым он, по-видимому, себя считал, что видит Кольку насквозь, и в то же самое время далекий от его забот, как некое летящее в межзвездном пространстве космическое тело.
И тут Колька не выдержал: тоже мне, гипнотизер, мать твою так! – разозлился он.
– Ну, чего ты на меня смотришь? Чего?! – Колька напрягся, стал красным. – Уставился, понимаешь, как кот на колючую проволоку! Словно я у тебя бумажник спер или еще чего… Не надо, я не из пугливых!
Узкоплечий загрустил, застрадал, будто опять отдувался за все человечество.
– Сам уйдешь или милиционера пригласить? – спросил он бесцветным голосом.
Колька махнул в сердцах рукой: э-э, не так все получилось! – И пулей выскочил из кабинета.
Он вышел на улицу. Ему хотелось выть от обиды. Огорченный, приткнулся на скамейку в сквере. Была весна. Таял старый ослизлый снег на солнце, булькала мутная вода в ручьях. По обнажившейся, местами черной и влажной земле расхаживали взъерошенные возбужденные грачи, обсуждая громогласно свои грачиные дела и радуясь, что весна набирает силу… Кольку потянуло в центр, где всегда много людей, суета и где в толпе не чувствуешь себя таким одиноким. Он сел в метро, доехал до станции «Проспект Маркса». Вышел на улицу и смешался с толпой. На Петровке напротив Художественного салона зашел в рюмочную, выпил там две рюмки водки, заев бутербродами с сыром. И так как перед этим почти весь день не ел, то быстро захмелел на голодный желудок. Почувствовав себя от водки увереннее и несколько оправившись от неудачи, постигшей его в суде, Колька стал размышлять о дальнейших своих действиях, но душевное состояние его все еще было зыбким и неясным, что теперь делать, он не знал, поэтому решил отложить размышления на эту тему до другого раза.
Вокруг было шумно. Люди входили и выходили, брали водку в рюмках, бутерброды, становились рядом с Колькой, выпивали, исчезали, их места занимали другие… Только рюмки и бутерброды на столешницах как бы оставались те же (общепит разнообразием не баловал – ни в посуде, ни в еде), отчего в какой-то момент могло показаться, что люди, стоящие вокруг, не меняются, что это одни и те же люди, лишь меняются по воле игривого волшебника их лица и одежда. Несмотря на размытость мысли, имевшую место в его голове, Кольке было здесь хорошо. Он ощущал себя нужной частью этого шумного, живого, хаотичного спектакля, частью, которая связывает воедино отдельные, существующие во времени и пространстве компоненты и без которой этот спектакль не сможет существовать или будет существовать по-другому. Повеселев, он покинул рюмочную. Пройдя через Столешников, поднялся к Моссовету. Мазанув взглядом по лошади Долгорукого, по самому князю, восседающему на ней и гарцующему из тектонической сталинской эпохи в наше непростое обжигающее время, Колька почему-то вспомнил, что здесь, на месте князя, стоял когда-то другой памятник – генералу Скобелеву (об этом он где-то читал и даже видел репродукцию). Прославленный генерал, участник русско-турецкой войны, герой Шипки, тоже восседал на лошади, правда, в отличие от князя держал в руке поднятую вверху шашку, символизируя своим боевым видом победу русского оружия. Чем запятнал себя сей воин и почему его убрали, Кольке было неясно: социал-демократов в 1905 году тот не громил, в белом движении после революции не участвовал, потому как к этому времени давно уже перешел в мир иной. Может быть, генералу ставили в вину участие в завоевательных походах в Средней Азии?.. Нет, Колька ничего не имел против основателя Москвы, но генерала все же было немного жалко!.. Колька свернул налево и пошел мимо гастронома в сторону Красной площади. И здесь, шагая в толпе и вглядываясь в лица людей, идущих ему навстречу, слушая дыхание этой толпы, вбирая ее энергию, он воспрянул духом и ощутил в себе азартное желание продолжать борьбу, словно бы подзарядил находящийся внутри аккумулятор.
У гостиницы «Москва» Колька остановился. Захотелось еще выпить. После некоторого раздумья он вошел в здание со стороны Манежа, где находились ресторан и бар. Раздевшись, он поднялся наверх.
Народу в баре было немного. За стойкой по-хозяйски расхаживал крепкий широколицый малый с ухватками самбиста. Глядя на него, можно было подумать, что он только и ждет удобного момента, чтобы уложить кого-либо на ковер, вот разве что обстановка для этого не очень подходящая – слишком много хрупкого стекла, мешает форменная куртка, сковывающая движения, и белая рубашка под ней с галстуком-бабочкой. За спиной бармена громоздились, сверкая, многочисленные заграничные бутылки с яркими наклейками, разметавшиеся в три ряда по зеркальным полкам, справа на подносе стояли, излучая сияние, чистые бокалы и рюмки. Играла негромкая музыка, под которую иностранный певец хрипло страдал на своем языке, скорбя об утраченной любви.
Колька направился к стойке и вдруг замедлил шаги: спина одного из посетителей показалась ему знакомой. Он вгляделся и узнал Лонжукова. «Вот так встреча», – думал он. Рядом с Лонжуковым у стойки сидел солидный седой человек, гладкий, ухоженный, в добротном костюме темно-серого цвета, который, если судить по его барственным манерам, по неторопливому, внушительному голосу, по той легкой снисходительности, с какой он слушал собеседника, в равной мере мог быть и большим начальником в ранге министра, и подпольным миллионером, если, конечно, не совмещал в себе и то и другое.
Без долгих колебаний Колька уселся на свободное сиденье рядом с Лонжуковым.
– Чем угощаете? – спросил он намеренно громко, обращаясь к бармену.
Услышав его голос, Лонжуков обернулся и несколько опешил, увидев перед собой Кольку. Судя по тому, как дернулась его щека, появление здесь бывшего мужа Татьяны явно не входило в его планы, и даже больше – серьезно обеспокоило.
Бармен молча придвинул Кольке прейскурант.
Колька взял карточку и, сдвинув брови, со строгим выражением на лице, словно одержимый ученый муж, постигающий тонкости древней письменности египтян, принялся изучать названия коктейлей, пытаясь понять, что за напитки скрываются за столь звонкими, будоражащими сознание словами, такими, как «Юбилейный», «Адриатика», «Галатея»… После мучительных раздумий он решил остановиться на коктейле под названием «Космос». «Хоть слово, по крайней мере, привычное, – подумал он. – Надеюсь, ракетное топливо этот малый туда не добавляет!»
– Один «Космос», – бросил он бармену небрежно, словно являлся завсегдатаем подобных заведений.
Бармен был ушлый малый, и ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что за клиент перед ним сидит. Оценив Кольку, он с выразительной полуулыбкой, сочетающей в себе некоторую долю презрения и насмешки, стал приготовлять ему коктейль; в любом другом месте он с удовольствием послал бы Кольку куда подальше, считая унизительным тратить свое время на подобную шантрапу, но здесь позволить себе этого не мог: работа есть работа – ничего не попишешь!
Колька же лица бармена не видел. Он думал о сидящем в метре от него Лонжукове, удачливом и благополучном, живущем припеваючи с его женой и сыном и бесконечно далеком от Колькиных забот. Кроме того, Кольку занимал и процесс приготовления напитка. Он с интересом следил за руками бармена. Тот начал с того, что смешал некоторое количество коньяка и сухого вина, вслед за этим добавил в эту смесь немного темной жидкости из заграничной бутылки («вот оно, «топливо»», – подумал Колька), потом плеснул в бокал лимонного сока из кувшина с широким горлом и в заключение бросил туда несколько кубиков льда, благородное звяканье которых явилось необходимой точкой в этом священнодействии. Кольке нравились широкие, уверенные движения бармена, артистизм, с которым тот работал, несмотря на свои спортивные замашки, и он сам себе как зритель тоже нравился.
Завершив свою виртуозную работу, бармен поставил бокал перед Колькой.
– Сколько с меня? – спросил тот с легкой задумчивостью, свойственной состоятельному посетителю казино в Монте-Карло.
– Пять сорок.
Колька чуть не подпрыгнул:
– Сколько?!
– Пять сорок, – повторил бармен с той же выразительной полуулыбкой, с какой ранее оценивал Кольку, и указал на прейскурант: – Здесь же написано.
«Ничего себе! – подумал Колька. – С этими западными замашками недолго и без штанов остаться…» Но надо было держать марку, и он выложил на стойку деньги. Облегчив свой кошелек, «состоятельный посетитель казино в Монте-Карло» поднял бокал, посмотрел содержимое на свет, кивнул удовлетворенно, как и подобает в подобном случае ценителю, и залпом выпил, придерживая соломинку пальцем. Напиток оказался вкусным, но недостаточно крепким. «За такие деньги мог бы и покрепче что-нибудь сочинить», – подумал Колька и, продолжая играть прожигателя жизни, произнес:
– Давай еще такой же. А лучше – два!
Когда следующие коктейли были готовы, Колька сполз с сиденья и, взяв оба бокала в руки, обошел Лонжукова.
– Выпить не желаете? – предложил он. – Угощаю! Как проигравший! Здорово вы меня в клещи взяли.
– Кто такой? – спросил у Лонжукова его спутник, неприязненно взглянув на Кольку.
– Не знаю, – невозмутимо ответил тот. – Первый раз вижу.
– Врешь! – воскликнул Колька. – Ты же у меня деньги взаймы взял – три тысячи – и велосипед «Турист» – так и не вернул!
– Какой еще велосипед?! – спросил солидный удивленно.
Лонжуков развел руками, болезненно поморщившись.
– Не мешайте нам, молодой человек, – проговорил седой мужчина с некоторым присущим большим начальникам пренебрежением, но в глазах его появилось беспокойство. Он наклонился к Лонжукову и что-то торопливо зашептал. Затем они обменялись свертками.
– Разведчики! – кивнул на них Колька, обращаясь к бармену. – Кровавая борьба с Пентагоном… Или мафиозники! Совершили товарообмен: наркотики на деньги. Или наоборот. Жаль свистка нет, а то б милицию вызвал, чтоб вас тут всех с поличным взяли!
– Чего ты плетешь, идиот! – позеленел Лонжуков. Его солидный спутник, еще больше обеспокоившись, тут же попрощался и исчез.
– Никита, – заговорил бармен, обращаясь к Лонжукову, – хочешь, я эту гниду по стенке размажу?.. Вместе с его тухлыми мозгами!
– Ого! Да у вас тут целая банда! – вроде бы обрадовался Колька. – Будем брать! – И громко хлопнул в ладоши.
– Никита, он мне надоел, – простонал бармен, наливаясь краской. – Я ему сейчас хавальник набью! – И двинулся из-за стойки, несокрушимый, словно танк.
– Не надо, оставь, – придержал его жестом Лонжуков, оглядываясь на двух иностранцев, которые сидели в конце стойки и пили водку с соком, негромко беседуя. И посмотрел на Кольку: – Ты это, кончай… Я тебе не Петрушка!
– Точно! – согласился Колька. – Петрушку это вы из меня сделали.
– Да я тебя вообще не знаю! – взмахнул рукой Лонжуков.
– Зато я тебя знаю… Ты и твоя теща отняли у меня сына. И довольны, что облапошили простачка.
Лонжуков схватился за лоб:
– Черт возьми, как мне все это надоело! Разбирайтесь сами друг с другом, а меня оставьте в покое! По мне хоть каждый час тискайся со своим мальчишкой!..
– Вот как? – усмехнулся Колька. – Каждый час, говоришь? Ах, ты мой благодетель! Где ж ты раньше был? Ведь ты же сам меня из своего дома выпроваживал…
Самбист за стойкой вновь угрожающе шевельнул плечами:
– Никита, отдай его мне, я его мордой в унитаз суну!
– Подожди… – отмахнулся Лонжуков. Он нервничал. Дело принимало скандальный оборот, а этого ему не хотелось. Не хотелось шума, милиции и всего прочего – видимо, были у него на то свои причины. – Налей мне коньяку, – попросил он бармена.
Тот в одно мгновение распечатал бутылку и ополовинил ее, наполнив бокал, который придвинул Лонжукову. Положил на блюдце плитку шоколада, поставил рядом.
Лонжуков отпил немного, ломанул шоколад, прямо в бумаге, извлек дольку, положил в рот.
– Чего ты хочешь? – спросил он у Кольки после некоторого молчания, давая тем самым понять, что готов к мирным переговорам.
– Сына хочу видеть.
– Тебя как будто заклинило.
– Заклинило!
Лонжуков снова приложился к бокалу.
– Ты и меня пойми, – сказал он, переходя на доверительный тон. – Думаешь, мне легко? Погуляет Павлик с тобой, и начинаются разговоры, от которых впору на стену лезть!.. Приходит и спрашивает: мама, а зачем нам дядя Никита, если папа есть? Ничего, да? Или еще лучше: мама, давай познакомим дядю Никиту с другой тетей, а сами к папе вернемся. Весело, верно? И весь мой недельный труд по налаживанию с ним контактов летит к черту!
– Ты вот ответь мне, – заговорил миролюбиво Колька, – если б тебе не давали встречаться с сыном, что бы ты сделал?
Лонжуков пожал плечами:
– Не знаю… Ты парень молодой. Женись. Заведешь еще пару пацанов, и все твои страдания кончатся мигом!
– Женись… – вздохнул Колька. – Как у тебя все просто. Будто это коктейль выпить… – И признался: – Я после Татьяны ни на кого смотреть не могу.
– Это пройдет, – сказал Лонжуков, – по себе знаю.
– А я не хочу, чтоб проходило, – упрямо мотнул головой Колька.
– Глупо! – вздохнул Лонжуков и снова отпил из бокала и зашелестел фольгой, в которой был шоколад.
Бармен, положив руки на пояс, угрюмо слушал их разговор, удивляясь на Лонжукова, который почему-то миндальничал, снес обиду и не дал ему расправиться с этим голодранцем.
– Не бойся, – продолжал Колька, обращаясь к Лонжукову, – я к Татьяне цепляться не буду… Что отрезано, то отрезано, как говорят хирурги… – заявляя это, Колька был искренен, но не до конца. Возможность встречаться с сыном давала и другую возможность – видеть изредка Татьяну, но он никогда бы себе не признался в этом. – Налей еще, приятель. – Он придвинул к бармену пустой бокал. Тот скривился, но, получив немое указание Лонжукова, вынужден был заняться приготовлением коктейля. А Колька продолжал: – Она мне нынче чужая, Татьяна, а Павлик – сын! И я его должен видеть. Так что, уж будьте любезны, товарищи хорошие!
Лонжуков обмяк от выпитого, подобрел и почувствовал к собеседнику жалость, что бывало с ним крайне редко. «Действительно, зачем парня мучаем», – подумал он. И ему захотелось утешить Кольку.
– Ну, ладно… Ты не переживай… Все образуется… Я не против: встречайтесь на здоровье… – Он допил коньяк, на этот раз закусывать шоколадом не стал, а только коротко втянул ноздрями воздух. – Что я, не понимаю?.. Вот с Анастасией Львовной будет сложно… Она против ваших встреч, против тебя – и будет стоять, как китайская стена!
– Она-то стена… А ты кто?
– Кто? – не понял Лонжуков.
– Мужик или розовый куст?
– Ну.
– Значит, мужик. А раз так – не поддавайся! Последнее слово должно быть за тобой… – Колька сказал это и, подумав, смутился: легко сказать – не поддавайся. Он сам, будучи мужем Татьяны, не всегда умел проявить необходимую твердость – уж очень сильный характер был у тещи.
– Ты что это, на конфликт меня провоцируешь? – усмехнулся Лонжуков и испытующе посмотрел на Кольку.
– Никита, отдай его мне! – тут же оживился бармен. – Я научу его вести себя в приличном обществе…
Колька, будучи человеком мирным и незлобивым, молча сносивший все оскорбительные реплики бармена, на этот раз не выдержал.
– Кто такой? – спросил он у Лонжукова, кивая на бармена. – Местный палач?.. То-то, я смотрю, он все время в дело рвется!.. – И сказал онемевшему от изумления обидчику: – Тебе, приятель, кайлом давно пора работать, где-нибудь в северных широтах, поближе к тундре.
– Что?! – выдохнул тот, темнея лицом. – Ах ты, падла!
В один миг он дотянулся до Кольки через разделяющую их стойку и схватил его за грудки. Затрещала рубашка, Колькина шея побагровела, крепко стянутая воротником. Колька стал задыхаться.
И только вмешательство Лонжукова спасло его от дальнейшей расправы.
– Влад, перестань!.. – прошипел тот гневно и, вцепившись в руки бармена, с силой оторвал его от Кольки. – Прекрати сейчас же! – и посмотрел по сторонам: как реагируют окружающие.
Немногие посетители, находившиеся в баре, – два иностранца в конце стойки и две пары за столиками, – привлеченные шумом, все, как один, смотрели на них.
– Ну вот, устроил спектакль… – буркнул Лонжуков, метнув недовольный взгляд на бармена. И тут же, поправив очки, обворожительно улыбнулся и громко сказал, обращаясь ко всем посетителям: – Все в порядке, друзья! Простим приятелям это маленькое недоразумение. Они повздорили из-за женщины. Ну что ж, бывает! Любовь иногда делает нас излишне горячими! «Ну-ка, улыбнитесь, живо! – процедил он сквозь зубы бармену и Кольке. Те, переглянувшись, нехотя улыбнулись. – А теперь пожмите руки…» Противники, пересиливая себя, послушно пожали друг другу руки. – Ну вот, – продолжал Лонжуков, – теперь мир восстановлен. Браво!
Люди за столиками закивали, ответили улыбками.
Лонжуков, продолжая ослепительно улыбаться и переложив из одной руки в другую небольшой сверток, полученный в результате обмена от седого мужчины, прошел вдоль стойки к иностранцам. «Ду ю спик инглиш?» – спросил он. И услышав «Йес», сказал им несколько фраз по-английски, видимо, объясняя причины инцидента, после чего иностранцы тоже заулыбались и закивали головами.
В эти минуты Колька в полной мере оценил обаяние и сообразительность, присущие новому мужу Татьяны, и, испытывая восхищение, сначала позавидовал его талантам, а затем с грустью подумал, что он перед ним ничто – серая мышь, и, видимо, Татьяна правильно сделала, уйдя к Лонжукову.
Побеседовав с иностранцами и пожелав им успехов на русской земле, Лонжуков вернулся на свое место. Взял еще коньяку и во избежание эксцессов предложил Кольке пересесть за столик – подальше от не в меру резвого бармена.
Они пересели. Некоторое время молчали, прерванный разговор не клеился.
– Ты все-таки поговори с тещей-то, – попросил Колька.
– Ладно, поговорю, – пообещал Лонжуков, довольный тем, что удалось погасить ссору и избежать шумных последствий. – И Татьяне скажу, чтоб не препятствовала… Но только учти: мы с тобой не встречались. Ясно?
О том, что будет завтра, Лонжуков не думал, но сейчас он искренне верил в то, что выполнит обещание и поможет Кольке, верил и умилялся при этом, какой он славный и добрый человек. Вот ведь сидит как ни в чем не бывало с бывшим мужем Татьяны и, вместо того чтобы послать его, нахала, к чертям собачьим, думает, как ему помочь.
Кольку, изрядно захмелевшего от коктейлей, не удивляло столь неожиданное благодушие, проявленное Лонжуковым, и то, что тот вдруг встал на его защиту, не представлялось ему важным: с помощью Лонжукова открывалась возможность перебросить хоть и шаткий, но все же мосток через глубокий ров, отделявший его от сына. А после сегодняшней неудачи в суде это казалось ему особенно ценным. И вот за это, и за находчивость, проявленную «микроскопом» десятью минутами ранее, и за его заступничество, и за его обаятельную улыбку, казавшуюся теперь особенно доброй, Колька готов был, отринув прошлые обиды, полюбить Лонжукова, как брата. Он даже пообещал себе не называть его впредь «микроскопом».
Лонжуков, в свою очередь, осмысливая возникшее в нем расположение к Кольке, удивлялся на себя: как же так? Что случилось? Почему он сел с этим парнем за стол переговоров, первоначально не желая этого? И дело здесь было не в свертке, который находился у него в руках и который, как уже догадался читатель, определенным образом влиял на его поведение, заставляя Лонжукова избегать каких бы то ни было конфликтов (что было в этом свертке – деньги ли, бриллианты – кто знает!). Он вдруг с интересом обнаружил, что душа его не противится доброму поступку – а почему в самом деле надо разлучать отца с сыном? – и даже больше: ему нравилось это чувство доброты в себе. В этой суровой жизни, где постоянно идет жестокая борьба за существование, где приходится, как на ринге, все время отражать удары то справа, то слева, чтобы выстоять, утвердиться и доказать, что ты не кретин, а кретины – те, которые ничего не имеют – ни денег, ни власти, живут как будто с бензином на нуле, когда стрелка еще дергается на красной отметке, а бак уже пуст, в этой суровой жизни почти не было времени, чтобы снять боксерские перчатки и расслабиться, мало его оставалось и на доброту, считавшуюся, по мнению преуспевших в борьбе, пустой безделицей, которая требует слишком многого – не только переключения мозгов, но и перенастройки психики, изменения в мускулатуре лица, в общей пластике и даже в том невидимом аппарате, от которого зависит выражение наших глаз. И вот сейчас, ощущая в себе эту ноющую, сладко сосущую тягу к добру, Лонжуков испытывал удовлетворение и, как уже было сказано, умилялся на самого себя.
На другой день утром, поднявшись с больной головой, кряхтя и отпаиваясь боржомом, оглядывая мутными глазами квартиру, вещи, лежащие в беспорядке, улицу за окном, по-осеннему серую, унылую, с моросящим дождем, которая была ему ненавистна, где дома почему-то переходили с места на место и затем возвращались обратно, Лонжуков ругал себя последними словами за то, что перебрал накануне и, утратив бдительность, опустился до дружбы с Колькой, мало того, при расставании целовал последнего в лицо, как родного, – и это вспоминать было особенно неприятно.
Обещания своего впоследствии – поговорить с Анастасией Львовной – он не выполнил, и все осталось по-старому.
Пока утративший весь свой парадный лоск Лонжуков (слава богу, в эти минуты его никто не видит) мается с похмелья, мнет рукой небритую щеку, кряхтит, сплевывает в раковину горькую слюну, пьет боржом, глотает анальгин, утишая головную боль, заторможенно бродит по квартире, самое время рассказать о том, как Колька познакомился с Татьяной.
Произошло это на вечеринке у бывшего Колькиного одноклассника Витьки Грогова. Грогов учился в МЭИ, и компания у него в тот вечер собралась в основном студенческая. Пригласил он и Кольку, с которым дружил еще со школы. Правда, теперь они встречались значительно реже, но все же.
Родители Грогова только что уехали по туристической путевке во Францию, и Витька решил рвануть на всю катушку, а погулять он, надо сказать, любил.
Дело было в конце мая. За окнами гремела гроза. Над городом в вечернем свинцовом небе стремительной ртутью проносились молнии. Шумел дождь, оглушительно барабаня по карнизам и брызгая в открытые окна, заливая подоконники, стоящие на них горшки с цветами, которые никто и не думал убирать оттуда – пусть льет! Гроза не мешала веселью, а, наоборот, придавала ему романтическую окраску.
За столом, тесно сгрудившись и галдя, в небольшой Витькиной комнате сидело человек пятнадцать, больше бы туда и не вместилось. Другую комнату, размеры которой значительно превышали размеры Витькиной, родители, зная разгульный характер сына, перед отъездом закрыли на ключ, что делали в последнее время постоянно. Одним словом, приходилось ютиться на ограниченном пространстве. Правда, была еще и кухня, но сидеть в окружении кастрюль и вдыхать при этом запах подгоревшего на газу кофе, который постоянно варили девчонки и все время за болтовней упускали его, Витька не любил, поэтому предпочитал все сборища устраивать у себя в комнате. На родителей он не обижался: правильно делают старики, закрывая на ключ свое ложе, какое удовольствие отдыхать в Париже, зная, что разнузданные Витькины приятели валяются на твоей постели в ботинках и при этом тискают неизвестно каких девиц, а то еще хуже – сидят, наглые, на этом самом ложе, пьют и закусывают, заливая покрывало вином или роняя на него ошметки какой-нибудь еды! И потом, считал Витька, в теснотище даже как-то веселее – и лица друзей к тебе ближе, и девчонки под рукой – держишь за шею или за бедро, поди плохо! Еще успеем зажиреть, утверждал он, успеем рассредоточиться по большим отдельным квартирам, где, утомившись от дружбы и шумного общения, будем сидеть в одиночестве, сонно хлопая глазами, или еще хуже – в компании с какой-нибудь толстой бабой в бигудях, считающейся твоей женой, бесконечно тебе чужой, к которой ты прикован, как несчастный узник к стене: «и скучно, и грустно, и некому руку пожать!» Итак, все сидели в Витькиной комнате вокруг стола, вернее, двух столов, составленных вместе, – одного большого, письменного, Витькиного, и второго поменьше, принесенного с кухни. На каждую пару гостей приходилось по одной тарелке – больше с учетом бутылок и закусок поставить было некуда. И вилок было мало – тоже по одной на двоих – это все, что имелось в доме, точнее, все, что осталось: однажды, будучи хорошо поддатым, один из Витькиных приятелей, убирая на кухне мусор, выбросил в мусоропровод вместе с газетой, в которой разделывали селедку, еще и обойму новеньких мельхиоровых вилок; парень сообразил, что совершил ужасное, лишь тогда, когда услышал, как из мусоропровода донесся печальный металлический звон – это вилки навеки прощались с развеселой Витькиной квартирой. Правда, стоит отдать Витькиному приятелю должное: он тут же подошел к Витьке и честно признался ему, что выбросил в мусоропровод какое-то железо, судя по мелодичному звону – драгоценное, может быть, и вилки, и что он готов спуститься в недра дома, где обитают мусорные баки, он так и сказал «обитают», и перерыть там всю помойку, чтобы их найти, на что Витька сказал: «Не надо, пойдем, старик, лучше выпьем…» Таким образом, на столе теперь лежали старые вилки, правда, кое-где им в дополнение прилагалось по алюминиевой большой ложке, но не везде.
Из всей компании Колька знал лишь двоих: конечно, хозяина, Витьку, и его подругу Симу, востроносую, глазастую, порывистую, часто хлопающую в ладоши, когда ей что-либо нравилось – шутка ли, анекдот или неожиданный поступок, чреватый безрассудством и удалью. И так уж получилось, когда садились за стол, прямо напротив Кольки уселась задумчивая красавица, немногословная, знающая себе цену, со скупой улыбкой, со светлыми, холодно мерцающими глазами. Это и была Татьяна. Ела она из одной тарелки с курчавым самоуверенным малым, который привел ее к Витьке и которого все присутствующие называли Максом. («Счастливчик», – позавидовал ему Колька. Сам он не имел такой привлекательной напарницы и вынужден был есть из одной тарелки с толстым непоседливым бородачом, нечесаным, потеющим, изрядно проголодавшимся, словно его только что сняли со льдины, где он, унесенный в море, просидел несколько суток без провизии; бородач часто вскакивал и, устремляясь к закускам верткими руками, сыпал остротами направо и налево и сам же первый громко смеялся над своими шутками, ощущая в себе силу и удаль молодого Фальстафа.)
Словоохотливый, ироничный, одетый по последней моде, похожий на певца-эстрадника роковой формации, из тех, какие, надрывая связки и заходясь в восторге от собственного шаманства, претендуют на роль мессий, Макс был душой компании. Он, как и бородач, тоже часто острил, и острил удачно, произносил цветистые тосты, являвшие собой образчики великолепных импровизаций на злобу дня и того, что происходило за столом, что вызывало всеобщее одобрение и восторг и каждый раз сопровождалось хлопаньем Симиных ладош (после нескольких тостов бородач, махнув безнадежно рукой, прекратил состязаться с ним в остроумии и направил свои усилия в основном на провизию, благо ее было в достатке); потом Макс пел под гитару, правда, долго перед этим отказывался, заявляя, что он сегодня не в голосе, что гроза ему мешает, ботинки жмут, а ноги холодные и пальцы дрожат, и так далее, и тому подобное, а когда, вняв наконец настойчивым уговорам, все же взял гитару и спел, то выяснилось, что он, несмотря на впечатление, производимое его внешним видом, в силу которого мы с вами поспешили причислить его к проповедникам рока, совсем далек в своей исполнительской манере от этого направления и предпочитает иной стиль – «кантри», что и продемонстрировал, спев несколько песен. Из этих песен Кольке запомнилась одна – про то, как стало неуютно жить в огромных городах, будь то Нью-Йорк или Чикаго, кислорода не хватает, голова болит от шума и постоянно хочется сбежать от обилия вещей, лиц, поступков (колбас, автомобилей, накрашенных губ, поцелуев, ярости…), сбежать в какое-нибудь тихое местечко, куда-нибудь на ранчо, где под тобой резвый конь, а на голове широкополая шляпа, прикрывающая от солнца, и до горизонта – зеленые луга, а в двух милях езды отсюда – уютный домик, где ждет тебя заботливая красавица-жена, занятая приготовлением ужина. За дословность Колька бы не поручился, но приблизительно таким было содержание оставшейся в памяти песни. «Мне бы ваши заботы! – воскликнул Витька, когда песня отзвучала. – А я мечтаю о другом: взять в жены Машку из колбасного отдела, что у нас на первом этаже…» – «А как же я?» – спросила Сима, обиженно поджав губки. «Сима, у нас с тобой бурный затяжной роман, переходящий в штиль… Ты моя первая и последняя чистая любовь, не замутненная гадостями семейно-колбасного быта! – заявил Витька. – А носки, пеленки, дубленки – это, согласись, противно!»
Неожиданно кончились сигареты. Как-то сразу у всех. Проверили валяющиеся на столе пачки – пусто. И у Витьки не оказалось никаких запасов. А курить хотелось. «Старики, – обратился к мужской половине стола Макс. – Мы – без курева. Кто пойдет?..» Дождь на улице продолжался, правда, не такой сильный, как прежде, и желающих идти за сигаретами не оказалось. Никому не хотелось вылезать из тепла, погружаться в промозглую сырость, шлепать по лужам неизвестно куда – табачные киоски, поди, уже закрылись. Тогда предложили хозяину сходить к соседям и попросить сигареты у них. Витька наотрез отказался: «Сколько можно! Я бегаю к ним через раз. Они пошлют меня на три буквы – и правильно сделают… К тому же сосед справа, угрюмый стукач, ревнует меня к своей бабе и только ждет повода, чтобы набить мне физиономию!» – «Ребята, – заныла сильно накрашенная девица, – я без курева сдвинусь!» – «Курить вредно, Семенова! – заявил бородач. – Ты лучше ешь…» – и вцепился зубами в мякоть жареной курицы, кусок которой, пользуясь неразберихой, увел с чужой тарелки.
Поразмыслив немного, находчивый Витька нашел выход. Раздвинув тарелки, он положил на край стола газету, высыпал на нее содержимое двух больших пепельниц и стал копаться в груде окурков, выискивая такие, какие можно было бы использовать. Набрав несколько штук, он оторвал фильтры, размял бычки в пальцах, ссыпая табак в одну кучку. Когда табаку оказалось достаточно, Витька снял с полки большую толстую книгу, судя по переплету из темной кожи и золотому тиснению на нем, очень старинную и дорогую, полную красочных иллюстраций, каждая из которых была переложена папиросной бумагой, открыл произвольно одну из них, вырвал оттуда папиросную прокладку – по лихости, с какой он это сделал, чувствовалось, что подобную операцию он осуществляет уже не впервые, – ссыпал табак на вырванную бумагу и свернул большую самокрутку, послюнявив ее затем языком, чтобы не разворачивалась.
– Сейчас покурим, – воскликнул он. – Здесь хватит на всех.
Он прикурил от зажигалки, сделал несколько глубоких затяжек и передал самокрутку Максу.
Макс затянулся раз-другой и зажмурился от восторга.
– Старики! Да ведь это же марихуана!
Макс сделал еще затяжку – о! – и, дурачась, стал изображать, что забалдел, будто бы курнув настоящего наркотического зелья. Это был целый маленький спектакль. Макс конвульсивно дернулся, округлил глаза, расправил плечи, выпрямился, словно воспрянувшая в руках кукольника марионетка, с улыбкой идиота прошелся на несгибаемых ногах от стола до двери, ткнулся в нее лбом, потом ухватился за дверной косяк и, ласково обозвав его «Нинулей», стал объясняться косяку в любви, словно это была женщина, приглашая «ее» выйти с ним в коридор, а лучше в ванную, где они скорее найдут общий язык, при этом, воровато оглянувшись, прогнусавил «Нинуле» на ушко, что он как мужчина очень даже ничего, крепок, и «ей» жалеть не придется – пусть соглашается! – но сделав еще одну затяжку, потерял к «Нинуле» всякий интерес, повернулся к «ней» спиной, выпучив глаза, доковылял до кушетки и под общий вопль восторга рухнул на нее бездыханно, держа над собой в вытянутой руке дымящуюся самокрутку. «Ой! – выкрикнула Семенова. – Дайте и мне курнуть травки!» – «И нам! И нам! – поддержали ее голоса. – Давай по кругу!» Семенова выдернула из рук Макса самокрутку, сделала несколько затяжек и тоже стала изображать, что словила кайф, – что-то запела без слов, закружилась на одном месте, вытянув вверх руки, затем медленно опустилась на пол и взяла себя за горло – конечно, это выглядело менее выразительно, чем у Макса, но все же тоже повеселило окружающих… Самокрутка пошла по кругу, и каждый, кто хотел, что-нибудь изображал, дурачась до самозабвения, получая в награду аплодисменты и восторженный хохот. Витька, тот совсем разошелся: оголился по пояс, взял у Симы губную помаду и расписал себе жирными красными точками вены на сгибах рук, поясняя присутствующим, что это следы от инъекций, после чего схватил с тарелки большой соленый огурец и, словно шприц, вонзил его в руку, сжав огурец с такой силой, что из него брызнула жидкость. «Несмешно! – сказала сидевшая отстраненно Татьяна, когда хохочущий Макс ткнулся в ее плечо, и добавила: – Совсем несмешно…» Колька просидел весь вечер молча. Часто, захваченный общим весельем, улыбался, но улыбался как-то неуверенно, робко, словно стесняясь, что здесь, в этой чужой ему компании, его улыбка может вызвать недоумение у присутствующих и они спросят: «А этот малый чего улыбается? Мы-то про себя знаем, чему смеемся, а вот он…» И вот так сдержанно улыбаясь, посматривал он в течение вечера на Татьяну. Он сразу в нее влюбился, как только увидел. Иногда его взгляды в сторону девушки были слишком откровенны и не в меру продолжительные. Колька понимал, что не должен так смотреть на нее, тем более что она была не одна, но ничего не мог с собой поделать. Интересное и несколько надменное лицо девушки буквально притягивало его, и каждый раз ему стоило немалых усилий отвести глаза.
Татьяна, ловившая на себе эти взгляды, вначале только плечиком поводила на подобную откровенность. Она даже спросила, думая, что Колька обнаружил какой-то изъян в ее туалете: «Что? Что-нибудь не так?» – и стала приглаживать волосы и оправлять на груди блузку, на что Колька, смутившись, ответил: «Да нет, все в порядке…» – и отвел глаза. Но потом девушке это надоело, и она перестала обращать на Кольку внимание, словно его и не было вовсе.
Макс, хотя и был занят бесконечной болтовней, тоже заметил, что Колька во все глаза пялится на Татьяну, не пытаясь сдерживать свои чувства, и ведет себя, будто японский летчик камикадзе, которому все до лампочки, потому что через час он вылетит на задание, где должен будет погибнуть, протаранив вражеский корабль. Макс поначалу никак не отреагировал на это. Сделал вид, что ничего не заметил. А чего дергаться? По всем данным Колька был ему не соперник. Тот, кто хоть немного знал Татьяну, – а Макс встречался с ней уже полгода, – мог с уверенностью сказать, что такие типы, вроде Кольки, были не в ее вкусе. Правда, как показали дальнейшие события, никогда ни в чем нельзя быть уверенным заранее, потому что в жизни имеют место удивительные повороты. Но пока судьба не совершила этот, ей одной понятный зигзаг и не направила Татьяну, взяв ее крепко за локоть, по непривычной дороге, Макс был уверен в своем превосходстве. И все же, хоть и не сразу, в душе у него возникло желание поставить Кольку на место: нечего изображать святую простоту, которой, по наивности, все можно! Когда наступил перерыв в танцах и любители потанцевать, крутившиеся на пятачке у дверей и в коридоре, разошлись по углам, а за окном громыхнуло с новой силой, отчего, казалось, содрогнулся весь дом, и девицы с визгом попадали на кушетку, словно это было самое безопасное место, Макс, жестом успокоив визгливую публику, пригласил всех к столу и неожиданно для Кольки, который жался в углу, усиленно заставляя себя в очередной раз не смотреть на Татьяну, а смотреть хотя бы на Семенову, стараясь найти в последней при всей ее яркости, может быть, крупицу того, что так привлекало его в Татьяне и чего, увы, в Семеновой не было, предложил и Кольке сказать тост.
– Пипл! А сейчас нам что-нибудь скажет Коля! – громко провозгласил Макс, словно объявлял концертный номер. И добавил: – Судя по его напряженному взору, он созрел!
«Чего-то затеял, черт дурной!» – подумал в этот момент Витька.
Выражение «он созрел» можно было понимать двояко: и как то, что Кольке действительно пора «молвить слово» – нельзя же молчать все время, здесь не похороны! – и как то, что он втюрился в Татьяну, что для любого наблюдательного человека было очевидно.
Оказавшись в центре внимания, Колька растерялся.
– Я?.. Нет, что вы! Я не умею… – Он напряженно оглядел собравшихся, встретился взглядом с Татьяной, которая неожиданно дружелюбно посмотрела на него, и окончательно смешался. – Нет, нет, пусть другие, у кого это лучше получается…
Но он не знал Макса, а от того так просто нельзя было отделаться. К тому же у Макса, решившего позабавиться, имелась цель: вытащить во что бы то ни стало Кольку на всеобщее обозрение, «на эстраду», как он это для себя называл, и, смотря по обстоятельствам, посмеяться над Колькиным косноязычием, если таковое обнаружится! – или поймать его на какой-нибудь банальности и припечатать острой шуткой, сделав таким образом объектом для всеобщего веселья.
– Что значит «другие»?! – воскликнул Макс, когда Колька заупрямился, и вкрадчиво стал объяснять: – За чужие спины, старик, прятаться нехорошо! Ты не в театре, куда пришел других послушать. Надо и самому немного поработать: воздать, например, должное щедрости хозяина (вон он у нас какой орел!) или красоте наших дам… – Макс нарочно обозначал темы возможных тостов – на проторенных дорогах легче сбиться на штампы и наговорить банальностей, и тот, кто попадает здесь впросак, выглядит особенно смешно. – Можно произнести тост за родителей. За мир во всем мире! За счастливое детство!.. У тебя же было счастливое детство? Ну там красный галстук, сбор металлолома, курение в школьном сортире, волнующие ножки молодой смазливой учительницы географии или ботаники, из-за которых мальчишки в классе роняют ручки на пол и лезут под парты, чтоб на эти ножки посмотреть… Можно, если хочешь, выпить за дружбу. Мужскую. Или женскую! За Аллу Пугачеву, наконец! Вон сколько всего старик, а ты упрямишься!
Колька мотал головой, отнекивался, но собравшиеся, настроенные Максом, дружно воспротивились его отказу, и Кольке пришлось подчиниться.
– Друзья! – Здесь Колька провел руками по лицу, как если бы умывался, и резко выдохнул воздух, словно хотел таким образом унять волнение. – Быть может, мои слова покажутся вам странными… Да и не мастер я гладко говорить… Но хочу поделиться сильным чувством… или потрясением, уж не знаю… Несколько дней назад я увидел картину. Точнее, это была репродукция… Правда, хорошего качества и к тому же большого формата – книга издана в Италии… До сих пор нахожусь под впечатлением… Вот ведь какое дело: как живая она передо мной! Закрою глаза и вижу – все-все, каждую мелочь… И внутри какая-то радость при этом… Картина эта – «Юдифь и ее служанка». Художник Боттичелли… Может, кому-то из вас доводилось ее видеть? – спросил Колька. Молчание было ему ответом. – Так вот, – продолжал он, – на картине изображена Юдифь, идущая по дороге… Кто она такая, вы, конечно, знаете… За нею шагает служанка, несущая на голове блюдо, на котором лежит отрубленная голова Олоферна, прикрытая куском ткани… От Юдифи, скажу я вам, невозможно оторваться. Позади страшная ночь, во время которой, спасая свой город от разорения, она принесла себя в жертву Олоферну, а после, опоив его вином, отрезала ему голову. И вот теперь, скрытно от стражи покинув стан врага, они торопятся уйти, Юдифь и служанка… Стремительная поступь служанки задает нервный ритм картине. Юдифь же сбивается с шага, не так стремительна… У нее отрешенное лицо, погасшие глаза, нет радости от содеянного… Лишь усталость и безразличие к самой себе… И все-таки ее лицо прекрасно! Книгу об этом можно написать… Я долго смотрел на эту картину, минут сорок, наверное, и чувствовал, что внутри происходит нечто такое, о чем невозможно рассказать… Тут и удивление, и благость какая-то, и восторг, и еще что-то… Я чувствовал в эти минуты… чувствовал, если хотите, близость к чему-то высшему, к Богу, что ли, или нечто в этом роде… «Как хорошо, – говорил я себе, – что существуют такие вещи… Как хорошо!»
Колька вдруг замолчал, смутившись, что говорит не слишком вразумительно. Ах, как ему хотелось быть сейчас красноречивым! Ведь красавица, сидевшая напротив, смотрела на него с явным любопытством. Правда, любопытство это было сродни интересу городского прохожего, наблюдающего за забавной уличной сценкой, но все же.
Если бы Колька умел складно говорить, то он бы сказал еще вот что: «Милые мои! Как прекрасно, что есть на свете живопись – одна из форм проявления человеческого духа, – которая сохранила для нас великое множество самых разных дел, лиц, событий, как больших, так и малых. Каждое полотно вдохновенного мастера – это как бы мосток, переброшенный из прошлого в настоящее, благодаря чему ныне живущие имеют возможность прикоснуться к другой, давно остывшей эпохе, могут ступить на ее зыбкие камни и тропы, глотнуть ее знобкого воздуха, увидеть, как блещут и сверкают великолепием несуществующие ныне мужские и женские наряды, подчеркивая красоту или духовную убогость тех или иных лиц, давно уже обратившихся в прах, как сверкают на этих нарядах всевозможные звезды, орденские ленты, аксельбанты, жемчуга и бриллианты – теперь уже утраченные, истлевшие, сгнившие в земле, сгоревшие в огне военных пожаров, ушедшие в морские глубины вместе с затонувшими испанскими галионами или все еще блуждающие по свету (особенно долговечны поделки из золота и драгоценных камней) и все еще пестующие не один преступный замысел и согревающие не одно женское сердце; как пестро выступают облаченные в тряпично-мишурный панцирь из тканей, кож, перьев нравы и обычаи ушедших эпох, вызывая в нас слезы умиления видом театральной галантности кавалеров, падающих в обморок дам, неспешных путешествий в каретах, маскарадных увеселений дворян, любовных игр пастухов и пастушек, брачных церемоний под сводами сверкающих позолотой церквей и костелов, где мерцают бесчисленные огоньки свечей и звучит, как послание Всевышнего, орган; или, столкнувшись с другими реалиями былого бытия, наполняемся мы гневом и скорбью, видя чудовищную жестокость, выразившуюся в четвертовании, оскоплении, вырывании языков, сожжении на кострах инквизиции, топлении в нужниках и других мерзостях, на которые всегда хватало человеческой фантазии, даже в наш просвещенный двадцатый век; войти в контакт с картиной – это значит ощутить в себе нечто общее с ушедшими поколениями в постижении идеи Прекрасного, в осознании нравственной потребности в Добре как внутреннем законе жизни, в понимании того, что Добро это, как и цветущий розовый куст, невозможно на пустом месте, что оно – плод бесконечных блужданий человечества между тьмой и светом, где цена обретения истины слишком высока, где за убеждения нередко приходится расплачиваться собственной плотью, которую рвут на части, испытывают острием кинжала, горечью яда, жаром раскаленных углей, ударом пули в затылок; ах, это чудо – живопись, дающая нам возможность заглянуть в день вчерашний и понять себя в дне сегодняшнем!»
Вот о чем бы сказал Колька, если б умел все это выразить словами. А он, помолчав, лишь коротко добавил:
– Давайте выпьем за «Юдифь и ее служанку!» Без таких чудес наша жизнь была бы унылой…
В комнате повисла тишина. И хотя Колька сказал не так много, но сказанного было вполне достаточно, чтобы озадачить Витькиных гостей, не ожидавших такой серьезно-исповедальной ноты в столь несерьезной обстановке вечера. Многим была непривычна искренность, с какой говорил Колька, и даже неприятна. Почему он заговорил о картине Боттичелли, поразившей его, а не о чем-то другом, Колька и сам не знал. Как-то накатило, и все. Возможно, присутствие Татьяны было тому причиной. Как бы то ни было, но слова были произнесены, и все теперь озадаченно молчали.
– Впечатляет!.. Юдифь, отрезанная голова… Круто! – пробормотал Макс, раздосадованный всеобщим молчанием, которое расценивал как маленький Колькин триумф, в то время как он, выпуская Кольку «на подмостки», рассчитывал совсем на другой эффект. Требовалось сделать ответный ход, чтобы вернуть корабль застолья, так удачно плывший весь вечер под звездою Макса, на прежний путь.
И тут вылез Витька, словно почувствовав беспокойство Макса и желая ему помочь.
– Мужики! Нужно беречь свои удалые головы! – воскликнул он.
Макс одобрил его взглядом и сказал с усмешкой:
– Если продолжить высказанную мысль, мы можем выпить за «Данаю» г-на Рембрандта! – и взглянул на Кольку: – Я правильно понял?
– И за «Боярыню Морозову» г-на Сурикова! – подхватил, как попугай, Витька.
– Ну, если хотите, можно и так… – ответил Колька.
Гости оживились, загалдели.
– А что, оригинально! – воскликнула Семенова. – Каждый пьет за свою любимую картину. Для меня это – «Голубка» Пикассо!
– Это не картина, а рисунок, – пояснил парень в очках и свитере.
– Тогда я выбираю лилового «Демона» Врубеля!
– Ты уверена, что он лиловый? – спросил бородач. – Есть «лиловый негр», но это из другой оперы… Ты не путаешь?
– Нет, «Демон». И лиловый!
– Я всегда знал, Семенова, что тебя привлекают мужики с Кавказа! – засмеялся Макс.
– А я выпью за натюрморты, – потянулся к рюмке бородач, – за натюрморты с хорошей жратвой!
– А мне нравится «Утро стрелецкой казни», – заявила глубокомысленно пухленькая девица с ямочкой на подбородке, желая показать, что она тоже не лыком шита. – Очень выразительно!
– «Утро стрелецкой казни»? Ну, ты даешь! – дернулся на стуле Витька. – Извини, детка, у тебя отец, случаем, не в органах работает? Может, пытал в свое время невинных обывателей в подвалах на Лубянке?
– Что ты плетешь! – обиделась девица. – Мой папа юрист!
– А моя любимая картина, – сказал парень в очках и свитере, – «Брежнев на Малой земле».
– Ну уж, не увлекайся! – воскликнул бородач. – Это не только твоя любимая картина, это любимая картина половины нашего города!
– А мне нравится «Девочка с персиками», – сказал прыщавый блондин, приятель Макса. – И еще – «Девочка на шаре». И вообще я люблю девочек…
– И не только на шаре! – ухмыльнулся Витька.
– Витька, перестань, не говори пошлостей! – оборвала его Сима. – Ты же совсем не такой, каким хочешь казаться.
– А тебе что нравится? – спросила Семенова у молчащей Татьяны. – Какая картина?
Татьяна взглянула в угол, куда опять засел Колька, пожала плечами:
– Придумай название сама.
– Ну что ж, – поднялся с рюмкой Макс, веселым взглядом окидывая сидящих вокруг стола, – благодаря Коле у нас получился «живописный» тост… Выпьем!
Опять загалдели, стали чокаться с Колькой. Макс потребовал, чтобы тот выпил до дна. Колька подчинился, благо перед этим налил себе в рюмку чистой воды из кастрюли, стоявшей на столе для запивки, в которой плавали кубики льда.
Макс был очень доволен, что все опять оживилось, зашумело, пришло в движение – и люди, и бокалы, и тарелки с закусками, и праздные разговоры – словно погас красный свет на светофоре и загорелся столь желанный зеленый. Пирушка покатилась дальше.
Макс продолжал управлять застольем. О Кольке он как будто забыл, но так только казалось. Он отлично видел все, что ему требовалось: и как девчонки секретничают в углу по его поводу, и как пресытившийся бородач ведет мучительную борьбу со сном, и как Колька – теперь уже редко, но все же нет-нет да и посмотрит на Татьяну.
Появись здесь человек со стороны, трезвый, отличающийся наблюдательностью, он тут же бы понял, что Макс лишь делает вид, что забыл о Кольке, на самом же деле все время держит его на острие своего внимания. Тот же сторонний наблюдатель несомненно заметил бы, как Макс несколько раз выразительно переглядывался с прыщавым блондином и тот, понимая этот немой язык, тут же брал в руки бутылку с водкой и наполнял Колькину рюмку, предлагая последнему выпить, чокался с ним, смотрел Кольке в рот, требуя, чтобы тот пил обязательно до дна, и обижался, если Колька отнекивался и тянул время. Раза два или три Кольке удавалось обмануть своего «опекуна» и незаметно заменить водку на воду, но пару рюмок все же выпить пришлось.
Через некоторое время, решив, что прыщавый блондин влил в Кольку достаточное количество спиртного, Макс опять затеял свою игру.
– Старик! – сказал он проникновенно, наклоняясь к Кольке. – Скажи еще, а мы послушаем. Давай, не стесняйся. У тебя же талант! – и не дожидаясь Колькиного согласия, поднял вверх руку и попросил тишины.
И хотя слова Макса по поводу таланта приятно тешили Колькино самолюбие, тот все же почувствовал, что у Макса есть какой-то корыстный умысел. Колька стал отказываться, но Макс настаивал, и гости навалились с уговорами, и парню пришлось подчиниться.
– Ладно, – вздохнул Колька и поднялся со стула. Голова его несколько отяжелела от выпитого, но он держался.
– Здесь сидит девушка… Вот напротив меня, – и кивнул на Татьяну. – Это Татьяна… Прошу всех выпить за нее! – Колька окинул строгим взглядом собравшихся. – Пусть ей светит удача!.. И еще… Смотрю на нее и думаю: бог ты мой, а может, это моя будущая жена – кто знает? Жизнь непредсказуема! Может быть, судьба не зря свела нас за этим столом… – и повторил, волнуясь, с серьезным лицом: – Может быть, не зря.
Кто-то присвистнул, и в комнате наступила тишина. Было слышно, как шумит за окном дождь, упруго барабаня по карнизу, и где-то в недрах дома ноет, свистит, скрежещет электродрель, ведя свою мучительную борьбу с крепостью невидимой стены.
Надо было видеть в эту минуту лицо Макса, потрясенного столь откровенным заявлением.
Изумлена была и Татьяна, хотя, впрочем, быстро овладела собой и, надменно поведя плечиком, что-то буркнула в сторону, вроде того: что за чушь!
– Слышь, Микола… – пробормотал Витька, потрясенный не меньше Макса, – ты это, того… ничего не перепутал? Может, ты имел в виду Семенову? Или Симку? Может, с одной из них тебя судьба не зря свела за этим столом? Поверь, я не против… – чувствовалось, что он хочет как-то разрядить обстановку.
– Нет, – глухо, но твердо отозвался Колька.
Макс наконец оправился от потрясения и похлопал в ладоши, призывая гостей оценить сказанное Колькой как шутку.
– Браво-браво! Давайте выпьем… и поздравим будущих супругов! – Он жестко взглянул на Кольку. – Просто так выпьешь, старик, или хочешь, чтобы мы крикнули «горько»? Давайте, дамы и господа, в один голос… три-четыре: горько!
– Дураки какие-то! – рассердилась Татьяна. – Макс, кончай эти глупые шутки…
Она поискала глазами воду на столе, схватила первый попавшийся фужер – это оказался тот самый, куда Колька потихоньку сливал водку, которую подливал ему прыщавый блондин, – глотнула раз-другой, поперхнулась, закашлялась и, мучаясь, не зная, как перебить жжение во рту, выбежала из комнаты.
Макс посмотрел на Кольку, развел руками:
– Извини, приятель, с «горько» придется немного подождать…
Как развивались события в следующие несколько минут, Колька запамятовал… Макс, кажется, вышел за Татьяной… или нет, за Татьяной выбежала одна из девиц… Витька же включил на полную мощность музыку, и некоторые из гостей стали танцевать. А вот что Кольке запомнилось хорошо, это как Витька, водрузив на голову стереоколонку и пританцовывая, ушел с Симой в коридор. Перед этим он выразительно посмотрел на Кольку и покрутил пальцем у виска: идиот!
В общем, еще какое-то время танцевали, дурачились, хотя уже без прежней энергии, потому что к этому моменту порядком подустали.
Колька уже собрался уходить домой, вылез из закутка между книжным шкафом и телевизором, где сидел… И тут его словно черт дернул. Он приблизился к Татьяне, вернувшейся к столу, и хмуро проговорил: «Есть предложение – сбацать!» Он так и сказал. «Будь что будет, – решил он, – если откажет – уйду».
Татьяна, глотнувшая ненароком водки, а потом еще и выпившая шампанского, раскрасневшаяся, повеселевшая, утратившая свою надменность, неожиданно приняла его предложение. Она вышла из-за стола и вслед за Колькой протиснулась на пятачок к дверям, где топтались танцующие.
Поведение Татьяны окончательно доконало ее приятеля. Макс тут же удалился на кухню, чтобы не быть свидетелем столь прискорбного падения любимой девушки.
Колька же, оказавшись в непосредственной близости от Татьяны, погрузился в запах ее волос, пахнущих цветами, а ощутив тепло ее тела, увидев маленькую темную родинку на мочке левого уха, совсем потерял голову. Он смотрел и смотрел на нее, теперь уже не стесняясь, и был счастлив от того, что она была рядом. И молчал. Молчала и Татьяна, посматривавшая на него с веселым любопытством… Очнулся Колька лишь тогда, когда музыка стихла и наступила долгая пауза. Это кончилась кассета, а новую Витька, обнимавшийся с Симой в коридоре у вешалки, ставить не спешил. Танцующие покинули пятачок и рассредоточились по углам.
И тут Колька, не успевший отвести Татьяну на ее место, увидел Макса. Тот стоял в глубине коридора напротив распахнутой в комнату двери, похожий в лучах бокового света на каменное изваяние – этакий командор из «Каменного гостя», явившийся за Дон-Жуаном, – и манил Кольку пальцем. Колька обреченно вздохнул и поплелся на зов, извинившись перед Татьяной за то, что вынужден ее оставить на некоторое время.
Выйдя в коридор, он послушно проследовал вслед за Максом в ванную комнату.
В ванной комнате был жуткий беспорядок, словно минуту назад здесь производили обыск. Повсюду валялись банные и косметические принадлежности, различные тюбики, флаконы, дезодоранты, шампуни, разноцветные губки из пенопласта, из каждого угла торчали смятые махровые полотенца – их было штук десять, не меньше, на полу горбатился банный халат, упавший с вешалки.
Макс встал у овального зеркала в изящной белой раме, висевшего над раковиной. Он был непривычно серьезен. Глянув коротко через его плечо в зеркало, Колька увидел за своей спиной прыщавого блондина, вошедшего вслед за ними и плотно прикрывшего за собой дверь. «Значит, их двое», – подумал Колька. Макс угрюмо смотрел на него, чего-то выжидая. Молчал и Колька. А ему-то что? Это у Макса есть к нему вопросы – пусть задает. Сколько длилось молчание – секунд десять, двадцать? – сказать трудно, но Кольке оно показалось мучительно долгим. Наконец блондин шевельнулся и, сделав обманное движение, ударил Кольку кулаком в бок… Колька, не удержавшись на ногах, с грохотом повалился в ванну, ободрав при этом о мыльницу щеку. Падая, он успел заметить, что ванна на две трети наполнена водой, и задержал дыхание, чтобы не захлебнуться. Завалившись на спину, он попробовал было выбраться из воды, но не смог – блондин и Макс крепко держали его за руки и шею, не давая ему подняться. Осознав это, Колька перестал вырываться и затих, решив держаться, покуда хватит воздуха.
Озадаченные его пассивностью, Макс и блондин переглянулись. Оба не на шутку перепугались, думая, что Колька захлебнулся. Прыщавый тут же выдернул Кольку за шкирку из воды. Колька только этого и ждал – жадно глотнул воздуха, раз-другой… Убедившись, что с жертвой все в порядке, сообщники с облегчением перевели дух. А Колька, отдышавшись, глухо бросил: «Ну чего же вы медлите, суки? Топите!..» Услышав это, блондин пихнул его обратно под воду, а Макс, раздосадованный Колькиной выдержкой, ударил его два раза кулаком в живот, оказавшись в воде, Колька, как и в первый раз, не сопротивлялся, лишь опять задержал дыхание. Противники, устав взирать на инертно лежащее в воде тело и побаиваясь передержать его там, наконец отпустили свою жертву. Колька вылез из ванны, тяжело дыша и отплевываясь.
– Тебе, говнюк, полезно было искупаться, а то твои шутки дурно пахнут! – сказал Макс. – В другой раз будешь думать, прежде чем тянуть руки к чужому…
– Я рад, что вы довольны, жлобы! – устало отозвался Колька.
Он снял с вешалки полотенце и стал вытирать мокрую голову.
– Вот и прекрасно! – воскликнул Макс. – А скажи, умник, почему ты не сопротивлялся, когда мы тебя топили.
– А зачем?
– Вдруг мы тебя и вправду бы утопили?
– Не утопили бы, кишка тонка!.. Вон вы какие, сытые, холеные… Тюрьмы, поди, как огня, боитесь. А в зоне дадут пилу и вперед – лес валить! Это еще хорошо, с пилой, а то и вышку можно схлопотать!.. Не-ет, вы лучше водку будете глушить в компании со сладкими девочками, это куда приятнее! Вот подломать какому-нибудь бедолаге, вроде меня, пару ребер или челюсть ему на сторону свернуть – это вы пожалуйста… – Колька снял куртку, рубашку, отжал и то и другое и, встряхнув, опять надел на себя. – У вас для серьезного дела пороху не хватит! Особенно у дружбана твоего прыщавого…
– Ну ты! – взвился блондин.
– Чего «ну ты»?! Он-то вроде Татьянин парень, а ты кто? Гнида на побегушках?.. – Колька повесил полотенце, опять повернулся к Максу: – Ну нравится она мне, нравится! Что ж мне за это, башку отстрелить надо?
– Ладно, – хмуро покривился Макс. – Если мы такие злодеи… чего ж ты в таком случае не сопротивлялся? Со злом, старик, бороться надо, ведь так? Его надо искоренять, зло-то! Красный галстук в школе, поди, носил, клятвы давал: быть всегда впереди! Так что же ты?! Борись!
– Я и борюсь… Только мы с тобой по-разному эту борьбу понимаем… Человек ты, видно, образованный, книжек много прочел… Но не все знаешь…
– Послушай! – всплеснул руками Макс. – Ты случаем не из числа последователей Махатмы Ганди? Тот тоже отрицал насилие как способ борьбы…
– Кто такой Ганди, знаю плохо и с его учением не знаком. Но, видимо, неглупый был мужик, судя по твоим словам.
– Давай, давай! – Макс хлопнул Кольку по плечу. – Тебе будут кишки выпускать, а ты пой: «Широка страна моя родная!»
– Ну что ж… Тебе мои кишки потом всю жизнь сниться будут. Кошмары замучают!
– У меня, старик, нервы крепкие, мне кошмары не снятся.
И, утратив интерес к разговору, Макс удалился как победитель. Прыщавый блондин последовал за ним.
Оставшись один, Колька устало посмотрел на себя в зеркало. Пригладил влажные волосы. Обмыл водой кровоточащую царапину, промокнул ее туалетной бумагой.
Когда он вернулся в комнату, потревожив по дороге какую-то целующуюся в коридоре пару, там продолжались танцы. В комнате был полумрак (горел лишь один торшер в углу), к тому же многие были в подпитии, на Колькин помятый вид никто не обратил внимания. Только Татьяна, взглянув на него, сразу обо всем догадалась.
– Зачем ты это сделал? – спросила она Макса, минутой ранее присевшего рядом.
– Ты о чем? – прикинулся непонимающим тот.
– У него кровь на щеке… Вы подрались?
– Ну что ты, малыш! Мы же интеллигентные люди… Просто поговорили.
– А кровь?
– Не знаю. Наверное, сам споткнулся в коридоре.
– Не ври!
– Спроси у него… Эй, старик! – позвал он Кольку и, когда тот подошел, спросил: – У тебя есть ко мне претензии?
– Нет.
– Вот видишь. – Макс ясно взглянул на Татьяну.
– Слушай, отдай ее мне, – вдруг сказал Колька, заглядывая Максу в глаза. – Ты с ней просто так… А я… Я в жены ее возьму…
– Чего?! – Макс побелел от ярости. – Ну ты и наглая скотина!
– Отдай…
– Что вы здесь болтаете! Я вам не вещь! – возмутилась Татьяна. – Ты бы для начала меня спросил, хочу я этого или нет, – сказала она Кольке.
– Ну спросил…
Татьяна отрицательно покачала головой…
Вспоминая сейчас ее лицо в ту минуту, освещенное боковым, не очень ярким светом, пренебрежительно кривящиеся губы, напряженно светящиеся глаза, Колька улыбнулся и почувствовал, как стало тепло у него на душе. Все-таки он ей тогда приглянулся, что ни говори!
Тут же ему припомнилась их вторая встреча, она была случайной и произошла два дня спустя. Случилось это в Третьяковской галерее, куда Колька привел на экскурсию своих товарищей по цеху. Об этом следует рассказать поподробнее.
Колька был инициатором этого культпохода и готовил его долго и тщательно. Очень уж ему хотелось, чтобы ребята из цеха хоть немного приобщились к прекрасному. А то все разговоры про футбол, да еще про выпивку, ну и про баб, конечно, – сколько можно! Иногда, правда, мужики постарше любили порассуждать на политические темы, но и эти разговоры чаще всего были пустой болтовней. Одним словом, никакой работы для души! А ведь они живут в Москве, и рядом с ними, если вдуматься, целые залежи художественных сокровищ: и Крамской, и Куинджи, и Левитан, и Репин, и Врубель, и Маковский, и еще множество других. И чтобы прикоснуться к этому чудесному источнику, нужно лишь сделать небольшое усилие: выбрать время в один из выходных, сесть на метро и доехать до галереи.
Колька начал сколачивать группу. Собрать желающих оказалось не так просто. У всех находились уважительные причины, чтобы не пойти: то свидание с девушкой, то поездка за город, то опять злосчастный футбол, то день рождения родственника, то встреча с армейским другом, который в городе один день проездом, то уже куплены билеты на концерт, и так до бесконечности. Сразу согласился один лишь Толя Подсечкин. Тот вообще был человек серьезный: не пил (по принципиальным соображениям), много читал (читал, правда, в основном детективы, но все же!), случалось, ходил с женой в театр. Больше всех пришлось уговаривать непутевого Збруева. «А на кой хрен мне твоя галерея? Я лучше в это время с Митькой, соседом, пару пузырей опростаю! У нас сейчас в магазине такая бормота в наличии – пальчики оближешь!» – «Ладно, – возбужденно говорил Колька, – бормоту в воскресенье будешь сосать, а в субботу пошли живопись смотреть! Это же интересно, дурья башка, ты даже себе не представляешь!..» – «Ну чо там интересного… Я твои картины по телевизору могу смотреть – показывают из музея… – сопротивлялся Збруев. – По телеку даже лучше – сытнее: налил в тарелку борща и гляди!» И он хрипло засмеялся. «Чудило! – вздыхал Колька. – Живопись надо смотреть вживую, в картинных галереях или на выставках…» – «Ну чо я там не видел. Там же сплошное вранье, как и в жизни! А мне это вранье жевать надоело! У меня от него запор и газы в желудке!» – «Да пойми ты, там же художники гениальные! А они не врут!» – не сдавался Колька. «Все врут, и твои художники тоже, потому что жрать хотят, как и все прочие!» – «Ты же ни разу там не был, откуда же ты знаешь?.. Пошли, не упрямься, тебе понравится, вот увидишь», – напирал Колька. «Слушай, отстань! Дай-ка лучше трояк. Что-то в горле пересохло, надо промочить». И все-таки Колька его уговорил. С третьего, правда, захода, но уговорил. В общем, набралось семь человек, и в субботу двинулись в Третьяковку. За Збруевым Колька специально заехал домой, чтобы тот не сбежал куда-нибудь по дороге. Ровно в девять утра позвонил в дверь. Открыл ему сам Збруев, на удивление гладко выбритый, в чистой белой рубашке и, что самое ценное, с ясными глазами – видимо, накануне винищем не упражнялся. Сзади стояла полная молодая баба, збруевская жена, и ехидно посмеивалась. «Чего это она?» – спросил Колька, когда они уже спускались по лестнице. «Да ну ее к черту! – отмахнулся Збруев. – Вчера как узнала, что мы в Третьяковку идем, весь вечер ржала, кобыла недорезанная! Все подначивала… Ты, говорит, лучше в планетарий иди – там темно, а то в Третьяковке как твою рожу увидят, сразу все разбегутся! Ну чего с нее возьмешь – некультурная баба!»
Колька водил своих подопечных по залам часа три. Останавливался у любимых картин и подробно рассказывал все, что знал про них. Мужики внимательно слушали. Даже задавали вопросы. И Колька, как заправский экскурсовод, отвечал. И, странное дело, никто домой не рвался. Чувствовалось, что всем интересно. И охальнику Збруеву тоже. Лишь однажды тот спросил с хитрым прищуром: «Слушай, Микола, а ты случаем не стукач? Тебя не с Лубянки к нам на завод внедрили?» У Кольки челюсть отвисла от подобных вопросов. «Ну что ты несешь! – поморщился он. – С чего это вдруг?» – «Слишком много знаешь, – ухмыльнулся Збруев. – И откуда это в тебе? Вроде наш – работяга.» – «Просто я живопись люблю, – сказал Колька, читаю про художников… – и рассердился на Збруева: – Вечно ты какую-нибудь гадость выплюнешь!.. Знаешь что, если не нравится – вали домой, тебя никто не держит!..» – «Ну вот, – протянул Збруев с невинным выражением на лице: – толкаешь обратно в гнилое болото! Только человек слегка отряхнулся, немножко обкультурился, забыл на время о водяре, и на тебе!.. Ладно, не обижайся. А если честно: нажрусь я сегодня в лататы, ей-богу!» – «Зачем?» – удивился Колька. «Больно на все это смотреть! Сколько талантов больших! Что ни картина – нож по сердцу. Смотрю и думаю: это надо же, каких высот люди достигли!.. А я вот – всего лишь тварь никудышная, бездарен, как платяная моль! Конечно, не я один, таких много… Да от этого не легче, сам понимаешь… Крутимся, как черви в навозе! Врем, а в перерывах «ура» кричим…» Збруев тяжело опустился на красный плюшевый диван в центре зала и прикрыл лицо руками. Цеховые присели рядом – заняли весь диван. Сидели молча, боясь потревожить Збруева, отдыхали, глазея по сторонам. «Ладно, пошли дальше…» – поднялся наконец Збруев, и все гуртом устремились в соседний зал. И вот в соседнем зале, когда парни топтались у картины Сурикова «Боярыня Морозова» и Колька вдохновенно рассказывал историю ее создания и о том, какая борьба развернулась вокруг «Боярыни» в печати в начале 1887 года в связи с ее появлением на XV Передвижной выставке, он вдруг увидел Татьяну. Она стояла поодаль в компании Макса и неизвестного Кольке мужчины в очках, разговаривавших друг с другом, и пристально смотрела на Кольку. Лицо ее выражало обычную холодность и свойственную ей надменность, но в глазах светился живой интерес. Сочетание того и другого придавало сейчас ее красоте особую прелесть. Так, по крайней мере, показалось Кольке. Встретившись с девушкой взглядом, он приветственно кивнул ей, тут же смешался, покраснел и умолк, оборвав свою речь на полуслове. Ребята из цеха дружно, как по команде, повернули головы и посмотрели туда, куда смотрел он.
– Породистая лошадка! – присвистнул кто-то.
– Да, пупсик… – поддержал Збруев.
– Кто такая? – поинтересовался Подсечкин, пощипывая свою шкиперскую бородку, увидев, что Колька смутился.
– Да так… знакомая… – глухо выдавил Колька.
– Этот сахар, Коля, тебе не по зубам – не облизывайся! – сказал Збруев и сочувственно вздохнул. – Тугриков не хватит, чтоб такую упаковать. Так что, замри в своем окопе и не рыпайся.
Колька цромолчал.
– А кто ее спасет? – спросил через мгновение Збруев. – Очкарик? Или тот, бойкий? Не нравится мне этот фраер…
В эту секунду Макс, словно почувствовав, что говорят о нем, оглянулся и увидел Кольку. Узнал его, это Колька определил по легкому движению бровей соперника, но на лице Макса не отразилось ничего, как если бы он смотрел на пустое место. Колька же кивнул ему, как до этого кивнул Татьяне, только сделал это, конечно, с меньшим энтузиазмом. Макс не ответил на приветствие, что-то сказал мужчине в очках и, взяв Татьяну за локоть, увлек ее в другой зал. Уходя, Татьяна обернулась, чуть дольше положенного задержав на нем взгляд. Она как будто хотела извиниться за их столь поспешный уход, похожий на бегство. Это походило на маленький заговор против Макса. У Кольки приятно заныло в груди, потом запела в душе какая-то труба, наполняя его музыкой надежды, и ему с необыкновенной пронзительностью вдруг стало ясно, что он должен бороться за эту девушку, чего бы это ни стоило. По крайней мере, есть шанс! – так расценил он этот взгляд Татьяны. Глупо улыбаясь, Колька стоял внутри людского потока, который не спеша кружил по залу, двигаясь от одной картины к другой, словно ручей, перетекающий с камня на камень, и чувствовал такой прилив энергии, что ему стало казаться – сделай он одно внутреннее усилие, встряхни себя, и границы между реальностью этого зала и реальностью любой из картин утратят незыблемость, размоются, и он сможет взбежать на московскую улицу семнадцатого века, изображенную на картине Сурикова, запрыгнет на бегу на закорки саней, в которых везут опальную боярыню, и понесется вместе с нею по городу под свист и гогот улюлюкающей толпы и под ее же, толпы, скорбное молчание; или же, сделав шаг в сторону, войдет под низкие своды сибирской избы, где в окружении детей сидит ссыльный Меньшиков, серебрясь седой щетиной на впалых щеках, тупо уставившись в пространство, и присядет здесь на лавку у оконца; или же шагнет в серое утро на Красной площади, где все готово для казни взбунтовавшихся стрельцов, втиснется в толпу и, затаив дыхание, будет наблюдать, как готовятся к смерти осужденные, как строг и безжалостен молодой царь Петр, сидящий верхом на лошади, возвышающийся над головами бояр и иностранцев, приглашенных на казнь… И это удивительное чувство вседоступности любого из времен, охватившее Кольку в эти минуты, волновало его и пьянило, а в сознании фосфоресцировало лицо Татьяны, каким оно было, когда она взглянула на него, покидая зал…
Но вернемся из прошлого в день сегодняшний.
Колька не торопясь съел яйца. Заварил крепкий чай. Ему вспомнилось, как Татьяна часто ругала его за любовь к крепкому чаю, считая, что он ведет себя легкомысленно. «Нельзя же так, – говорила она со строгой гримаской на лице, – ты чифиришь, как зэк, погубишь свое сердце!.. У тебя к тридцати пяти вместо сердца будет…» – «Пламенный мотор!» – подсказывал Колька. «Жеваная резина!» – сердилась Татьяна.
Радио на кухне громко и радостно рассказывало о преимуществах бригадного подряда на селе, обещая в очередной раз продовольственное изобилие, потом сообщило о поездке партийно-правительственной делегации в Китай, поведало о последних событиях на ирано-иракском фронте, где за прошедшие сутки, по сообщению воюющих сторон, каждой удалось существенно потеснить противника. И еще о многом рассказало радио, но Колька его не слышал.
Прихлебывая горячий чай из кружки, он стал думать о своем отпуске, который начинался с понедельника. В паспорте у него вместе с деньгами лежала путевка на туристический теплоход, следующий по маршруту Москва – Астрахань и отправлявшийся завтра утром.
Весь вечер накануне и все сегодняшнее утро в Кольке зрело желание повидать перед отъездом сына, и он решил во что бы то ни стало осуществить его. Хорошо бы, конечно, взять малыша с собой в поездку – пусть бы посмотрел Волгу, старые русские города, людей, живущих там, – но это, увы, пустые мечты: теща скорее сделает тебе харакири, чем позволит ему увезти Павлика! Но повидать сына он должен – просто кровь из носу! Несмотря на все козни противоборствующей стороны. Сколько же они не виделись? Скоро три месяца будет! Бедный малыш, поди, уже начал его забывать… К черту! Пора действовать более решительно, если он не хочет потерять сына. «Так, у нас сегодня суббота, – прикинул Колька, – следовательно, они всей семьей на даче… надо ехать в «Мулен Руж» и попытаться всеми правдами и неправдами вырвать Павлуху хотя бы на пару часов!»
«Мулен Ружем» Колька называл дачу, находившуюся в сорока километрах от Москвы и принадлежавшую его бывшей теще. Впервые ее так «обозвал» один из поклонников Анастасии Львовны, крепкий мужчина лет пятидесяти пяти, с загорелым лицом, с коротко подстриженными седыми волосами, по-спортивному подтянутый, работавший директором одного из крупнейших концертных залов. «Вот это хоромы! Прямо, «Мулен Руж» какой-то, честное слово! – воскликнул он восхищенно, впервые появившись на даче и разглядывая крепкое двухэтажное строение, высившееся перед ним во всей красе. – Да что там «Мулен Руж»! – Он взмахнул рукой, увидев довольную улыбку на лице Анастасии Львовны. – «Мулен Руж» – унылая хибара по сравнению с этим сочинением!» Награждая дачу подобным именем, седой поклонник хотел подчеркнуть ее великолепие и польстить хозяйке.
От того же седого поклонника Колька потом узнал, что так называется знаменитое кабаре в Париже с мельницей на крыше. Впоследствии, разглядывая репродукции с картин импрессионистов, он не раз встречал эти два магических слова «Мулен Руж» («Красная Мельница»), фигурировавшие в названиях некоторых из них.
Кольке сказанное поклонником Анастасии Львовны необыкновенно понравилось, и с тех пор он называл дачу не иначе как «Мулен Руж», вкладывая в это название свой, особый смысл. С легкой Колькиной руки вскоре и все домашние стали называть так дачу, даже Анастасия Львовна.
Что же представлял собой «Мулен Руж»? Как уже говорилось, это было большое двухэтажное строение в духе дачных построек тридцатых годов с резной красивой башенкой в центре крыши (она-то, по-видимому, и высекла в сознании служителя концертных муз прихотливую ассоциацию с мельницей на крыше парижского). По внешнему виду дома чувствовалось, что архитектор, а следом за ним и строители не стремились отобразить в его облике своеобразие модных современных форм, но делали все разумно, основательно и со вкусом.
Дом стоял на окраине дачного поселка, основанного сразу после войны; за ним был крутой обрыв, устремлявшийся к небольшой, но глубокой речушке, которая по счастливому отсутствию на ее пути промышленных предприятий сохранила первозданную чистоту и прозрачность. Со всех сторон дом и участок были окружены высоким глухим забором, выкрашенным в темно-зеленый цвет; забор тянулся и вдоль обрыва, по самому его краю, откуда при желании не смог бы забраться ни один злоумышленник, разве что с навыками альпиниста. Справа по соседству находилась дача известного профессора-кардиолога, который жил здесь каждое лето в обществе домработницы и жены, благородной седой дамы, а также большой угрюмой собаки непонятной породы, свободно разгуливавшей по двору и косившейся на прохожих темным мрачным глазом; с левой стороны, сразу же за забором, начинался большой фруктовый сад, принадлежавший местному совхозу и тянувшийся в длину более километра.
В доме имелись все удобства: газ, вода, ванная, туалет – в общем, все, как в городе. Ванная и туалет – больших размеров, выложенные кафельной плиткой. Чувствовалось, что бывшие хозяева, у которых Анастасия Львовна и ее покойный муж приобрели этот дом, строили его на века, но потом, как это нередко бывает, радужные мечты были перечеркнуты какими-то серьезными неизвестными нам обстоятельствами, коих во время строительства не было и в помине и которые впоследствии вынудили хозяев продать свое детище.
Колька приезжал в «Мулен Руж» раза два или три до женитьбы, в то самое время, когда Анастасия Львовна возлежала в обществе приятелей и приятельниц на морском берегу в Пицунде, а их роман с Татьяной, набирая скорость, мчался, словно курьерский, навстречу неизведанному, навстречу, как тогда казалось, счастью, наполняя грудь приятным холодком, а голову не менее приятным головокружением, отчего Колька ходил, как во сне; потом он бывал здесь неоднократно после рождения сына, когда в их отношениях с тещей наметилось просветление, казалось, еще немного – и истончившаяся облачная пелена расползется, как обветшавшая ткань, и в образовавшуюся щель хлынут стремительные лучи солнца, освещая мрачный пейзаж взаимного непонимания ярким живительным светом, но, увы, этого не произошло, и вскоре опять небо над головой заволокли тяжелые свинцовые тучи.
Кольке этот дом нравился и не нравился одновременно. Нравился потому, что напоминал ему о тех счастливых минутах, которые они провели здесь вместе с Татьяной, когда чувство тихой радости, возникавшее в нем каждый раз после их близости, удивительным образом преображало окружающее, окрашивая его в какие-то розово-идиллические тона, размывая реальность и смещая пропорции предметов, делая милыми сердцу даже те из них, какие обычно не вызывают никаких светлых чувств, а только раздражают и злят; а не нравился тем, что дом угнетал его, подавлял своей роскошью (быть может, потому, что у них с покойной матерью ничего подобного не было – они всегда жили скромно). Кольке было не по себе от обилия вещей, собранных здесь, как в музее, от всех этих антикварных ваз, бокалов из хрусталя, серебряных блюд и подсвечников, бронзовых статуэток, выглядывающих изо всех углов и оседлавших старинные часы на камине и подставки массивных настольных ламп, фарфоровых супниц, кофейников, чашек, молочников (фарфор был дорогой – кузнецовский или привозной, мейсенский), старинных резных кресел, диванов, этажерок, канапе, и все это сосуществовало со множеством современных безделушек (с различными заграничными пепельницами, зажигалками, куколками, брелоками) и многочисленной геле- и радиоаппаратурой японского производства.
Пожалуй, единственное, что согревало Колькину душу в этих стенах, – это несколько живописных полотен, висевших на первом этаже в гостиной. Среди них – небольшой, с ладонь, этюд Левитана (подлинник) и две средних размеров картины маслом, изображавшие ночной Париж, автором которых являлся Коровин (тоже подлинники). Одно их присутствие в доме доставляло Кольке настоящую радость, и когда он глядел на них, то всякий раз остро чувствовал, что здесь, в этой комнате, ощутимо витает дух создателей этих полотен, отчего мурашки бегали у него по спине.
Однажды в отсутствие Анастасии Львовны Колька привез на дачу приятелей из цеха: ему хотелось показать им эти подлинники, вызывавшие у него священный трепет; нигде, ни на одной выставке, где ему удалось побывать, картины не были так доступны, здесь их можно было снять со стены, повернуть к свету и разглядывать сколько душе угодно – такая близость к картине рождала особое, ни с чем не сравнимое чувство. Ребята, подавленные богатством обстановки, сняв обувь, ходили на цыпочках из комнаты в комнату, шепотом переговариваясь, словно в доме был покойник. Даже Костя Барыбин, человек бывалый, депутат райсовета, обычно многоречивый и уверенный в себе, и тот как-то притих, глазея по сторонам и чувствуя себя здесь нищим парией… Неожиданно появилась хозяйка, Анастасия Львовна, и устроила Кольке скандал: «Зачем в доме эти люди? Это, между прочим, не музей, а частная собственность!» И предложила Кольке с товарищами убираться. «Нечего сюда лимиту таскать!» – прошипела она по-змеиному зятю в ухо. «Я хотел им показать, – стал оправдываться Колька, – Левитана и Коровина…» – «Ну вот еще, просветитель нашелся! Кампанелла вшивый! – возмутилась Анастасия Львовна. – А если один из них жулье сюда приведет?..» Колька увлек ее в другую комнату, стараясь успокоить. Та отбивалась от него своими большими мясистыми ладонями. Завязалась борьба. Не устояв на ногах, оба свалились на пол. Колька оказался сверху, лежал на Анастасии Львовне, сдерживая ее разбушевавшиеся руки. Лица их были близко друг к другу. Колька смотрел в ее полыхающие яростью глаза, красивые, как у дочери (и вообще сейчас, когда она была в гневе, ему вдруг открылось их поразительное сходство с Татьяной), вдыхая запах французских духов, исходивший от ее щек и шеи, и вдруг почувствовал, как на него накатывает дурман и он теряет голову, и она неожиданно смякла, поддалась ему, еще чуть-чуть – и все бы закончилось близостью между ними, но тут Колька с трудом все же овладел собой, оторвался от ее тела, поднялся на ноги и тут же вышел за дверь, устремляясь к приятелям, которые поджидали его на крыльце, переминаясь с ноги на ногу.
Но вернемся к вещам, которыми был забит дом. Кольке всякий раз казалось, что вся эта многочисленная орава вещей живет и дышит, как живая, дышит и поглощает кислород, предназначенный людям, оставляя вокруг себя серо-золотистую пыль; и его тянуло на двор, на чистый воздух, где шумели на ветру деревья и легче дышалось. Сам он любил аскетический интерьер – только самое необходимое, никаких излишеств, почти как в монашеской келье. – и такой же строгий пейзаж: его душе милее была строгая простота заснеженного поля с темным искривленным стволом одинокого дерева на горизонте, чем пышность цветущих в пруду кувшинок или яркое многоцветье садовых клумб, от которого рябит в глазах. Одним словом, в дачном доме тещи Колька чувствовал себя неуютно, наподобие бабочки, попавшей в коробку из-под печенья.
Однажды, блуждая тоскливым взором по окружающим предметам, он вдруг не выдержал и сказал: «А что, если половину этого музея убрать… и взамен поставить какие-нибудь цветы в горшках?» Сказал это так, между прочим, ни к кому конкретно не обращаясь. Дело было во время обеда. Вся семья вместе с гостем, тем самым седым поклонником, служителем концертных муз, сидела внизу в гостиной с распахнутыми в сад окнами за большим столом, уставленным закусками, и ела окрошку. Анастасия Львовна, одетая в светлое свободного покроя платье, элегантное и очень ей шедшее, рассказывала перед этим свой сон. Гость и домашние – Татьяна, сестра тещи, Елена Львовна, узколицая невзрачная женщина с остекленевшим взглядом, которая всю жизнь паслась возле сестры, жила у нее постоянно на даче и была здесь чем-то средним между сторожем и прислугой, и ее муж, тихий задумчивый человек по имени Антон Елисеевич – внимательно слушали. Трехлетний Павлик сидел тихо возле матери и, слизывая кашу с ложки, тоже слушал: ему думалось, что бабушка рассказывает сказку.
– Зима, большое заснеженное поле, все белым-бело… – неторопливо повествовала Анастасия Львовна, иногда застывая в неподвижности и сомнамбулически глядя в пространство, словно перед ней на невидимом другим экране прокручивали ее сон, снятый на пленку. – И вот иду я по этому полю… Босая, в одной ночной рубашке… И что самое удивительное: не холодно мне ни чуточки, и ноги не обжигает, словно ступаю я не по снегу, а по вате… В общем, иду я так неспешно, иду, радуюсь, что мне не холодно, и вдруг прямо передо мной – яма, большая, глубокая. Я так и обомлела: как же я ее не заметила? Еще бы чуть-чуть, и свалилась бы… Заглянула я в эту яму и вижу: на дне ее сидит сгорбленный старик, одетый в черное, лысый, глаза хитрые, лицо безбородое, правда, на щеках щетина серебрится, будто не брился неделю. Поднял он голову, посмотрел на меня снизу вверх, внимательно так посмотрел, и спрашивает: «Ну что, женщина? Покаяться пришла?» Да, киваю, пришла, а сама думаю, в чем же мне каяться. А старик почесал костлявыми пальцами небритую щеку и говорит: «А скажи-ка мне, женщина, сколько душ живых ты погубила за свою жизнь? Людей-человеков или зверья всякого: собачек там, к примеру, кошек ли, птиц?» – «Да что ты, отец, – говорю, – Господь с тобой! Никого не сгубила! Разве что комара какого, который на шею садился и кровь сосал…» – «Ой ли!» – усмехнулся старик и, вижу, не верит мне. «Чистая правда! – говорю. – Вот те крест! – перекрестилась, сама не знаю почему, хотя и некрещеная. – С мерзкими людишками, конечно, боролась, было такое. А кто с ними не борется?.. Жизнь, она ведь борьба, верно?.. Но чтоб руки на кого наложить – не было этого. Что я, преступница какая?» А он засмеялся так заливисто, словно от щекотки… Рот пустой – ни единого зуба… «Что ж, – говорит, – коли так, отдай мне тогда свою шкатулочку… Не нужна она тебе». – «Какую шкатулочку?» – «А ту, что у тебя в руках…» Посмотрела я, и вправду в руках у меня шкатулка, маленькая такая, черненькая, аккуратная, с ярким цветком на лакированной крышке. Не успела я ее толком рассмотреть, как старик подскочил ко мне – и хвать шкатулку у меня из рук… И тут я проснулась. – Анастасия Львовна обвела присутствующих взглядом и как-то непривычно виновато улыбнулась, словно ей было стыдно за свою промашку со шкатулкой. – Весь день думаю про этот сон… Понять пытаюсь…
– Наверно, будет тебе какая-то радость, – высказала предположение ее сестра, Елена Львовна, имевшая некоторые познания по части толкования снов.
– В лотерею, Настя, выиграешь, – пошутил седой поклонник сдержанно-весело. – Мотоцикл! У меня нюх на такие вещи.
Рассказ Анастасии Львовны он слушал рассеянно и больше глазел по сторонам, изучая интерьер.
– А зачем ей мотоцикл? – спросил Колька, не уловив юмора. – Что она, гонщик, что ли?
– Деньгами возьмет, – пояснил снисходительно седой шутник.
И вновь с интересом принялся разглядывать обстановку в доме. Ему здесь явно нравилось. Склонив голову набок, пощупал антикварный стул, на котором сидел. Потом задрал край скатерти, погладил темно-красную столешницу, провел трепетной рукой по массивной витой ножке обеденного стола.
– Мебель-то, мебель, как в Эрмитаже! И где ж ты такую, Настя, выловила?
– Это мы еще с мужем покойным покупали, – ответила Анастасия Львовна. – У вдовы одного профессора… Мы тогда у нее много редких вещей купили. Она после смерти мужа сильно нуждалась – всю жизнь не работала, пенсии никакой, вот мне и хотелось ее поддержать… Ну, я и уговорила Митю кое-что купить.
И тут Колька вылез со своим дурацким предложением насчет того, чтобы от половины вещей освободиться и взамен этого поставить цветы.
Теща уныло взглянула на Кольку, словно тот был тяжело и неизлечимо болен.
– Тебе что, на участке цветов мало? – сухо спросила она, звякнув ложкой о край тарелки. – Все умничаешь… ты бы лучше о жизни о своей подумал…
– Не надо, мама, – попросила Татьяна, заранее зная, по какому руслу пойдет разговор.
– Почему же не надо? Пусть расскажет нам, как он дальше жить собирается. У него семья, ребенок…
– Как жил, так и собираюсь, – пожал плечами Колька.
– Вот-вот! – с вымученной улыбкой объявила Анастасия Львовна, ища поддержки у сидящих за столом. – Видите, как у него все просто. Словно у негра под баобабом!
Колька вздохнул: начинается! Зря он, конечно, о цветах затеял.
– Все нормальные люди к чему-то стремятся, чего-то хотят, – продолжала теща. – Один он засел у себя в цехе, как в блиндаже, и знать ничего не хочет. Разночинец! – выругалась она. – У тебя одна жизнь, а не десять. И надо помнить об этом. Еще Гёте сказал: «Бесполезная жизнь равносильна ранней смерти». Прекрасные слова! Жить надо крупно, а не прозябать! А ты?.. Хочешь учиться – пожалуйста, иди в институт, кто мешает? Я помогу. Слава богу, возможности у меня имеются. Ты же в школе вроде неплохо учился, и вуз, я думаю, тебе по плечу! Не желаешь учиться – не надо. Ищи интересную работу. Или же иди туда, где хорошо платят. Хочешь, я поговорю с кем надо и поедете с Таней за границу? Будешь машину в посольстве водить. Биография у тебя для этого дела подходящая… Интересная жизнь, интересные люди… – Глаза Анастасии Львовны увлажнились, словно она уже увидела Кольку – отутюженного, в белой рубашке с галстуком – за рулем посольской автомашины, лавирующей по шумным, оживленным улицам Копенгагена или Брюсселя, водительское место в которой всегда являлось предметом зависти многих желающих, но не всем этот орешек был по зубам, а вот Анастасия Львовна могла бы устроить зятя, если бы тот захотел.
Колька затосковал, ему было не по себе от подобных разговоров.
– Ну чего ты морщишься, как карась на сковороде? – вернулась на землю Анастасия Львовна. – Не хочешь за границу?
– Не хочу.
– Интересно, почему же?
– А неспокойно там, стреляют много. Гангстеры! Глядишь, еще зашибут ненароком… А мне жить охота.
– Остряк коверный!
– Вот в летчики я б пошел, – сказал вдруг Колька глубокомысленно. – Сидишь в самолете, дергаешь ручки и летишь куда-нибудь далеко-далеко… На Сахалин, к примеру, где природа еще не загаженная и океан шумит…
– У тебя жена – красивая женщина, а красивую женщину и содержать надо соответственно. А для этого деньги нужны, и немалые, – гнула свое Анастасия Львовна. – Правильно в народе говорят: мужик – это тот, у кого деньги есть, остальные – самцы! Опять же, Павлик у вас растет… У него всего должно быть вдоволь. Верно, малыш? – спросила она у внука.
Забытый за столь серьезным разговором, Павлик был занят тем, что размазывал по скатерти кашу, но, тем не менее, тут же бойко ответил:
– Верно!
Татьяна ахнула, увидев, чем занимается сын, стукнула его по руке, стала вытирать салфеткой кашу со скатерти.
– Это у нас детство было несытное, – продолжала Анастасия Львовна. – Зачем же его для наших детей и внуков повторять? А сейчас, слава богу, большие возможности имеются, стоит только захотеть… Скажи, Стален Данилыч! – обратилась она к седому поклоннику.
– Ну… – Гость замялся, чувствуя себя не вправе влезать в столь щекотливый разговор. – Возможности, они, конечно, есть…
– Послушайте, Анастасия Львовна, – вздохнул Колька, – а чем вам мой завод не нравится?
– Завод твой мне нравится. Это ты мне не нравишься на этом заводе! На заводе работают те, кто ничего другого не умеет!
– Вот как? А везде зовут на завод работать: вон и по телевизору, и в газетах… Говорят, почетно…
– А ты телевизор побольше слушай. Если верить всему тому, что они там болтают, и делать жизнь по газетам – все бы давно без штанов ходили! Слава богу, имеются умные люди, знают, что к чему, на них Россия и держится.
– Это кто ж такие? У кого власть и деньги?
– Они самые.
– Слыхали мы про таких. Железные ребята! У самих рыло в икре, а народ – в дерьме!
– Ой, только не надо про дерьмо и про народ! – болезненно поморщилась Анастасия Львовна. – Еще Гегель сказал, что каждый народ имеет то, что заслуживает! Ты вот, если б учился, знал бы эти слова Гегеля. А так неучем и помрешь… Запомни: времена уравниловки прошли! Она изжила себя как явление. Тот, у кого голова хорошо работает, у кого есть энергия и целеустремленность, тот и живет хорошо. За такими людьми – будущее!
– Вы так же у себя в районо говорите, перед людьми на собраниях? – покривился Колька.
– Тебе-то какая разница, что я там на собраниях говорю?.. Думай лучше о себе, о том, как содержать жену и сына…
Колька встал из-за стола:
– У меня Татьяна голой не ходит, и у парня есть все необходимое.
– Ты что же думаешь, сборщик, что это на твою зарплату? А ты, однако, шутник! Скажи мне спасибо… – Анастасии Львовне было ясно, что продолжать этот разговор бессмысленно, она вяло махнула рукой и обратилась к мужу сестры, человеку малоразговорчивому, тихому, предпочитавшему ни во что не вмешиваться: – Антон Елисеевич, налей-ка мне рюмочку.
Антон Елисеевич послушно устремился всем телом к хрустальному графину с водкой, наполнил рюмку родственницы, а заодно, под шумок, и себя не забыл.
Анастасия Львовна взглянула на Кольку, перевела взгляд на дочь.
– Вы молодые, вам и жить. Делайте, как знаете… – сказала она и залпом выпила содержимое рюмки.
Колька прошел мимо Павлика, заботливо пригладил сыну вихры и вышел из дома на двор.
Он спустился по ступеням крыльца и пошел по дорожке между деревьев.
Участок, окружавший дом, если не считать большого цветника под окнами и трех овощных грядок, разбитых тут же, был похож на рощу: здесь светилось несколько берез, лениво покачивали ветвями две низкорослые липы и росла прямая, как карандаш, единственная сосна; слева, в углу, у самого забора, шевелились, словно ряска в пруду, кусты орешника, пряча под резной листвой изумрудные сгустки с торчащими оттуда белыми кругляшами зреющих плодов.
Колька раскрыл раскладушку, улегся под невысокой молодой, набирающей звон березой и стал смотреть в небо, по которому бесконечной чередой катились пронзительно-белые на синем фоне маленькие перистые облачка.
Он по наивности своей полагал, что стоит ему только выйти за порог дома, лечь на раскладушку под деревом, и он – в безопасности: надежно отгорожен от тещиного недовольства, от ее концепции бытия, которую она настойчиво проводила в жизнь и теперь пыталась привить ему. Увы, он многого недопонимал. Мирное завершение спора не означало, что теща смирилась. Не добившись от Кольки понимания, она могла лишь отступить на время, но, словно жук-древоточец, ни на минуту не прекращала свою разрушительную работу, венчать которую должно было падение семейного древа. Она слишком любила дочь, чтобы примириться с ее замужеством, представлявшимся ей величайшим недоразумением. Ей хотелось видеть возле Татьяны человека деятельного, энергичного, способного на большие свершения, а не квелого, бескрылого созерцателя, каким ей представлялся Колька. Тот же недооценивал влияния Анастасии Львовны на Татьяну. Колька был слишком неискушен в таких делах и беспечен, чтобы всерьез задуматься над тем, что его положение в семье не всегда будет оставаться таким прочным и что когда-нибудь ситуация может резко измениться и его сбросят с трона, как какого-нибудь изжившего себя царька. «Татьяна любит меня, а это – главное», – думал он.
Колька смотрел на облака, плывущие над дачным поселком, и не предполагал, какой разговор произойдет в доме в ближайшие полчаса.
Анастасия Львовна посидела еще некоторое время за столом в гостиной, а затем поднялась с гостем на второй этаж показать ему свои апартаменты.
– Здесь мой уголок… – сказала она, толкая пухлой рукой дверь, за которой открылась большая светлая комната, оклеенная кремовыми в мелкий золотистый цветочек обоями, с тремя окнами по разным стенам.
– Чу́дно! – одобрил седой поклонник.
– Я люблю эту комнату. Здесь много света… – Анастасия Львовна величественно прошлась по комнате, открыла настежь одно за другим все три окна, остановилась у последнего, окунувшись лицом и грудью в золотое солнечное кипение, струящееся из него. – Посмотри, какой чудесный вид… – Она улыбнулась, нежась на солнце и прикрыв глаза, стала перечислять то, что было видно из окна, словно хотела себя проверить: – Вон совхозный сад, поле, дальше – река и лес за ней… Красиво, правда?
– Красиво – скромно сказано. Райский уголок! – Гость отвернулся от окна (его седина придавала ему сходство с американским актером Спенсером Треси, снискавшим себе славу исполнением ролей благородных джентльменов почтенного возраста), подошел к Анастасии Львовне сзади, обнял ее за широкую талию.
Анастасия Львовна приняла объятие, откинула назад голову, прислонилась, послушная, затылком к его груди.
– Как тебе мой зять? – вдруг спросила она, по-видимому, все еще не в силах успокоиться.
Гость пожал плечами:
– Нормальный парень.
– Нормальный… – повторила со вздохом Анастасия Львовна.
– Зря ты нервничаешь.
– Балласт! Мыльная пена!
– Молод еще. Скорости не набрал. Не почувствовал настоящего вкуса к жизни… Еще не понял, что тут, как в хоккее: одни играют, а другие смотрят и в затылках скребут от зависти! А потом, голова у него еще пока забита всякими гуманистическими бреднями – о добре и зле; я тут поговорил с ним немного… Подожди, все образуется.
– Может быть, – сказала Анастасия Львовна, думая о чем-то своем, и повторила: – Может быть… – Она высвободилась из объятий, повернулась к поклоннику лицом: – Только ждать мне, когда он поумнеет, не с руки… Скажу тебе честно: не люблю его… И если Татьяна не порвет с ним в ближайшие полгода… Мне помощь твоей бригады потребуется. Оплачу по двойному тарифу! Засадить его надо будет года на четыре… Здесь какое-нибудь дело о краже подошло бы или нанесение телесных повреждений невинному прохожему… Ну да у тебя там мастера – сами придумают, что надо… А пока он четыре годика на баланде посидит, она его забудет, уж тут я постараюсь!
– Как скажешь, Настя, – кивнул гость. – Все сделаем, что нужно…
На лице его не отразилось ничего: ни жалости к Кольке, которого минуту назад он оправдывал, ни удивления, какое могла вызвать столь неожиданная просьба.
Анастасия Львовна взяла его под руку, увлекла к другому окну.
– А вот отсюда видна вся улица, ведущая к нашей даче… Видишь, там в середине – колодец. Вода в нем чудесная… Здесь, – она указала налево, – дача соседа. Сосед у меня – человек известный. Рязанцев – знаменитейший кардиолог, академик, слышал?
Здесь читатель вправе прервать меня и воскликнуть: что же это за монстр такой? Что за безжалостное существо, способное в угоду своим честолюбивым амбициям упрятать за решетку собственного зятя? И читатель, видимо, будет прав. Но тут мне хочется все-таки сказать несколько слов в защиту этой женщины и если не оправдать ее, то, по крайней мере, постараться объяснить ее натуру.
Анастасия Львовна, она же Настя Крылатова, начинала свою жизнь хорошо. Юность ее совпала с тем временем, которое мы сейчас называем «оттепелью». Дочь погибшего в сорок третьем под Курском военного хирурга, она вместе с сестрой и матерью, работавшей в сберкассе и тянувшей своих детей в одиночку, в полной мере вкусила все трудности послевоенного времени. К счастью, трудности эти не отразились отрицательно на характере девочки. Настя выросла честной, справедливой, верящей в ценности общества, в котором была воспитана. Окончив с отличием школу, она поступила в педагогический институт на филфак, была она в то время миловидной краснощекой девушкой, не такой крупной, как ныне, но уже высокой, привлекающей внимание своей статью и длинной светлой косой, спускающейся с плеча на упругую грудь. С первых же дней учебы Настя активно включилась в общественную жизнь вуза. Вскоре ее избрали секретарем комсомольского бюро факультета, а через год она стала секретарем комсомольской организации института. К своим общественным обязанностям Настя относилась очень серьезно. Вечно куда-то бегала, за кого-то хлопотала: то требовалось выбить койку в институтском общежитии для какого-нибудь бездомного бедолаги, то следовало добиться стипендии одному из тех, кто очень нуждается, но не шибко успевает, то нужно вечер отдыха организовать с танцами и дешевым буфетом, то диспут провести на тему «Моральный облик советского человека» или что-то в этом роде. Но, когда требовалось, девушка могла быть и строгой, непримиримой. Ругала разгильдяев, прогуливающих лекции, и стиляг, зацикленных на своих узких брючках-дудочках, ботинках на «манке» и жаргоне, которым они любили козырять: хиляй, чува, шкары, клифт, башли, барать; с особой и неподдельной яростью громила тех, кто хоть на йоту пытался отступить от генеральной линии партии в вопросах переустройства жизни, а такие попадались: после XX съезда, принесшего воздух свободы, многие хотели перемен, решительных действий, искали пути обновления общества, что не всегда совпадало в букве с партийными установками, спущенными сверху, и которые Настя всегда была готова безоговорочно поддерживать с фанатичным блеском в глазах. На Настю Крылатову обратили внимание в райкоме комсомола, сделали членом бюро райкома. И даже предлагали перейти в райком на постоянную работу и стать профессиональным комсомольским работником, но она не соглашалась. Особенно старался в уговорах один из секретарей – Игорь Саватеев, высокий блондин с вьющимися волосами и глазами стального цвета, в которого Настя была тайно влюблена и провела не одну бессонную ночь, думая о нем и вздыхая в подушку. И все бы хорошо, если бы не произошел один случай, после которого Настя не скоро смогла оправиться и надолго утратила вкус к активной общественной деятельности. А случилось вот что. Дело было в декабре в день закрытия городской комсомольской конференции, где обсуждался ряд важнейших вопросов, связанных с политическим образованием молодежи. Конференция, по общему мнению, прошла с большим успехом. Особенно приятно было, что докладчик, первый секретарь МГК, отметил в числе лучших организаций города и Настину, институтскую. Отзаседав, отхлопав, отпев «Интернационал», комсомольские вожаки района, и Настя в том числе, поехали в гости к Игорю Саватееву, родители которого находились в это время на отдыхе в Кисловодске. Купили, как водится, водки, вина, разных закусок.
В общем, застолье получилось что надо. Пили, обсуждая прошедшую конференцию и свои комсомольские дела, танцевали под радиолу. Настя, которая, надо сказать, редко могла выпить больше одной-двух рюмок, на этот раз под влиянием момента, своего успеха и особенно под воздействием своей влюбленности в Саватеева, который представлялся ей идеалом мужчины и гражданина, выпила больше, чем следует, и что самое неприятное – намешала водку с шампанским. Одним словом, Настя сильно опьянела и тут же уснула на тахте с детской блаженной улыбкой на устах. Будить ее не стали, пожалели: пусть отдохнет, намаялась, бедняжка… Проснулась Настя глубокой ночью с головной болью, еще не до конца протрезвевшая. С трудом оглядевшись в темной комнате, долго не могла понять, где она. Потом увидела стол с неубранными остатками еды и хаотическим скоплением рюмок и бутылок, разглядела спящих комсомольцев, которые похрапывали в разных углах, и все вспомнила. Настя спустила ноги на пол, поискала туфли кончиками пальцев, но не нашла их, встала и без туфель, в одних чулках, неуверенно ступая по паркету и расставив в стороны руки – так, ей казалось, будет устойчивее, – направилась в туалет, который, это она хорошо помнила, находился в конце коридора. По дороге, отыскивая нужную дверь, девушка сунула голову в одну из комнат (здесь также повсюду вповалку спали люди), затем толкнулась в другую и то, что она там увидела, повергло ее в изумление. Будь Настя зрелой женщиной, она отнеслась бы к увиденному с отвращением, но без лишних эмоций, но тогда то, что предстало перед ее взором, буквально ошеломило ее. Обожаемый ею Игорь Саватеев ерзал по полу в обнимку с каким-то парнем. Оба были голые. Настя вначале подумала, что Саватеев тискает кого-то из девчонок, но, внимательно приглядевшись, все поняла. Она в ужасе отшатнулась, прикусив зубами палец, чтобы не закричать. Потом бросилась в туалет и еле успела. Там ее вырвало. В туалете она сидела долго, закрывшись на крючок, боясь выйти наружу. К ней стучались желающие облегчиться, требовали открыть, но она отвечала молчанием. А когда гости, думая, что бедняжке плохо, взломали дверь, Настя пулей пронеслась по коридору, подхватила в прихожей туфли, сдернула легкое дешевое пальтишко с вешалки и бросилась вон. Резкий морозный воздух, ударивший ей в лицо на улице, привел ее в чувство. Он обжигал щеки, резал горло, и она, попавшая в цепкие пальцы холода, теряя тепло и дурноту и испытывая при этом облегчение, разрыдалась в полный голос. С той злополучной ночи, как уже было сказано, Настя долго не могла прийти в себя. Не раз после этого ловила она себя на том, что с подозрительностью поглядывает на свое комсомольское окружение – ей чудилось, каждый из тех, с кем она общается, в той или иной мере несет на себе печать потрясшей ее порочной страсти; это угнетало девушку. Настя отдалилась от общественной работы. Сославшись на ухудшение здоровья, попросила освободить ее от обязанностей секретаря. Перестала ходить на заседания бюро райкома. Поначалу ее уговаривали не делать этого, не понимая, что явилось причиной, призывали вернуться к прежней активности, но уговоры не помогли, и Настю в конце концов вывели из состава бюро, объявив ей строгий выговор за уклонение от работы. Хорошо еще, не исключили из комсомола, а могли… Где-то примерно через год после этой истории Настя познакомилась с неким Денисом Кащеевым, студентом истфака МГУ. Это был самоуверенный юноша с приятными чертами лица, несколько легкомысленный, но начитанный и неглупый. Правда, доминантой в его характере все же было отсутствие царя в голове. Про таких в народе говорят: много знает, но часто дурак! Кащеев был братом Настиной однокурсницы Сони, разбитной, веселой девицы, всегда хорошо одетой и при деньгах. Отец их был известный ученый, академик, сделавший ряд крупных открытий в области органической химии. Как-то Настя зашла к подруге позаниматься и столкнулась в прихожей с Денисом. Соня познакомила их. Кащеев показался Насте симпатичным, но не более того, зато тот буквально прилип к ней как банный лист. Тут же забыл про все свои дела (а он собирался на какую-то пирушку и уже одевался в прихожей), сбросил пальто, подсел к столу, где девушки готовились к зачету, и протрепался с ними до позднего вечера, пересыпая свою речь шуточками, причем иногда весьма остроумными. Потом он отправился провожать Настю домой. На улице обнаружилось, что Кащеев ниже своей рослой спутницы на полголовы, и это его очень развеселило. Он не мог успокоиться всю дорогу, посмеивался, говорил, что у него никогда не было такой «высотной» девушки и что ему нравится чувствовать себя возле нее беззащитным карликом. Когда они вошли в холодный подъезд и стали прощаться, Кащеев облапил ее за плечи и полез целоваться, но тут же схлопотал от Насти по физиономии и отстал. Но не обиделся нисколечко, а даже как-то весело и удовлетворенно засмеялся, чем, конечно, поразил Настю. Потом сжал в своей ладони ее холодную руку и, сказав с ироничной улыбкой: «Спасибо, товарищ!» – удалился. После этого вечера он взял Настю, что называется, в клещи. Звонил ей по нескольку раз в день, ловил возле института после занятий. Водил в кино, в театры (несколько раз они были во МХАТе на «Школе злословия» Шеридана с участием великолепных О. Андровской, М. Яншина и А. Кторова; этот спектакль особенно нравился Насте), иногда они ходили в ресторан, куда Настя всякий раз отправлялась с большой неохотой (посещение ресторана требовало солидных денежных сумм, каковых у нее не было, а быть зависимой от Кащеева ей, гордой комсомолке, было не по нраву). Зато с превеликой радостью ходила она с Денисом на всякие светские вечера, которые устраивали многочисленные знакомые его отца и где, по выражению Сони, собирались «прокисшие сливки общества». Бывая в столь непривычной для себя обстановке, где присутствующие с бокалом шампанского в руках и глубокомысленностью во взоре говорили о всякой всячине, и в первую очередь о нынешнем партийном лидере Хрущеве, о его реформах, о его простительных недостатках (о недостатках говорили мягко, снисходительно и как бы слегка заискивающе, говорить по-другому, резко и обличительно, не решались – боялись стукачей, которые нередко паслись в подобных компаниях), о его смелости, и немалой, какую он проявил, выступив на XX съезде партии с критикой личности Сталина, Настя всякий раз испытывала восхищение при виде дорогой старинной мебели, изысканной сервировки, какую ей доводилось видеть разве что в трофейных фильмах, любовалась картинами в дорогих золоченых рамах, но больше всего ее впечатляли роскошные туалеты дам и драгоценности, которыми они были увешаны, эти жены и дочери академиков, дипломатов и других состоятельных людей. При этом Настя мучилась от стыда за свой невзрачный вид, чего с ней раньше никогда не бывало. Ее угнетала бедность собственного гардероба, состоявшего из двух скромных платьев на все случаи жизни. Одним словом, с одной стороны, чувствуя себя нищенкой, она всякий раз испытывала желание поскорее уйти из подобного дома, но, с другой стороны, эта роскошь, эта атмосфера изысканного великолепия, этот дурман чужой малодоступной жизни, столь непривычные для девчонки, выросшей в унылой задымленной коммуналке и не всегда сытно евшей, притягивали ее, словно щупальца осьминога… Охваченный пламенем любви, Кащеев обхаживал Настю долго – почти год. Потом она не раз удивлялась: как это его, такого легкомысленного, и так надолго хватило? Сама же Настя полюбила его глубоко и сильно, и с каждым днем ей было все труднее и труднее противостоять его сексуальным притязаниям. Теперь, стоило им только остаться наедине в подходящей обстановке, он непременно с завидной ловкостью самбиста-профессионала укладывал ее на спину (это могло быть на диване, кровати или просто на полу) и требовал с увлажненным взором, чтобы она не противилась и дала вкусить ему столь желанный запретный плод. Настя отбивалась, как могла, и всякий раз побеждала в этой изнурительной борьбе, длившейся иногда по часу и более, хотя победы эти давались ей с большим трудом. Теперь большую часть своей стипендии она вынуждена была тратить на приобретение капроновых чулок, так как в чувственной борьбе с неистовым Кащеевым в первую очередь не выдерживали чулки и рассыпались, будто пересохшее сено. Но однажды исцелованная Кащеевым, поплывшая в дурмане Настя не смогла больше сопротивляться и сдалась. И Кащеев овладел ею. «Да-а, – сказал он, когда все свершилось, целуя Настю в обмякшие губы, – это было нечто…» Сказал, имея в виду свою долгожданную победу, которая венчала столь длительную осаду крепости, и удовлетворенно вздохнул. А когда слез с дивана и привел в порядок одежду, то даже попрыгал на месте от счастья, словно легкоатлет на тренировке. Настя лежала, уткнувшись лицом в спинку дивана, и стыдливо молчала. «Что же это такое было?» – спрашивала она себя, думая о том, что произошло несколько минут назад. Она пыталась разобраться в своих чувствах, отделить одно от другого – удивление, боль, презрение к самой себе – и находила все, кроме радости. Но – дело было сделано. С этого дня она больше не противилась, когда Кащеев, воспламеняясь, тянул ее в постель… А потом он охладел. Настя почувствовала, что он вдруг стал стесняться ее скромных туалетов, не очень изысканных манер, чего раньше не было. Теперь в ее присутствии он позволял себе заглядываться на других женщин, и это тоже свидетельствовало о том, что его интерес к Насте явно поугас. И однажды случилось то, что должно было случиться: он перестал звонить и появляться, а Насте прислал по почте пространное письмо, где писал всякую ерунду типа того, что они очень разные люди и поэтому должны расстаться, что он плохой, лоботряс, почти тунеядец, а Настя – хорошая, идейная, умная, что она многого добьется в жизни, может быть, со временем станет, как Фурцева, а он, несерьезный тип, будет ей только мешать, и еще много подобной чуши было в этом письме, означавшем разрыв. Настя не стала бегать и искать встреч с ним. Она просто залегла на своем диване в углу комнаты и пролежала на нем безвылазно неделю, отказываясь принимать пищу и разговаривать с матерью и сестрой. Следует сказать, что Настя к этому времени была на втором месяце беременности, и это обстоятельство особенно угнетало ее. Рассказать об этом матери она не посмела – сгорела б со стыда. Бессильно возлежа на диване, слушая по радио музыку и победный говор различных руководителей, в очередной раз обещавших народу небывалое изобилие в скором будущем, Настя думала о том, до чего же она несчастна. Не раз у нее возникало желание пойти на кухню, вытащить из шкафчика бутылку с уксусной эссенцией и выпить ее, чтобы таким образом обрубить единым махом все узлы и узелочки, которые накрутила вокруг нее судьба. И всякий раз в ответ на это желание в ее воспаленном мозгу, в языках пламени толпились какие-то люди, с укоризной смотревшие на нее; как она понимала, это были литературные персонажи, некий набор фигур из школьной программы, внедренный когда-то в сознание (вот, кажется, Базаров, а рядом Софья Павловна из «Что делать?», а это, видимо, Сатин, чуть сзади – Шолоховский Давыдов, а впереди, дико вращая глазами, с шашкой наголо, высохший до состояния мумии Павка Корчагин: «Ты что, рехнулась?! – кричал он. – Стыдись, малодушная дамочка!»). Слава богу, обошлось, победил все же разум. Через неделю она встала, осунувшаяся, с посеревшим лицом, вышла на улицу, думая лишь о том, как бы поскорее сделать аборт, она до боли в висках, до спазмов в горле ненавидела плод, который сидел в ней и развивался и к которому этот подлец Кащеев имел самое прямое отношение. Боясь огласки, при помощи одной из подруг Настя вышла на подпольного врача, грубого, циничного человека лет тридцати пяти, который был ей неприятен, но выхода у нее не было, и у подруги в комнате, когда отсутствовали родители последней, на круглом обеденном столе, покрытом чистой простыней, принесенной Настей, он и проделал эту болезненную и печальную операцию, взяв за нее пятьсот рублей. Насте, чтобы добыть эти деньги, пришлось заложить в ломбард единственную свою ценную вещь – медальон из серебра старинной работы, доставшийся ей по наследству от бабушки.
Полежав около часа после операции – больше времени не было, с минуты на минуту должны были прийти из театра родители подруги, – Настя взяла портфель, где лежала ее простыня, вышла на улицу, дошла до трамвайной остановки, превозмогая себя, села в подкативший вагон и поехала через весь город к себе домой. И вот в этом трамвае, где она сидела, прислонившись головой к холодному стеклу, покусывая спекшиеся губы, ненавидя все на свете, и себя в первую очередь, она и увидела Корнилова. Он был в шикарном пальто из габардина, на шее – большой яркий шарф, на голове – новая фетровая шляпа темного цвета. Ни дать ни взять американский герой из трофейного фильма. Даже было странно, что он ехал в этом замызганном трамвае среди унылых пассажиров в поношенной одежде, а не в своем авто. Корнилов был навеселе. Слегка пошатываясь, прошел от задних дверей по вагону и плюхнулся на сиденье прямо перед Настей. Оглянувшись, он увидел Настю, глаза его напряженно сузились – лицо девушки всколыхнуло в его сознании какие-то пласты, представляясь ему знакомым, он несколько мгновений морщил лоб, силясь припомнить, где же мог ее видеть. Наконец вспомнил, заулыбался. Настя же сразу его узнала. Она встречала его раза два в одном из домов, куда они с Кащеевым иногда приходили. Корнилов был скульптором, причем довольно известным. Был он высок ростом, широк в плечах, серые глаза смотрели насмешливо. Всем хорош, вот только возраст, по Настиным понятиям, имел довольно почтенный – было ему под сорок или даже больше. Обычно там, где Настя его встречала, он мало говорил и больше слушал, лукаво поглядывая на тех, кто любил плавать в долгих умных разговорах, но сейчас, после выпитого, сидя перед ней в трамвае, он хотел говорить. Чего нельзя было сказать о Насте. После операции, в которой кромсали ее плоть, девушку бросало то в жар, то в холод, ее поташнивало, низ живота пронизывала тупая ноющая боль. И вообще она помнила этот вечер, его появление в трамвае смутно, словно это был фильм, который состоял из множества черных проклеек и лишь иногда проскальзывало изображение, да и то неотчетливое, как будто она смотрела на экран через старое бутылочное стекло. Ей все в тот вечер было не в радость, и всякие разговоры были мучительны, как неудобная обувь, стирающая кожу до крови. Он задавал ей какие-то вопросы (она с трудом понимала их смысл), потом сам оживленно что-то рассказывал, а Настя молчала, лишь иногда устало кивая в ответ. Потом он сообразил, что ей плохо, что она больна, что ей не до него, и умолк. Она задремала, а когда открыла глаза, он по-прежнему сидел перед ней. Его приятное, несколько помятое лицо излучало доброту… Как они расстались в тот вечер, она не помнила. Кажется, он довел ее до дому, и они попрощались у подъезда.
Шло время, и Настя, занятая собой, своими текущими заботами, забыла об этой встрече. Но как-то она обнаружила в кармане пальто бумажку с номером его телефона. Она повертела бумажку в руках и хотела выбросить, но что-то удержало ее от этого. И бумажка вернулась обратно в карман. Потом Настя неоднократно натыкалась на эту бумажку с телефоном и всякий раз, аккуратно сложив ее, убирала туда, где она лежала. В конце концов она выучила номер телефона наизусть: БЗ-93–44. Правда, звонить Корнилову она не спешила (ей в двадцать один год он, сорокалетний, казался старым) и держала эту бумажку так, на всякий случай. И все-таки она позвонила ему. Случилось это перед новогодними праздниками. Зачем она это сделала, Настя и сама не знала. Просто ей было грустно в этот день и одиноко. Честно говоря, она надеялась, что его не окажется дома. Но он был дома и сразу снял трубку. «Алло!» – услышала она его уверенный голос. И ответила: «Здрасьте… Это я…» И почувствовала, как покраснела до корней волос. Он узнал ее и обрадовался: «Это вы, Настя?.. Как чудесно, что вы позвонили. А я уже перестал надеяться… Давайте встретимся! Где вам удобно?.. Ну что же вы молчите?» – «Вы только ничего не подумайте, ради бога! Я звоню просто так, – сказала Настя и призналась: – Целый день как-то тоскливо на душе…» – «Тем более нам надо встретиться! – воскликнул он. – Называйте место и время…»
Они встретились на Кировской у Главпочтамта. Он ждал ее возле своей «Победы» темно-серого цвета. Она села к нему в машину на переднее сиденье, и они проговорили, не трогаясь с места, больше часу. Потом он предложил поехать поужинать в ресторан, но она отказалась, и они весь вечер ездили по городу, болтая о всякой всячине. Она узнала, что он был женат. И что жена его умерла несколько лет назад при родах, родив мертвого ребенка. С тех пор он вел холостяцкий образ жизни, который, как он признался, порядком ему надоел. Настя попросила его рассказать о своей работе, и Корнилов, стараясь удовлетворить ее любопытство, подробно рассказал, чем занимается.
Работал он, если так можно выразиться, в жанре политической скульптуры: лепил в разных видах прославленных революционеров и героев Гражданской войны, из тех, кого в свое время не коснулась карающая десница «отца народов» и кто был официально канонизирован партией, в основном это были люди, умершие еще до того, как Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную власть и развязал в стране кровавый террор, люди, которых он мог смело называть своими соратниками и учениками, не боясь быть уличенным во лжи (каноны эти продолжали действовать и теперь, при Хрущеве). Впоследствии, побывав у Корнилова в мастерской, Настя и сама смогла убедиться в этом, увидев многочисленные головы разных размеров и фигуры в полный рост Ленина, Свердлова, Дзержинского, Луначарского, Фрунзе, Чапаева, Лазо, Шаумяна и других, громоздившиеся во всех углах и напоминающие молчаливое и строгое войско.
Кроме того, Корнилов увековечивал в мраморе и нынешних партийных функционеров и героев труда, за что получал неплохие деньги. За славное революционное прошлое, как и за партийно-производственный антураж дня сегодняшнего, платили хорошо, пожалуй, не хуже, чем придворным флорентийским художникам во времена герцогов Медичи. Рассказывая об этом с некоторой долей цинизма, Корнилов весело посмеивался, но глаза его при этом, надо сказать, были невеселые. «Мне нужны деньги, чтобы быть независимым, – пояснил он, – и тогда я смогу осуществить свой главный замысел…» И он поведал Насте о своей мечте. А мечтал он сделать большую многофигурную композицию, наверху хотел изобразить летящих над землей Мефистофеля и Фауста, а внизу, под ними, в сплетении морских волн и гнущихся от ветра деревьев – многочисленную группу мужчин и женщин, изображающую человечество, погрязшее в грехах (несколько отдельных сцен, каждая со своим сюжетом, рисующих человеческие пороки и мерзость). И называться это должно было соответственно: «Мефистофель показывает Фаусту, что есть человек». Но не только мерзость и низменное должны были найти отражение в этой мощной человеческой панораме. Под отдельными волнами видится и другое, видятся люди, благородные духом, картины их добрых деяний, которые Мефистофель старается скрыть от Фауста. И хотя Настя мало смыслила во всем этом и к творению Гёте относилась без особой любви, ей понравился замысел скульптора. (Забегая вперед, следует сказать, что Корнилову, к сожалению, так и не удалось до конца осуществить свой гигантский проект – слишком много сил ушло на всякую ерунду и конъюнктуру.) Одним словом, в тот вечер он произвел на Настю большое впечатление…
Через три месяца она стала его женой. Нет, она не любила его (и впоследствии лишь привязалась к нему, но так и не смогла полюбить), но он был в ее понимании интересным человеком, имел положение, деньги и мог обеспечить ей безбедную жизнь. А ей надоело прозябать. Еще общаясь с Кащеевым, она поняла, что ее тянет в иную среду обитания, светлую, прекрасную, полную достатка, далекую от чадных закутков коммуналки, где она жила. Кроме того, замужество уберегало ее от распределения после окончания учебы в какую-нибудь тьмутаракань – теперь она уж точно останется в Москве, чего ей так хотелось! Кроме того, с помощью мужа, имевшего большие связи, она рассчитывала сделать хорошую карьеру, в чем поначалу стеснялась себе признаться (первоначально эта идея жила в ней смутно, пока не напиталась соками и не оформилась в нечто определенное), ведь она была комсомолка, высокоидейная, а тут – корысть в чистом виде, «карьера» – слово, слишком порицаемое в те времена, несущее в себе привкус буржуазного загнивания. Но вскоре Настя забеременела, и с карьерой пришлось повременить. Родив Татьяну, Настя сидела больше года дома, но потом ей, натуре деятельной и энергичной, надоело маяться в четырех стенах и слоняться с коляской по бульвару, и она, вверив ребенка своей матери, пошла работать. Корнилов сперва возражал, требовал, чтобы Настя не сходила с ума и посвятила себя целиком семье, но та пригрозила, что бросит его, и он смирился. Некоторое время она работала в школе, преподавала русский язык и литературу, но потом ей это надоело (и работа не нравилась, и ученики казались тупицами), и она ушла оттуда. С помощью влиятельных знакомых мужа ей удалось устроиться в горком профсоюзов в отдел культуры, где она трудилась в течение ряда лет, пока не оказалась замешанной вместе с группой сослуживцев в большой скандал, связанный со взятками. Скандал удалось замять, говорили, помог влиятельный Настин поклонник из окружения Брежнева. Сама Настя, правда, утверждала, что это восторжествовала справедливость, что в деле обнаружились новые материалы, перечеркнувшие показания клеветников. Может, так оно и было, кто знает… Но как бы там ни было в действительности, работу пришлось сменить. И Настя устроилась в районо, где вскоре сделалась главной фигурой…
Первые годы она была верна Корнилову, потом, неудовлетворенная, стала ему изменять. Ей нравилось, пользуясь своими чарами, унижать мужчин, особенно если это были большие начальники, нравилось заставлять их делать различные мелкие глупости – ползать, к примеру, по полу возле ее ног с букетом цветов в зубах, снимать с нее сапоги или туфли, или носить ее по комнате на руках, или стоять перед ней на коленях и лаять по-собачьи. Некоторым, особенно горячим кавалерам, которые сразу норовили утянуть ее в постель, она с невинным видом предлагала помыть перед актом любви полы в комнате или спуститься во двор и выбить там ковер (и такое бывало!), и те, тяжело вздыхая, были вынуждены заниматься подобной ерундой, а она в это время, наблюдая за их неуклюжими действиями, только похохатывала, потягивая из бокала шампанское. Но молодость, увы, постепенно уходила, и уже таких, готовых унижаться, становилось все меньше и меньше. С годами желание менять любовников перешло в страсть, а после смерти мужа ничто уже не могло сдержать ее. Настя располнела, потяжелела лицом. Меньше стала любить людей и больше – себя. За время своей трудовой деятельности она навидалась самых разных представителей рода человеческого и глубоко усвоила, что заслуживают уважения только сильные натуры, способные организовать свою жизнь и всего добиться. О том, что она вышла из малоимущих слоев, Анастасия Львовна давно забыла, не козыряла этим, как некоторые, любившие при случае со слезой во взоре вспомнить о своем низком происхождении и тем самым подчеркнуть величину пройденной дистанции, наоборот, была недовольна, если что-то или кто-то напоминал ей об этом…
Можно, конечно, еще долго рассказывать об Анастасии Львовне, но нам следует вернуться в «Мулен Руж», в комнату на втором этаже, где мы оставили хозяйку наедине с седым поклонником.
Они стояли у окна. Он притянул ее к себе, поцеловал в губы.
– Ладно, иди, сейчас не время… – легонько оттолкнула его от себя Анастасия Львовна, услышав, что кто-то поднимается по лестнице. В комнату вошла Татьяна. – А-а, это ты… – Анастасия Львовна улыбнулась дочери и сказала гостю: – Стален Данилыч, извини, нам с дочерью нужно поговорить. Хочешь, включи видео – там есть хорошие американские картины, а то открой бар, любая бутылка к твоим услугам, а хочешь, погуляй по участку…
– Ладно, не забивай голову, – успокоил ее служитель концертных муз, – я найду себе занятие.
Когда Анастасия Львовна с Татьяной остались вдвоем, мать привлекла дочь к себе, обняла ее за плечи. Они стояли у открытого окна, похожие на двух близких подружек, устремив глаза вдаль и думая каждая о своем. После дымного душного города, где из-за дел пришлось безвылазно просидеть целую неделю, Анастасия Львовна размягченно любовалась сельским пейзажем, вдыхая запахи летнего дня, и не спешила начинать разговор. Татьян смотрела на маленькие фигурки мальчишек, которые копошились далеко в поле, занятые запуском воздушного змея. Мальчишки бегали по траве взад и вперед, радуясь чуду полета, сотворенного их руками, а змей поднимало все выше и выше – темно-красный эллипс, похожий на сгусток крови, отторгнутый землей и с надеждой устремившийся к облакам, наивно принимая их за своих братьев.
– Ну что у вас общего? – сказала наконец мать. – Такой цветок, как ты, в хрустальной вазе должен находиться, а не в глиняном горшке прозябать… Это я виновата, девочка моя! И как я тебя проглядела?.. Думаю, настало время серьезно поговорить о твоем будущем. Тебе нужен другой человек.
– Не надо, мама.
– Надо, Таня.
– Но я люблю его.
– Ты ошибаешься. Не любовь это – самообман! И когда опомнишься – будет поздно.
– Но, мама…
– Молчи. Ты знаешь, я всегда стараюсь быть объективной. Я долго не вмешивалась в вашу жизнь, терпела. Шла на компромисс, принимая его в своем доме, и это несмотря на его хулиганскую выходку на свадьбе…
– Мама! Ну ты же знаешь, почему это произошло.
– Боже мой! Если из-за каждого неосторожного слова на мать жены с кулаками бросаться!..
В комнату с улицы, жужжа на низкой ноте, ворвался большой мохнатый шмель и стал носиться в воздухе по замысловатой траектории, совершая стремительные рывки от одной стены к другой. Он мельтешил перед глазами, раздражая своей яростной моторностью, свойственной загнанному в угол безумцу… Татьяна стояла безучастно, а Анастасия Львовна с брезгливым выражением на лице энергично отмахивалась белой пухлой ладонью и не успокоилась до тех пор, пока шмель не вылетел обратно в окно, протрубив победно-прощальное «жжжу-у», радуясь вновь обретенной свободе.
– Я надеялась, – продолжала Анастасия Львовна доверительным тоном, – что он изменится к лучшему, но этого не произошло… Твой муж – ограниченный человек. Пустоцвет! Это ясно, как дважды два, ты одна этого не видишь. И ждать, что он чего-то добьется, бессмысленно! А прожить всю жизнь рядом с серостью… – Татьяна попыталась что-то возразить, но мать остановила ее жестом: – … аккомпанировать ей – это уж, извини меня, совершеннейшая глупость! Не для этого я тебя растила… Ты на меня посмотри, девочка моя. Ты думаешь, я что, за твоего отца по любви пошла? Он был старше меня почти на двадцать лет, ты же знаешь. Но он был личность, талант! Скульптор, каких поискать! И он многого хотел. У него были большие цели. Я знала, что нужна ему, и согласилась стать его женой. Я верила, что он многого добьется, помогала ему во всем!..
Колька же, не ведая, какие тучи сгущаются над его головой, лежал по-прежнему на раскладушке, устремив глаза к небу. Смотрел и представлял себе: как выглядит мир, если подняться к облакам и посмотреть оттуда на поселок, речку, их дачу, на него самого, лежащего на раскладушке, – все мелкое, игрушечное, а его, поди, и не видно вовсе, и Татьяны – вот она спускается по ступенькам крыльца – не видно, и тещи, выглянувшей в окно, не видно, и все эти ее мысли про то, что разумно, а что нет, тоже как бы не существуют, потому как они в ее голове, а голова эта мельче различимой букашки, и все эти людские прыжки и пляски вокруг разной ерунды – всего лишь пустота оттуда, с высоты выше птичьего полета.
– Чего лежишь на голой раскладушке? – это подошла Татьяна. Протянула одеяло: – Подстели.
Колька взял одеяло, сунул его под голову, притянул Татьяну к себе.
– Сядь.
– Не хочу, – сказала Татьяна. – Потому что ты дурень. И слепота куриная. Мать во многом права… И дался тебе этот завод. Ну чего хорошего?
– А что, там неплохо… Вентиляция, к примеру, хорошая. Не задохнешься, по крайней мере, если кто-то поблизости гнить от пресыщения начнет!
– Это все слова, слова… Мне ты хоть можешь сказать, чего ты хочешь?
– Ой, не знаю, Таня, не знаю. Если б знал… Твоя мать из меня альпиниста хочет сделать. Чтоб вверх карабкался, да по чужим телам! А мне это не по душе.
– Мама хочет, чтобы ты человеком был.
– А сейчас я кто? Пингвин, что ли?
– Ты знаешь, что я имею в виду.
– Одно могу сказать: не хочу я плясать в этом всеобщем хороводе энтузиастов! И вершин не хочу никаких покорять! Потому что я со многим в этой жизни не согласен. Надоело вранье. Все врут! Врут по телевизору, с высоких трибун. Заливаются по-соловьиному под красными флагами и тут же воруют, топчут слабых, сажают в тюрьмы безвинных… Стремиться к чему-либо в этих обстоятельствах – значит, потворствовать всей этой грязи! А я этого не желаю! Я лучше работягой подохну у себя в цеху, но с чистой совестью!
– Ты только себя слушаешь, а других не хочешь… Речь же о другом… Каждый человек должен к чему-то стремиться…
Татьяна сорвала с березы листок, свернула его трубочкой. Поднесла ко рту, надкусила и, почувствовав горечь, поморщилась.
– Дождешься, что я разведусь с тобой, – сказала она с печалью в голосе.
– Не получится, – улыбнулся Колька.
– Очень даже получится… Уйду – и все. Сама не понимаю, что меня до сих пор держит.
– Если ты уйдешь, плохо мне будет.
Колька усадил жену на раскладушку, притянул к себе, пытаясь поцеловать. Татьяна вначале сопротивлялась, уворачивалась, упираясь в грудь мужа ладонями, но потом сдалась и прижалась к нему…
Вспоминая сейчас все слагаемые этого мгновения – и сладкие губы жены, и аромат ее волос, и взгляд Татьяны, с печальной задумчивостью устремленный на него, и жужжание летних насекомых в саду, и слабый отголосок реактивного самолета, разрезавшего надвое синеву неба белой ниткой инверсии, и многое другое, чем был наполнен тот далекий июньский день, – Колька разволновался и резко отодвинул от себя чашку с чаем. Чтобы заглушить в себе ненужные чувства, он схватил радиоприемник, приложил динамик к уху и стал слушать рвущие слух звуки рояля. Когда от грохота в ушах стало нестерпимо, боль в груди отошла. Он убавил громкость и вернул приемник на место.
Колька вспомнил покойную мать. Он вырос без отца – отец утонул в реке, когда Кольке исполнилось четыре года, – и мать занимала главное место в его жизни. Она непременно нашла бы сейчас подходящие слова и успокоила бы его. Мать работала машинисткой в издательстве. Это была добрая немногословная женщина, вечно замотанная, с озабоченным лицом, четырнадцать часов в сутки проводившая за машинкой. Она постоянно брала работу на дом и вечно что-нибудь перепечатывала, обложившись рукописями и писчей бумагой, – такой Колька ее и запомнил. Рукописи и пачки бумаги лежали повсюду – во всех углах их маленькой двухкомнатной квартиры.
Иногда нервы у матери сдавали, она не выдерживала напряжения, срывалась, кричала на Кольку по пустякам, но Колька не обижался, потому что знал, что это от усталости. Денег вечно не хватало, и мать работала на износ, чтобы обеспечить сына и себя всем необходимым. Когда Колька подрос и стал кое-что смыслить, он не раз уговаривал мать бросить эту работу и найти другую. Мать в ответ только усмехалась и качала головой.
А потом с помощью матери Колька обнаружил в ее работе и полезную сторону. Мать перепечатывала рукописи готовящихся к печати новых повестей и романов и лучшие из них заставляла Кольку прочесть. Нередко они обсуждали прочитанное за ужином или перед сном. Кольке нравилось читать рукописи до выхода в свет, при этом возникало ощущение, словно и он причастен к рождению той или иной книги. Колька и сам пробовал писать, но у него не получалось – слова вдруг выходили из повиновения, бежали врассыпную, будто напуганные куры, оставляя на листе бумаги вместо живой плоти сухие жерди косноязычия, – и он в конце концов бросил это занятие… Мать умерла в тот год, когда Кольку забрали в армию. Он прослужил с полгода и вдруг в начале зимы получил сообщение о ее неожиданной смерти… Вернулся он в свою часть после похорон резко осунувшийся, малоразговорчивый, осиротевший навсегда.
Колька часто жалел, что мать не дожила до его женитьбы, не увидела внука, так и не узнала Татьяну. Ему казалось, узнай она ее, поживи рядом, и все было бы по-другому, словно мать обладала гипнотической силой и могла изменять людей к лучшему, освобождая их от дурных мыслей и желания совершать плохие поступки.
И Татьяна, верилось Кольке, знай она его мать, никогда бы не ушла от него. Неустойчивая во взглядах, она наверняка обрела бы с помощью Колькиной матери необходимые ей равновесие и твердость. Независимая на вид, Татьяна обладала не очень сильной волей, была подвержена влиянию со стороны, и Анастасия Львовна, хорошо знавшая слабости дочери, пользовалась этим и порой лепила из нее, словно из воска, все, что хотела. Она изменила жизнь дочери, круто повернув руль в нужном ей направлении, и та не сумела устоять и послушно доверилась матери, не понимая, что произошла сделка, в которой ее, Татьяну, постарались подороже продать. Колька был убежден, что, будь жива его мать, она помогла бы ему сохранить Татьяну.
И еще он верил, что если бы он не попал тогда в больницу с воспалением легких, где провалялся около месяца, то, конечно, помешал бы Анастасии Львовне, сумевшей вероломно воспользоваться его отсутствием, осуществить сводническую миссию и толкнуть Татьяну в крепкие объятия Лонжукова. «Не будь этого, – думал он, – жили бы они и сейчас с Татьяной как ни в чем не бывало». Наивный! Он так никогда и не узнает, что, не появись на сцене Лонжуков, его могли бы ожидать куда более серьезные испытания – ведь нам-то с вами известно, что затевала Анастасия Львовна…
Колька вымыл тарелку, из которой ел, чашку с блюдцем, сунул все это в сушку над раковиной. «Если уж ехать в «Мулен Руж», то прямо сейчас, – решил он. – Чтобы появиться там, пока они еще со сна не очухались…»
Колька вышел из дома, сел в трамвай, доехал до площади трех вокзалов. В толчее у касс сунул мелочь в автомат, взял билет. Посмотрел расписание, прошел на платформу и сел в электричку, отправлявшуюся через двадцать минут. Народу, как всегда в утренние часы, было много, а тут еще и суббота… Пока электричка стояла, через вагон, где сидел Колька, бесконечным потоком шли друг за другом люди с рюкзаками, с сумками, с корзинами, кто-то уже с утра веселился, рассказывая в компании приятелей анекдот, другие, еще не отойдя ото сна, с трудом несли тяжелые головы, выискивая место, где бы можно было притулиться и доспать, третьи пребывали в трезвой задумчивости, осмысливая, вероятно, те или иные свои поступки, как добрые, так и злые, и предстоящие дела, несколько человек читали – кто газету, кто журнал… Когда в вагоне уже негде было повернуться, электричка наконец тронулась.
Поначалу Колька пребывал в прострации, тупо взирая на ползущий за окном пейзаж, где на смену чистеньким жилым башням ползли пыльные складские строения, старые обшарпанные вагоны, умирающие в тупиках, груды гнилых шпал и ржавого железа, сваленные прямо у дороги, залежи битого кирпича, искуроченные автомобили, навсегда лишенные блеска и своих скоростей, и прочий хлам, являя собой грустное закулисье жизни. В голове Кольки было ясно, ни о чем не думалось, мысли словно рассредоточились по разным углам и дремали там в ожидании своего часа.
На одной из остановок электричка резко затормозила, стоявших в проходе пассажиров кинуло в сторону, некоторые, не удержавшись на ногах, посыпались друг на друга, Кольку отбросило на спинку сиденья. «Вот, черт возьми, берут в машинисты кого не лень, а те не ездить умеют!» – подумал он без злости и словно пришел в себя: ощутил руки, ноги, услышал громкие голоса, увидел за окном станцию и людей на ней, неторопливой цепочкой тянувшихся вдоль вагонов к лестнице в конце платформы и далее – по извилистой вытоптанной тропинке, петлявшей по пригорку в сторону дач, железные и черепичные крыши которых остро выпирали из округлой зелени деревьев; увидел пронзительно-синее, режущее глаза небо, кусок облачной ваты на нем и далеко-далеко, почти у самого горизонта, поднявшуюся в воздух птичью стаю – птицы темными хлопьями кружили над пашней, и казалось, что это ветер носит над полями сорванный с земли пепел.
Кольке вспомнился эпизод из детства, когда он, еще будучи ребенком, некоторое время жил у родственника отца в деревне и однажды, возвращаясь с соседскими мальчишками из леса, шагая впереди компании, наткнулся на пашне на мертвое тело тракториста, вокруг которого расхаживали сосредоточенные нахохлившиеся вороны. Появление детей вспугнуло птиц, и те, поднявшись в воздух, беззвучно кружили над черной землей, выжидая, когда мальчишки уберутся восвояси.
Тракторист был еще очень молод, он лежал на боку в распахнутой телогрейке, скосив тусклые голубые глаза в сторону оврага, за которым возвышались на пригорке темные от осенних дождей деревенские избы, и ветер легонько трепал его белесый, выгоревший за лето чуб. Недвижимый трактор – тоже будто мертвый – застыл неподалеку; после смерти тракториста двигатель продолжал работать и работал вхолостую больше двух часов, но затем солярка кончилась и он заглох.
Деревенские рассказывали потом, что тракториста убил в драке его приятель, некий Федька Хлыст. Подрались они из-за девки, Колька ее знал: это была крупная смешливая особа с плоским лицом, с родинкой над верхней губой, в общем, ничего особенного, и Федька Хлыст, жилистый малый, выпивоха и задира, случайно угодил трактористу в висок: тот тут же рухнул как подкошенный и больше не встал.
Так Колька впервые прикоснулся к таинству смерти. Правда, перед этим была смерть отца, но отца мертвым он не видел – тело его не нашли, – и поэтому смерть эта была для Кольки чем-то неясным, туманным, казалось, отец просто уехал куда-то на время и вскоре вернется. Несколько дней Колька думал о мертвом трактористе, ему было жалко его до слез: ведь парня зарыли в землю, а оттуда уже не вылезешь! Детский ум не мог принять случившееся. «Как же так? – рассуждал Колька. – Почему?.. И все из-за какой-то Аньки, которая ходит и в ус себе не дует и уже хохочет, как прежде… И это называется любовь? Дрянь какая-то! Когда вырасту, женщин любить не буду – никого!..»
Лязгнули колеса, и электричка, натужно набирая скорость, покатила дальше.
В конце вагона какой-то парень в застиранной и драной на локтях куртке стройотрядника играл на гитаре и пел песню Окуджавы «Заезжий музыкант целуется с трубою…». Сидевшие рядом его приятели, парни и девушки, обнявшись, дружно подпевали: «Живет он третий день в гостинице районной, где койка у окна – всего лишь по рублю…» Колька не видел лица гитариста – тот сидел к нему затылком, – но голос его, веселый, с приятной хрипотцой, слышал достаточно хорошо. Песня заметно улучшила Колькино настроение.
«Самое главное – сделать все неожиданно», – подумал он и стал намечать план действий: приду, постучу в калитку – забор высокий, глухой, оттуда не видно. Как только откроют, я им: здрасьте! – и тут же прорываюсь вовнутрь. Ну а там – разговор короткий: где Павлуха? Давайте пацана! И пусть попробуют выгнать меня. Не посмеют! Да и кто будет пробовать? Антон Елисеевич, что ли? Или «микроскоп»? Не дамся! Значит, прорываюсь во двор и зову Павлика. Он услышит мой голос и обязательно выбежит, ведь он уже самостоятельный. И они не посмеют нам запретить… Ну а там пойдем с Павлухой в лес, будем гулять, собирать землянику… Может, и грибы уже есть, хотя нет, для грибов, наверно, рановато… Погуляем с ним пару часиков, пока не устанет, посидим где-нибудь на полянке или у реки… Птиц послушаем. Здесь же мировые птицы, не то что в городе! О жизни поговорим… Ну а потом можно и обратно в Москву… Чемодан еще надо собрать, купить крем для бритья. Но это уже мелочи… А если калитку не откроют? Начнут спрашивать, кто да что, узнают по голосу и не отопрут?.. Может, лучше сразу через забор махнуть – скажем, со стороны совхозного сада? Зураб, пес, меня знает, лаять не станет. Потихоньку перелезу и… Ладно, на месте разберемся.
Радуясь собственной решимости, Колька повеселел от этих мыслей. А потом, вспомнив сегодняшний сон, где теща, как циркачка, резво шагала по канату, показывая ягодицы, рассмеялся во весь голос. Сидевший рядом пожилой мужчина интеллигентного вида с газетой в руках покосился на него со строгим удивлением. «Уж и посмеяться нельзя!» – вздохнул Колька. Мужчина пожал плечами и сказал после некоторого раздумья: «Да нет, почему же… Смейся, коли весело».
На станции у магазина Колька встретил местного участкового – своего приятеля. Фамилия милиционера была Штырев, звали его Василий, носил он погоны лейтенанта и был одних с Колькой лет. Знакомы они были еще с армии, где вместе служили в одной части. Вообще-то Штырев был рязанский, но, демобилизовавшись, женился на девчонке из Подмосковья и переехал к жене на постоянное жительство. Здесь устроился на работу в милицию. Сначала был рядовым сотрудником, потом за деловые качества и смекалку его назначили участковым. Теперь он с улыбочкой ходил по станционному поселку, следил за порядком, пас местную шпану, особенно резвившуюся по выходным дням, и всем пришелся по душе, потому что человек был веселый и отчаянный… Случайно встретившись здесь три года назад, Колька и Штырев, бывшие однополчане, долго не могли наговориться: вспоминали армейскую жизнь, товарищей по службе, разные истории, как смешные, так и трагические. Колька вспомнил, как Штырев спас его однажды, не позволив двум «дедам» из Колькиной роты глумиться над ним – первогодком. А дело было так. Колька, не желая следовать неписаному закону, гласящему, что все начинающие службу должны рабски подчиняться тем, кто ее заканчивает, отказался обслуживать одного из «дедов» (чистить ему сапоги перед отбоем, выдавливать по утрам пасту на зубную щетку и услужливо эту щетку подавать, держать над лежащим в кровати «дедом» лампочку, чтоб тому было удобно читать, носить за ним спички и давать ему всякий раз прикурить, когда тот пожелает, и делать еще множество подобных унижающих достоинство вещей), и «деды», решив проучить строптивого «салагу», прихватили Кольку в туалете во дворе казармы и пытались ткнуть его головой в отверстие толчка: пусть, дескать, откушает дерьма, раз такой бунтарь! Еще немного – и им бы удалось это мерзкое дело, но тут появился Штырев. Не раздумывая, вступился за Кольку и долго бился с его обидчиками, двумя крепышами, на кулаках, пока они не убрались восвояси, утирая окровавленные рты и извергая потоки такой изощренной площадной брани, что, казалось, еще немного – и покраснеют от стыда все матовые лампочки в туалете. Штырев потерял в той драке зуб. Теперь у него на этом месте красовался вставной, чуть выделяясь по цвету от настоящих зубов… В общем, приятелям было что вспомнить и о чем поговорить. После той памятной встречи здесь, в поселке, они виделись часто: Колька, еще будучи мужем Татьяны, всякий раз приезжая на дачу, непременно заходил к участковому в гости.
Встретившись сегодня после большого промежутка времени, оба, конечно, обрадовались. Выпили у бочки по кружке кваса, коротко поговорили о том о сем. Обменялись впечатлениями по поводу вышедшего месяц назад указа о борьбе с пьянством – уж больно актуальной была тема. Колька поинтересовался, как местное население реагирует на ограничения в продаже спиртного. «Как реагируют? Плохо! – вздохнул участковый. – Весь одеколон в сельпо подмели… Горбачева ругают, хотя говорят, что он здесь ни при чем…» Колька спешил, да и у Штырева были дела в отделении милиции, и они распрощались, договорившись обязательно повидаться после возвращения Кольки из отпуска.
– А ты чего в наши края? – спросил участковый, когда они уже расходились в разные стороны; о том, что Колька был в разводе с Татьяной, он знал.
– Да вот… пацана хочу повидать, – ответил Колька и помахал приятелю рукой.
Он запрыгнул в подошедший автобус и через три остановки вылез у дачного поселка. Несколько минут ходу, и вот дорога свернула на улицу, ведущую к «Мулен Ружу».
Обычно здесь было тихо, а в утренние часы особенно. И даже птицы щебетали здесь не так резво, словно боясь потревожить покой дачников. И воздух в этих местах был чистый-чистый! В общем, здесь было хорошо, покойно, дышалось легко и хотелось думать о чем-то приятном и возвышенном.
Приближаясь к дому, Колька почувствовал волнение. На всякий случай он перешел на другую сторону улицы и, как оказалось, правильно сделал, потому что спустя мгновение калитка в знакомом заборе вдруг распахнулась и оттуда вышла сестра тещи, Елена Львовна, простоволосая, в ситцевом платье, в тапочках на босу ногу, с эмалированным бидоном в руке. Увидев ее, Колька метнулся к старому кряжистому вязу, который рос у дороги, и, спрятавшись за его широкий ствол, затаился там, не желая быть обнаруженным, понимая, что, если его до срока увидят, все задуманное полетит к черту. Выждав некоторое время, он перевел дух и осторожно выглянул из-за дерева.
Елена Львовна хотела прикрыть калитку, но оттуда выбежал Павлик в светлых трусиках и панамке, волоча за собой на веревке большой игрушечный грузовик.
– Баба Лена, я с тобой! – крикнул он.
– Тебе нельзя, – остановила его женщина. – Поиграй немного один. Я скоро вернусь. Куплю молока и тут же обратно.
Колька, сдерживая радость, жадно вглядывался в сына, рассматривая каждую черточку, каждую деталь его одежды. У него даже глаза заслезились от напряжения.
– Мне скучно, – захныкал Павлик, – я хочу к маме… Когда она приедет, баба Лена?
– Скоро, уже скоро, – ответила Елена Львовна. – И мама приедет, и бабушка Настя, и дядя Никита… Потерпи. Сама их жду с минуты на минуту. Иди поиграй во дворе.
Она легонько подтолкнула Павлика, загоняя его обратно во двор, и прикрыла за ним калитку. Затем вдела в петли на калитке висячий замок, но закрывать его на ключ не стала – то ли ключа не было под рукой, то ли и вправду надеялась быстро обернуться. Елена Львовна вышла на дорогу и направилась, как верно сообразил Колька, к Жуковым, которые жили на соседней улице в трех минутах ходьбы и держали корову.
У Кольки аж в груди заныло от столь неожиданной удачи: значит, в доме, кроме Павлика, никого нет! Вот это повезло! Еще немного – и он обнимет сына… Какое долгожданное мгновение!
А Елена Львовна между тем была уже в нескольких шагах от него. И хотя шла она по проезжей части, а дерево, за которым прятался Колька, росло несколько в стороне, он все же с каждым ее шагом потихоньку перемещался вокруг ствола, чтобы не быть замеченным… И вдруг сзади он услышал громкий шепот:
– Дядька, а дядька… ты чего? Ты что, прячешься?
От неожиданности Колька вздрогнул, замер на мгновение. Потом медленно повернул голову и посмотрел туда, откуда доносился шепот. Он увидел белокурую девочку лет четырех-пяти, взъерошенную, с испачканным лицом, с царапиной на левой щеке, которая с интересом наблюдала за ним, просунув голову в щель забора.
– Тсс! – Колька умоляюще приложил палец к губам и напряженно-болезненно сдвинул брови, всем своим видом призывая ее к молчанию.
Девочка оказалась сообразительной, она правильно поняла Колькин жест и больше не произнесла ни слова, более того, наморщив свой открытый детский лобик, тоже сделала напряженное, как у Кольки, лицо. На кончике ее носа дрожала капля, а на шее на шелковой ленточке висел небольшой, размером с розовый бутон, колокольчик из желтого металла. Больше всего Колька боялся, как бы он не звякнул и не привлек тем самым внимание его бывшей родственницы.
Когда Елена Львовна прошагала мимо и затем свернула в проулок, он облегченно перевел дух. Подмигнул девочке. И та тоже расслабилась.
– Дядька, это ты играешь? – спросила она, и колокольчик у нее на шее мелодично звякнул.
– Вроде того…
– Давай играть вместе, – предложила девочка.
– Нет, – усмехнулся Колька. – Это игры для взрослых – дурные игры!
– Я тоже хочу играть в дурные игры.
– Успеешь еще… Подрастешь – тогда и наиграешься… – и он помахал ей рукой: – Ты извини, мне идти надо.
В ответ мелодично звякнул колокольчик. Девочка разочарованно поджала губы, а Колька поспешил к «Мулен Ружу». Он выдернул замок из петель, метнул его в карман брюк, рассчитывая на обратном пути водрузить на место, и проскользнул вовнутрь, плотно прикрыв за собой калитку.
Пес Зураб, грозное лохматое существо, помесь немецкой и бельгийской овчарок, размагниченно лежавший у своей будки, увидев вошедшего, рванулся было к нему, решительно звякнув цепью, и открыл розовую пасть, собираясь облить непрошеного гостя хриплым устрашающим лаем, но в последний момент узнал Кольку, сразу обмяк, подобрел, закрутился на месте, ласково помахивая хвостом.
– Тихо, тихо, Зураб… – Колька погладил собаку по голове. – Узнал, узнал меня, спасибо, приятель… – и, продолжая гладить пса, огляделся.
Во дворе перед домом никого не было. Лишь ветер играл длинной светлой тюлевой занавеской, вытягивал ее из открытого настежь окна, сворачивал в жгут и обратно разворачивал и, надувая парусом, манил за собой в дальние края.
– Павлик! – позвал Колька негромко на случай, если бы в доме оказался еще кто-нибудь, кроме мальчика. Кольке никто не ответил.
– Павлик! – теперь уже не скрываясь, в полный голос повторил он.
И опять никто не отозвался. Колька в недоумении (куда же делся мальчик?) торопливо поднялся по ступеням крыльца и вошел в дом.
И там он наконец увидел Павлика. Тот сидел посреди гостиной на корточках перед большим тазом, полным воды, и сосредоточенно наблюдал за тем, как наполняется водой, а затем идет на дно дырявый пластмассовый пароходик с двумя оловянными солдатиками на капитанском мостике.
– Павлик… – окликнул Колька сына, и у него перехватило в горле.
Мальчик повернул к нему свое личико, несколько мгновений вглядывался в Колькино лицо, словно не мог поверить, что перед ним его отец, и вдруг, сорвавшись с места, бросился Кольке на шею.
– Папка, миленький! Как хорошо, что ты приехал!
Колька крепко обнял сына. Ощущая в руках его худенькое трепетное тельце, чувствуя на шее жаркое дыхание мальчика, он так разволновался, что чуть было не пустил слезу.
– Пап, ты меня бросил? – прижимаясь к нему, вдруг спросил малыш обиженно.
– Я?.. Да кто тебе сказал такое?
– Баба Настя. И дядя Никита… – и зашептал с жаром: – Я ждал тебя, ждал, честное слово!
– Нет, нет, Павлуха, я тебя не бросал… – Колька тоже перешел на шепот. – Они пошутили… Просто я был занят, – солгал он, не желая говорить правду, в противном случае пришлось бы слишком многое объяснять, а ему не хотелось тратить сейчас на это столь дорогое время – ведь в любую минуту могли появиться хозяева дачи. – Понимаешь, я много работал, – сказал он, – потом приболел, в общем, не мог…
– Не бросай меня больше, ладно? – попросил мальчик, еще крепче прижимаясь к Кольке.
Колька стоял, боясь пошевелиться и нарушить тем самым приятность минуты. Ему было хорошо, бесконечно хорошо, и он забыл, размягченный, о течении времени. «Чего же это я стою, как столб? – подумал он наконец. – Надо же что-то делать, надо спешить, пока никого нет…» И вдруг его обожгла неожиданная мысль: а что, если взять Павлика и сбежать с ним отсюда? Спрятаться где-нибудь до завтра, а утром сесть вдвоем на теплоход – и айда до Астрахани! И пусть ищут, если не хотят по-человечески… Кольку аж в жар бросило – до того ему понравилась эта затея. Он оторвал мальчика от груди, посмотрел ему в глаза:
– Понимаешь, Павлуха, я завтра уезжаю… далеко… Хочешь, поедем вместе?
– Хочу! – тут же с жаром согласился мальчик. Это «хочу» словно подстегнуло Кольку. Он опустил ребенка на пол, потом подхватил его поудобнее и выскочил за дверь. «Скорее, скорее! – стучало у него в голове. – Только бы добежать до совхозного сада!»
Расстояние от крыльца до ворот Колька преодолел в считанные секунды, распахнул свободной рукой калитку и выбежал наружу. Очутившись на улице, он поспешил было вперед, но неожиданная картина, открывшаяся ему, повергла его в замешательство. На дороге против ворот стояла кавалькада из трех легковых автомашин, видимо, только что подкативших: впереди – две иномарки (одна из них – лонжуковская, новенькая, темно-синего цвета, парадно сверкающая никелированными частями), вторая белого цвета и черная «Волга» – сзади. Дверцы машин уже были открыты, и оттуда, громко разговаривая, смеясь и перебрасываясь шутками, вылезали пассажиры. Их было человек двенадцать-четырнадцать. Судя по отдельным репликам, которые уловило обостренное Колькино сознание, разговор шел о предстоящем отдыхе и шашлыках.
– А мясо, мясо замариновали? Привезли, не забыли?.. – настойчиво интересовался один из них, солидный, с брюшком, в изысканном летнем костюме фисташкового цвета, заграничного пошива, державшийся с окружающими с некоторым превосходством.
– Все в порядке, Вадим Иванович, не волнуйтесь! – отвечали ему. – Оно в багажнике, в большой кастрюле. И маринад – что надо!
Колька увидел Татьяну, Лонжукова, за ними шагала Анастасия Львовна, возле которой пританцовывал одутловатый брюнет с маленькими хитрыми глазками, видимо, очередной ее поклонник. Среди гостей было несколько молодых женщин и мужчин, загорелых, интересных, модно одетых. Сбоку серой тенью держался Антон Елисеевич.
Лонжуков уже шел к калитке с намерением войти во двор и открыть ворота для въезда машин и тут увидел выбежавшего навстречу Кольку и растерянно замер. Анастасия Львовна тоже увидела бывшего зятя с внуком на руках. У нее дернулся подбородок, приоткрылся рот, и Колькино ухо уловило короткий сдавленный звук, вырвавшийся у нее из горла и выражавший не то удивление, не то испуг. Она остановилась как вкопанная, раскинув безвольно опущенные вниз руки, словно осужденная, идущая на казнь. Пожалуй, впервые видел Колька ее такой растерянной… Татьяна, выглядывавшая из-за плеча Лонжукова, побледнела, глаза ее расширились, полуоткрытые губы дрогнули и сразу же намертво склеились в надменном ожидании. Сегодня она была необыкновенно хороша – и эта бледность, и расширенные глаза только подчеркивали ее сегодняшнюю красоту, дополненную эффектной прической и элегантным летним платьем. Встретив ее взгляд, Колька почувствовал, как грудь полоснуло болью от того, что теперь эта женщина принадлежит другому и что прошлое не вернуть.
Гости, не заметив замешательства хозяев, продолжали обсуждать детали предстоящего отдыха, причем солидный в фисташковом костюме, громко цокая языком и чуть ли не переходя на пение, расхваливал вкусовые качества дефицитной по нынешним временам лососины, которую он привез с собой и которая явится «чудесным дополнением к столь гонимой нынче водочке».
Колька напряженно смотрел на этих людей, прижимая к себе сына, и мучительно думал, что же ему теперь делать. Было ясно, что затея его рухнула: не хватило каких-то нескольких мгновений. Колька даже вспотел от волнения, словно оказался в парной, пот катился струйками у него по вискам, скулам, полз по шее за воротник. Ну нет, сжался он, как пружина, Павлика он им так просто не отдаст!
Первой опомнилась Анастасия Львовна.
– Ты что же это делаешь, мерзавец! – взвыла она, наливаясь кровью. – Люди, он же ребенка ворует! Средь бела дня!
Услышав крик хозяйки, гости сразу смолкли и, уразумев наконец, что происходит нечто нехорошее, дружно устремили глаза на незнакомого человека с ребенком, пятившегося к калитке.
Колька не стал дожидаться, пока приехавшие сообразят, что к чему, и начнут действовать, и метнулся назад во двор. Захлопнул калитку, резким движением задвинул большой металлический засов. Так-то оно лучше будет! Его голыми руками не возьмешь! Некоторое время он подпирал калитку спиной, словно не верил в надежность засова, затем отлепился от нее и, пятясь задом, двинулся в сторону дома, устремив цепкий взгляд на ворота и примыкающий к ним забор.
В калитку забарабанили.
– Открой, негодяй, сию же минуту! – послышался полный негодования голос Анастасии Львовны. – Открой, ты слышишь?!
«Угу, счас открою! Разбежались!» – ответил про себя Колька. Он понимал, что в запасе у него есть всего лишь две-три минуты, чтобы что-то предпринять, пока кто-нибудь из компании не сообразит перелезть через забор, а что этим дело кончится, он не сомневался.
Чей-то сочный бас пророкотал за воротами, обращаясь к хозяйке дома:
– Анастасия Львовна, хотите, я калитку выломаю? Мне это раз плюнуть! – и в подтверждение своих слов «бас», видимо, навалился на калитку, отчего та затрещала. – А потом я ему башку отверну! – добавил «бас», преисполненный героической решимости.
– Эдик, перестаньте! – строго остановила его Анастасия Львовна. – Не надо ничего ломать! – и добавила сухо: – Ломать – не строить…
– Действительно, зачем ломать, – сказал Лонжуков, – когда можно перелезть через забор…
Слова Лонжукова были встречены одобрительными возгласами, приехавших забавляло неожиданное приключение, они, видимо, почувствовали вкус к предстоящей ловле злоумышленника. А тот, кто нахваливал лососину, громко сказал:
– Товарищи, нужно оцепить дом, чтобы он сам через забор не смылся!
– Не уйдет, – убежденно заявил Лонжуков. – Сзади – обрыв, справа у соседей – злая собака… Волкодав! В момент ногу перекусит! Единственная возможность бежать – так это со стороны сада… Андрей, покарауль там, а мы с Эдиком махнем через забор.
Тут, по всей видимости, вернулась Елена Львовна, ходившая за молоком, потому что послышался рассерженный голос Анастасии Львовны:
– И где тебя только носит, старую жопу! Павлика чуть не украли!..
– Ох… – сдавленно прозвучало в ответ.
– Вот тебе и «ох»! С соседями надо меньше трепаться и дверь на замок запирать!
О чем они говорили дальше, Колька уже не слышал. Он вбежал в дом, посадил Павлика на диван и коротко приказал ему:
– Сиди здесь!
Потом вернулся в прихожую, сдернул с места массивную деревянную вешалку, стоявшую там, подтащил ее к выходу и припер ею входную дверь. Проделав эту операцию, он заметался по комнатам, закрывая на ходу окна и громко щелкая шпингалетами, как будто закрытые окна могли спасти его от нападения, ведь при желании любое стекло можно было выдавить без особого труда.
Покончив с окнами, Колька помчался по деревянной лестнице на второй этаж; он помнил, что комната наверху является самым удобным местом для обзора, чему способствовали имеющиеся там три окна, расположенные в разных направлениях: из них хорошо были видны и дача соседей, и совхозный сад, и в первую очередь ворота и улица за ними. Дверь в комнату была заперта. Колька ударил ее раз-другой плечом, и дверь, не выдержав напора, распахнулась: замок здесь был слабый, и теща неоднократно собиралась его поменять. В комнате мало что изменилось с тех пор, когда он заходил сюда последний раз. Добавились кое-какие безделушки на комоде, палас на полу и на стене появилось охотничье ружье, привлекавшее строгостью своих линий. Колька догадался, что ружье принадлежит Лонжукову – тот любил охоту, и Колька знал об этом его увлечении, однако наличие столь неожиданного предмета в тещиной спальне представлялось ему странным: возможно, хозяйка не хотела, чтобы оружие висело в одной из комнат внизу, где бы мозолило глаза Павлику, пробуждая в малолетнем внуке желание поиграть с ним?
Колька распахнул окно, выходившее в сторону ворот, посмотрел, что там происходит… Тут он увидел, как на верхней кромке забора в полутора метрах от калитки появились две руки. Следом показалась голова Лонжукова. Его, видимо, подсаживали (высота забора была не меньше двух метров). «Да-а, глупейшая ситуация… – подумал Колька. – Сейчас этот тип перемахнет через забор, откроет калитку и ворота, потом они высадят дверь в доме и – пишите письма!.. Надо сматываться. Это значит бежать, оставив Павлуху. С мальчишкой забор не преодолеть… А бежать одному нельзя… Стыдно! Пацан подумает: струсил папаша… И вся эта шумная компания, конечно, возрадуется. Особенно мои бывшие родственнички. И «микроскоп» с ними… Бежать – это значит покориться, признать их правоту, силу, признать все то дерьмо, что они несут с собой… Ну уж нет!» Колька коротко сплюнул в окно и замычал под нос неразборчиво какую-то песню.
Он отступил в глубь комнаты, продолжая размышлять о своем незавидном положении, и вдруг отчаянная мысль пронеслась у него в голове, обдала жгучим холодком. Он бросил взгляд на стену, где висело ружье, торопливо шагнул к комоду: патроны, патроны, должны быть патроны! Он начал лихорадочно рыться в ящиках, переворачивая трясущимися руками их содержимое. Ему повезло: на дне третьего ящика под стопкой чистого постельного белья, приятно пахнущего лавандой, он нашел то, что искал, – целую пачку патронов, еще не распечатанную, в новой фабричной упаковке. Колька схватил ее, тут же распечатал. Снял ружье со стены, переломил стволы, вложил в каждый по патрону, а пачку сунул к себе в карман. С ружьем наперевес он устремился к окну. В голове у него шумело от возбуждения, ухало, грохотало, словно кузнечный молот ударял по раскаленной болванке.
Он снова посмотрел в сторону ворот, на Лонжукова. Тот уже сидел на заборе, примериваясь спрыгнуть вниз. Рядом с красным от напряжения лицом карабкался владелец баса, именуемый Эдиком. Оживленные голоса за воротами подбадривали их.
Колька высунул ружье в окно и, направив стволы вверх, нажал спусковой крючок. Звук выстрела, качнув воздух, прозвучал в утренней тишине, подобно грому.
Люди за воротами онемели, на их лицах застыло испуганное выражение. Пес Зураб полез в будку. Насекомые в траве и птицы умолкли – так, во всяком случае, показалось Кольке. Лонжуков и Эдик застыли, восседая на заборе в нелепых позах, впечатленные решительным видом человека с ружьем в руках, которого увидели в окне.
– Поворачивайте обратно, – крикнул им Колька, – не то буду стрелять!
И для пущей убедительности вскинул ружье и прицелился.
Лонжуков и Эдик, бледные, с перепуганными лицами, коротко переглянувшись, нырнули за забор.
На звук выстрела наверх прибежал Павлик.
– Папа, это ты стрелял? – спросил мальчик.
– Я, – с какой-то отчаянной интонацией в голосе ответил Колька.
– А зачем?
– Да так… Попугать кой-кого требовалось… Для смеху!
– Дай и мне стрельнуть, – попросил малыш.
– Нельзя, Павлуха. Это, брат, не игрушки… У меня просто выхода другого нет, – объяснил Колька, стараясь говорить будничным тоном, словно речь шла о чем-то обычном – о покупке детской книжки, например. Ему не хотелось волновать ребенка, который видел, что за воротами остались его мать и бабушка.
Колька чувствовал, что в голове у мальчика накопилось много вопросов, и почему-то боялся их. Но Павлик молчал, внимательно и серьезно посматривая на отца.
Колька обошел комнату по кругу, выглядывая поочередно в каждое из трех окон и проверяя, как там ведут себя его противники, что затевают? Над забором с той стороны, где был совхозный сад, показалась чья-то голова. Колька пригляделся и узнал упитанную физиономию все того же Эдика. «Вот сука! – поморщился Колька. – Перед бабами своими красуется… Тоже мне, десантник! Сидел бы лучше в машине и «Мальборо» свое курил…»
Эдик подтянулся на руках и влез на забор, думая, что Колька его не видит.
Колька тут же выставил в окно ружье. Голова у него шла кругом, лицо горело. Он чувствовал себя так, словно оказался в бурном потоке, сильное течение которого мощно и неумолимо уносило его все дальше и дальше, приближая к бездне, и уже ничто не могло его спасти. «А, будь что будет!» – с удалью обреченного подумал он и разом отделил себя от невеселых мыслей, рисовавших ему суровую расплату за все то, что он сейчас совершал.
– Эй, мужик! – окликнул он Эдика. – Ты куда?
Увидев, что его обнаружили, Эдик заметно огорчился, но слезать с забора не спешил и попытался взять Кольку на горло:
– Слушай, ты! Не валяй дурака! Убери ружье! Это глупо, неужели ты не понимаешь?
– Мне терять нечего, – ответил Колька. – Все, что можно было, – уже потеряно… А вот ты чего на заборе расселся? Тебе что, больше всех надо? Или ты, может быть, борец за справедливость? Что-то не похоже… Насколько мне известно, ты в этом доме не хозяин, так что гуляй!
– Ну попадись мне, козлина, – взбеленился Эдик, – я тебя заставлю свое дерьмо есть!
– Давай, давай! – согласился Колька и, прицелившись в забор пониже Эдика, нажал на спусковой крючок.
Прогремел выстрел, и Эдика с забора как ветром сдуло. «Ну вот, – усмехнулся Колька, – так-то оно лучше будет».
За воротами загалдели с новой силой.
– Вот и ружье пригодилось… – мрачно съязвила Анастасия Львовна, обращаясь к Лонжукову и стараясь излить на него свою досаду. – Верно говорят писатели: если ружье висит, то оно непременно выстрелит…
– Да не будет он в людей стрелять, пугает только! – заверил солидный в фисташковом костюме, уверенный в своем знании людей.
– Николай-то? Он может, он отчаянный! – сказал убежденно Антон Елисеевич, вдруг нарушив свое обычное молчание.
– И все равно я бы попробовал еще, – сказал солидный в фисташковом костюме, обращаясь к мужчинам, и в первую очередь к Эдику. – Уверяю вас, в человека он не выстрелит… Кишка тонка! Я эту публику знаю. На понт берет!
– Вот вы и попробуйте, – ответил Эдик. – Я здесь, между прочим, не в Афгане, чтоб башку под пули подставлять! Я сюда шашлыки приехал есть.
Его слова словно подстегнули Анастасию Львовну.
– Никита, поезжай за милицией! Они его живо обуздают! – сказала она Лонжукову каким-то неприятным, визгливым тоном, накачивая себя. (Колька никогда не слышал, чтобы теща говорила таким противным голосом.) И с яростью обрушилась на засевшего в доме Кольку: – Все! Погорел, мерзавец! Упекут теперь за решетку, и там тебе самое место! Подонок! – и к своим, уже на полтона ниже: – Я еще на свадьбе поняла, что он тюрьмой кончит, когда он на меня, как маньяк, набросился… И-эх, Таня! – воскликнула она в сердцах. – И угораздило тебя с ним связаться!
Татьяна ничего не ответила. Отвернулась. За все это время она не произнесла ни слова. По крайней мере, Колька ни разу не услышал ее голоса.
– А может, не надо милиции? – сказал Лонжуков. – Шум, гам, лишние разговоры… Сами управимся, своими силами.
– Мне бояться нечего! – снова забушевала Анастасия Львовна. – Я человек честный, уважаемый!.. И друзья мои – люди уважаемые, серьезные люди!.. Это он пусть боится, бандит! Поезжай за милицией, Никита!
Но Лонжуков, поразмыслив, решил, что будет лучше, если он все-таки останется на месте происшествия – мало ли что! – а за милицией поедет кто-либо другой. Он подошел к владельцу второй иномарки, своему приятелю, объяснил тому, как проехать на станцию и где найти отделение милиции, и тот уселся за руль. Громко заработал мотор.
Колька взглянул на отъезжающую машину и почувствовал накатившую на него тоску. «Надо как-то вырываться, – подумал он устало. – Но как? Обложили, точно зайца, сволочи!»
Он посмотрел на сына, жестом указал ему на стул, стоявший в центре комнаты, и сказал, стараясь выглядеть веселым:
– Садись, Павлуха, надо поговорить…
Павлик глядел на отца и, кажется, все понимал. И очень жалел его, хотя и не представлял, сколь серьезными могут быть последствия. Просто чуяло его маленькое сердечко, что здесь что-то не так.
Он верил, что отец его добрый, хороший человек, никому не желающий зла, что бы там ни кричали за воротами. Павлик влез на стул и замер. Колька прохаживался по комнате взад и вперед, поглядывая то в одно окно, то в другое, продолжая вести наблюдение за тем, что делается на улице, и стараясь не упустить из виду ни одной мелочи в действиях противника.
Шум за воротами поутих, хотя народу прибавилось – на выстрелы сошлись жители соседних дач. Некоторые были с Колькой знакомы, другие знали его только в лицо, третьи вообще не имели о нем никакого понятия. Уяснив суть происходящего, теперь сообща решали, что следует предпринять и как обезвредить захватчика. Варианты все были глупые. Один, например, предложил бросить в окно дымовую шашку, чтобы выкурить злодея во двор, где его проще будет захватить, и выразил при этом готовность сбегать к себе на дачу и такую шашку принести. Автор столь любопытного проекта, как выяснилось, работал на «Мосфильме» директором кинокартины и держал у себя в доме на всякий случай пару дымовых шашек, которые обычно используют при съемке батальных сцен. «Что вы говорите, ненормальный! – возмутилась Анастасия Львовна. – Там же ребенок, ценные вещи… А вы хотите – дымовую завесу!» Другой умник, недавно вернувшийся из Европы, одетый в вельветовые шорты с красной надписью латинскими буквами «перестройка» на заднем кармане, предложил более ошеломительный ход. Идея заключалась в том, чтобы выстрелить в Кольку ампулой со снотворным и усыпить его, как это обычно делают с крупными хищными животными в африканских заповедниках, когда требуется оказать им необходимую медицинскую помощь. «А у вас есть эти самые ампулы и спецружье?» – спросили у наделенного столь богатой фантазией «европейца». «Нет», – ответил тот. «Так что же вы, в таком случае, предлагаете! – обрушились на него. – Вы б еще группу захвата предложили вызвать из Америки!» Потом разговор как-то незаметно пошел по другому руслу. Стали обсуждать личность Кольки и почему он так поступил. «Вы говорите, ребенка хотел украсть? Ишь ты!» – «Хотел. Слава богу, сорвалось…» – «А зачем ему красть?» – «Это вы у него спросите…» – «И все-таки? Должна же быть причина?.. Вы, видимо, не давали ему с мальчиком встречаться?» – «И правильно не давали! Видите, какой он человек? Он всегда дурно влиял на ребенка… Вы что, стали бы спокойно смотреть, как из вашего сына черт-те что делают?!» – «Судя по всему, он мальчика любит. Это хорошо. А то отцы нынче какие пошли: только развелся, и поминай как звали! И ребенок, которого он еще вчера обожал и души в нем не чаял, сегодня ему до лампочки!..» – «Эдак каждый из ружья начнет палить – что же тогда будет?!» – «Жаль парня! Захват чужой дачи, применение огнестрельного оружия – лет пять получит как пить!» – «Нечего с хулиганьем нянькаться! Сколько можно! Пора ужесточать законы… Ведь это подумать только: ружье на невинных людей поднял! Распустились, обнаглели без Сталина, сволочи! Иосиф-то Виссарионович, он бы этого не допустил…» – «А разве нельзя было мирно договориться насчет пацана? Сами тоже виноваты! Сейчас бы никто не стрелял…» – «Послушайте, мы в ваши дела не лезем, и уж вы будьте любезны!..» Одним словом, одни, как обычно бывает, осуждали Кольку, другие жалели его, понимая, что тюрьмы ему не миновать.
