Клиническая психология. Академический курс лекций
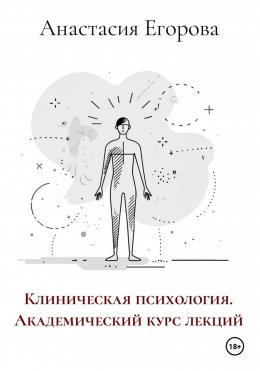
Становление и развитие клинической психологии
Становление и развитие клинической психологии связано с прогрессом как самой психологии, так и медицины, физиологии, биологии и антропологии.
Историю клинической психологии можно проследить с античных времён, когда психологические знания формировались в рамках философии и естествознания. Первые научные представления о психике, выделение науки о душе, а также накопление эмпирических знаний о психических процессах и их нарушениях были неразрывно связаны с развитием медицины.
Алкмеон Кротонский был одним из первых, кто предположил, что мыслительная деятельность локализуется в головном мозге.
Алкмеон Кротонский (540 до н.э. -. 490 до н.э.) – древнегреческий философ и врач, чьи точные биографические данные до наших дней почти не дошли. Историки полагают, что он был одним из последователей Пифагора, что во многом определило направление его мысли. Главным интеллектуальным достижением Алкмеона стало создание первого в греческой традиции медицинского трактата в прозе «О природе». В этой работе он выдвинул ряд революционных для своей эпохи идей. Вопреки господствовавшим тогда представлениям, он утверждал, что органом, ответственным за мышление и познание, является не сердце, а головной мозг.
В медицинской практике Алкмеон предлагал опираться на тщательное наблюдение за симптомами заболеваний. Он доказывал, что именно по внешним проявлениям недуга можно делать выводы об общем состоянии здоровья пациента. Кроме того, Алкмеон считается автором первой известной теории познания, основанной на чувственном восприятии. Согласно его взглядам, все представления формируются в мозге. Из этих первичных образов рождается память, а на их основе строятся суждения, которые, в свою очередь, ведут к подлинному знанию. Философ также занимался исследованиями в области эмбриологии. Согласно дошедшим до современных исследователей сведениям, Алкмеон, следуя учению пифагорейской школы, считал душу бессмертной, что еще раз подтверждает его тесную связь с этим философским направлением.
Имя Гиппократа, родившегося в 460 году до н.э. на острове Кос, навсегда вписано в историю как символ реформации античной медицины. Его происхождение из рода Асклепиадов, восемнадцать поколений которого посвятили себя врачеванию, предопределило его судьбу. Первые уроки будущий «отец медицины» получил от своего отца, врача Гераклита, и матери-акушерки Фенареты, пройдя путь от традиций народной медицины к высотам профессионального мастерства.
Гиппократ рассматривал мозг как орган психики, а его учение о темпераментах и классификация человеческих типов на соматической основе остаются важным наследием. Начав деятельность при храме, Гиппократ уже к двадцати годам достиг признания как искусный лекарь. Получив посвящение в жрецы, что в ту эпоху было обязательным для врача, он отправился в Египет для углубления своих познаний. По возвращении на Кос он основал собственную медицинскую школу, известную как Косская, где на протяжении многих лет успешно практиковал.
Переломным моментом в его биографии стало приглашение в Афины, охваченные эпидемией. Благодаря пониманию механизмов распространения заразы, ему удалось остановить чуму, за что благодарные афиняне даровали ему почетное гражданство и золотой венец. В этот же период он излечил своего друга, философа Демокрита, чьи идеи о причинности позже обогатили медицину учением об этиологии болезней.
Анатомо-физиологические знания эллинов были систематизированы и дополнены римским врачом Галеном (129—199 гг. н. э.,), в учении которого появились первичные представления о психическом факторе как о возможном источнике движения. Сочинения Галена оставались фундаментальным трудом для врачей вплоть до XVIII века.
В Средние века развитие медицины и психологии столкнулось со значительными трудностями из-за господства мистицизма, религии и преследований естествоиспытателей. Психология приобрела теологический характер, опираясь на философию Фомы Аквинского. Хотя Фома Аквинский, величайший схоласт XIII века, не занимался непосредственно медицинской практикой, но сочетание аристотелевской философии и христианского богословия оказало фундаментальное влияние на формирование понимания психики, заложив концептуальные основы для будущей медицинской психологии. Ключевым в его учении стал принцип гилеморфизма, утверждавший неразрывное единство души и тела. Такой подход, преодолевая платоновский дуализм, легитимизировал изучение психических явлений в их тесной связи с физиологией, что стало краеугольным камнем психосоматического подхода. Фома Аквинский, также предложил детальную иерархическую модель души, разделив ее на вегетативный, чувственный и рациональный уровни, что позволило систематизировать изучение психических функций – от базовых инстинктов до высших когнитивных процессов. Его эмпирический принцип, согласно которому всякое познание начинается с чувственного опыта, сместил акцент с умозрительных спекуляций на необходимость наблюдения за конкретными проявлениями психики.
Благодаря трудам Фомы Аквинского и его последователям, в области психологии появилась целостная рациональная модель человека, в которой психическое и телесное, аффективное и рациональное рассматриваются в неразрывной связи, стало важнейшей предпосылкой для возникновения научной медицинской психологии.
С наступлением Эпохи Возрождения человеческая психика была открыта заново благодаря творчеству великих гуманистов. Изобретение книгопечатания в Германии способствовало распространению идей гуманизма, а открытия Коперника, Бруно и Галилея заложили основы классической науки Нового времени. Парацельс представил новый взгляд на природу человеческого организма и разработал инновационные методы лечения. Анатомическая школа Везалия, пришедшая на смену учению Галена, в поисках материального субстрата психических процессов провела детальное описание мозга, что позволило исследователям вернуться к представлениям о целостности психического.
В XVIII веке в России начало развиваться просветительское движение, тесно связанное с русским масонством и стремившееся к глубокому осмыслению христианства. Как ни парадоксально, именно с этим движением связаны истоки формирования материалистических традиций в отечественной психологии.
К видным просветителям того времени относились профессор философии Московского университета И. Г. Шварц, призывавший к нравственному и духовному совершенствованию, и А. Н. Радищев, чья книга «О человеке, о его смертности и бессмертии» имела высокое психологическое значение.
В 1796 году вышла первая русская книга, посвящённая психологии, – «Наука о душе» М. И. Михайлова, который систематизировал психологические знания в духе эмпиризма Локка и описал ощущения, мысли и ассоциации представлений.
В середине XIX века немецкий физиолог Э. Г. Вебер внедрил соматические методы исследования психического, что вывело зарождающуюся психологическую науку за рамки чистого эмпиризма и придало ей точность математических выражений. Труд Вебера был развит Г. Т. Фехнером, чьи «Элементы психофизики» (1860) оказали неоценимое влияние на все последующие работы в области измерения психических явлений. Исследования Г. Гельмгольца, изучавшего время протекания нервных процессов, доказали, что психические процессы неотделимы от нервных, совершаются во времени и пространстве и доступны опытному изучению.
Значительный толчок развитию рефлекторной концепции дал И. М. Сеченов после открытия механизмов центрального торможения. В 1863 году он опубликовал книгу «Рефлексы головного мозга», ставшую основой для развития русской физиологии и науки о поведении.
Широкое распространение в биологии и медицине получила концепция Р. Вирхова, основателя современной патологической анатомии. Его целлюлярная патология, несмотря на некоторый механистический подход, оказала влияние на исследования П. Брока.
В 1861 году Брока представил в Парижском антропологическом обществе материалы изучения двух больных с потерей речи, установив связь между этим нарушением и поражением нижней лобной извилины левого полушария.
В 1874 году немецкий психиатр К. Вернике описал 10 пациентов с нарушениями понимания речи, связав этот симптом с поражением задних отделов верхней височной извилины, также левого полушария.
Развитие науки в середине XIX века привело к стремительным изменениям в представлениях о живой природе и функциях организма, включая психические как в норме, так и в патологии.
В 1879 году В. Вундт организовал в Лейпциге первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию. За годы научной и преподавательской деятельности он учредил первый журнал по психологии и открыл Институт экспериментальной психологии, где обучались в дальнейшем известные учёные, такие как Э. Крепелин.
В 1890-х годах Крепелин внедрил психологический эксперимент в психиатрическую клинику. Применяя ассоциативный эксперимент, он продемонстрировал различия в ассоциативных процессах при шизофрении и маниакально-депрессивном психозе, который ныне официально фигурирует в официальных документах, как биполярное аффективное расстройство. Ассоциативный эксперимент лег в основу теоретических взглядов З. Фрейда на происхождение неврозов.
В 1922 году немецкий психиатр Э. Кречмер выпустил первый учебник «Медицинская психология», где изложил методологические основы применения психологии во врачебной практике. Кречмер также известен работой о связи строения тела и характера, развив учение о различии между болезненными процессами и конституциональными особенностями.
Кречмер также известен своей работой о связи строения тела и характера, развив учение о различии между болезненными процессами и конституциональными особенностями.
Огромный вклад в развитие клинической психологии внес психоанализ Фрейда, возникший в девяностых годах XIX века из медицинской практики лечения пациентов с функциональными нарушениями психики. Психоанализ значительно продвинул психологическую теорию возникновения психических расстройств и открыл путь для психоаналитического лечения.
В 1880–1890-х годах в России экспериментальную психологию активно разрабатывали врачи-психиатры. В. М. Бехтерев открыл вторую в Европе экспериментальную психологическую лабораторию в Казани в 1885 году, а впоследствии организовал ряд лабораторий в Санкт-Петербурге для исследования нервнобольных. Сотрудниками этих лабораторий были разработаны методики экспериментально-психологического исследования психически больных, некоторые из которых используются по сей день.
Соратник Бехтерева, А. Ф. Лазурский, расширил применение эксперимента, распространив его на исследование личности. Он разработал метод естественного эксперимента, позволяющий изучать личность человека, его интересы и характер. Будучи заведующим психологической лабораторией Психоневрологического института, организованного Бехтеревым в 1907 году, Лазурский стал одним из создателей Санкт-Петербургской психологической школы.
В психологии наблюдался кризис, продолжавшийся до середины 1930-х годов. Именно в этот период начали возникать самостоятельные направления, претендовавшие на создание новых теорий. Благодаря этому кризисному периоду сформировались такие влиятельные школы, как бихевиоризм, глубинная психология и гештальтпсихология.
Бихевиоризм, или поведенческая наука, является одной из наиболее влиятельных и эффективных школ в работе с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
В 1913 году в США Дж. Уотсон, выступая с критикой структурного и функционального подхода в психологии, призвал рассматривать психологию как объективную экспериментальную область естественных наук. Основной теоретической задачей бихевиоризма стало прогнозирование и управление поведением человека.
Большое влияние на формирование бихевиоризма оказали условно-рефлекторная теория И. П. Павлова и теория сочетательных рефлексов В. М. Бехтерева. Павлов продемонстрировал в своих экспериментах, что высшую нервную деятельность можно описывать на подопытных животных в терминах физиологии, без привлечения понятия сознания. Дж. Уотсон использовал эту идею как основу своей программы и отмечал, что его работы и дальнейшее развитие бихевиоризма в США являются убедительным подтверждением идей и методов И. П. Павлова.
Гештальтпсихология возникла в период открытого кризиса как реакция против атомизма и механицизма ассоциативной психологии, а также бихевиоризма. Гештальтпсихологи выступили с новым пониманием предмета и метода психологии: они предлагали начинать с наивной картины мира, изучать реакции такими, как они есть, и исследовать опыт, не подвергшийся анализу, но сохраняющий свою целостность. Ключевыми единицами восприятия в гештальтпсихологии стали фигура и фон.
Для клинической психологии большое значение имели труды не только И. П. Павлова, но и английского физиолога Ч. Шеррингтона, австрийского психиатра З. Фрейда, нейрохирурга У. Пенфилда и различные нейропсихологические исследования.
Первые нейропсихологические исследования в 1920-х годах стали проводиться Л. С. Выготским.
В 1960-е годы в связи с исследованиями мозга вернулся интерес к проблеме сознания и его роли в поведении. В нейрофизиологии нобелевский лауреат Р. Сперри рассматривал сознание как активную силу.
В России нейропсихология получила развитие в трудах А. Р. Лурии и его учеников – Е. Д. Хомской, Т. В. Ахутиной, Л. С. Цветковой, В. В. Лебединского и других. Благодаря их работе был накоплен и систематизирован огромный пласт знаний о роли лобных долей и других мозговых структур в организации психических процессов. Ассимиляция опыта отечественных и зарубежных авторов позволила Лурии создать комплекс методов клинического исследования больных с поражениями мозга. Большое место в творчестве Лурии, которого называли научным романтиком, занимали вопросы нейролингвистики, неразрывно связанные с проблемами афазиологии.
В 1960-х годах, в период «хрущевской оттепели», началось возрождение научной психологии в СССР. Стал издаваться журнал «Вопросы психологии», где ведущие психологи страны выступали с программными статьями.
В 1956 году В. Н. Мясищев опубликовал в этом журнале работу «О значении психологии для медицины». Впоследствии Мясищев возглавил проблемную комиссию по медицинской психологии, и стали появляться монографические работы крупных отечественных психологов.
Конкретные цели медицинской, или клинической, психологии были сформулированы такими отечественными учёными, как В. Н. Мясищев, В. В. Лебединский, М. М. Кабанов и Б. Д. Карвасарский. Согласно их подходу, ключевые задачи заключаются в следующем:
– изучение психических факторов, влияющих на развитие болезней, их профилактику и лечение;
– исследование влияния различных соматических заболеваний на психику;
– анализ психических проявлений разных болезней в их динамике;
– изучение нарушений развития психики;
– исследование характера отношений больного человека с медицинским персоналом и окружающей его средой;
– разработка принципов и методов психологического исследования;
– создание методов психологического воздействия на психику человека в лечебных и профилактических целях.
Клиническую психологию иногда называют «малой психиатрией». Наиболее разработанными её разделами являются патопсихология и нейропсихология. Патопсихология, возникшая на стыке психологии, психопатологии и психиатрии, получила своё развитие благодаря идеям Б. В. Зейгарник, Ю. Ф. Полякова и других исследователей.
Что касается нейропсихологии, сформировавшейся на границе психологии, неврологии и нейрохирургии, то решающий вклад в ее становление как науки внес А. Р. Лурия, а также его ученики – Е. Д. Хомская и другие.
На развитие медицинской психологии значительное влияние оказали исследования по теории и практике реабилитации.
Например, М. М. Кабанов понимал процесс реабилитации как системную деятельность, направленную на восстановление личностного и социального статуса больного. С его точки зрения, реабилитация представляет собой особый метод, главное содержание которого состоит в опосредовании через личность лечебно-восстановительных мероприятий.
На сегодняшний день клиническая психология является одной из самых популярных и востребованных прикладных отраслей психологической науки. Несмотря на это, специалисты отмечают, что её развитие только начинается. В системе здравоохранения сохраняется большой дефицит квалифицированных кадров в этой области, который постепенно восполняется за счёт открытия новых учебных курсов и кафедр в вузах. Созданы профессиональные ассоциации, а интерес к этой области знаний в обществе постоянно растет.
Клиническая психология – это наука, изучающая:
– личность пациента, страдающего как соматическим, так и психическим заболеванием;
– влияние психических факторов на развитие болезни, включая экстремальные воздействия;
– психологические приемы профилактики и лечения болезней, включая психокоррекцию и психотерапию.
Клиническая психология традиционно подразделяется на общую и частную.
Общая часть медицинской психологии предполагает изучение основных закономерностей психологии больного человека, учения о личности, психологии медработников, их оптимальных взаимоотношений с пациентом и между собой. Сюда же относятся вопросы медицинской этики и деонтологии, изучение психосоматических соотношений, а также способов психокоррекции и психотерапии.
Частная медицинская психология изучает те же вопросы, но применительно к отдельным заболеваниям и состояниям, в том числе при экстремальных воздействиях. Особое внимание уделяется исследованию больных на этапе подготовки к хирургическим вмешательствам, пациентов с дефектами органов чувств (слепота, тугоухость), лиц с пограничными психоневрологическими состояниями и людей, переживающих ситуацию утраты.
Клиническая психология имеет глубокие связи с другими прикладными областями: психологией труда, инженерной, юридической и криминальной психологией, конфликтологией и психологией искусств. Методология и практика клинической психологии проникают практически во все направления психологической науки.
В контексте криминальной психологии клинические психологи, например, могут обращаться к наследию Ч. Ломброзо и его теории о «врожденном преступнике» как к историческому примеру попытки биологизировать преступное поведение. Не смотря на то, что труды Ломброзо могут показаться излишне категоричными для современной психологии, они все же являются классическими и являются достойной вехой общей картины психологической науки разных отраслей.
Деятельность клинического психолога интегрирована во все основные сферы медицинской науки и практики, поэтому она регулируется строгими этическими принципами, общими для всей медицины:
Принцип «не навреди» (модель Гиппократа). Эта первая форма врачебной этики была изложена самим Гиппократом в «Клятве», а также в его книгах «О законе», «О врачах», «О благоприличном поведении» и «Наставлениях».
Принцип «делай добро» (модель Парацельса).
Принцип «соблюдения долга» (деонтологическая модель).
Принцип биоэтики «уважения прав и достоинства личности».
Этические модели в медицине и клинической психологии: исторический контекст и современное применение
В древних культурах – вавилонской, египетской, иудейской, персидской, индейской, греческой – способность врачевать свидетельствовала об избранности человека и определяла его элитное, как правило, жреческое положение в обществе.
Принцип Гиппократа «не навреди» формирует исходную профессиональную гарантию, рассматриваемую как условие и основание признания врача обществом и каждым отдельным человеком, доверяющим ему своё здоровье и жизнь. Гиппократ уделял значительное внимание внешнему виду врача: человек, занимающийся врачебной деятельностью, должен быть опрятен и вызывать доверие. Моральные качества и профессиональный внешний вид играют большую роль, поэтому экстравагантный или неформальный облик клинического психолога (например, яркий цвет волос, пирсинг) недопустим, так как он может препятствовать установлению доверительного контакта с пациентом.
Парацельс в своей модели уделял огромное внимание взаимоотношениям врача и пациента. Принцип «делай добро» (благо, твори любовь, благодеяние, милосердие) характеризует врачевание как организованное осуществление добра и заботы о пациенте.
Деонтологическая модель этики представляет собой совокупность должных правил, регламентирующих работу любого психолога. Эти правила подробно изложены в профессиональных этических кодексах. Нарушение этих рекомендаций может повлечь за собой дисциплинарные и правовые последствия для специалиста. Например, интимные контакты между психологом и пациентом, возникающие в период лечения, считаются аморальными; более того, интимная связь с бывшим пациентом также может быть расценена как неэтичная. Существуют четко сформулированные правила поведения, разработанные практически для каждой медицинской специальности, включая клиническую психологию.
Принцип биоэтики – это принцип уважения прав и достоинства личности. Если к психологу обращается человек, придерживающийся иных религиозных взглядов, имеющий аддиктивное поведение и состояние, такое, как порнозависимость, специалист не имеет права его осуждать. Клинические психологи признают, что человеческий опыт многообразен, и обязаны уважать личный опыт пациента. Несмотря на наличие собственных взглядов, психолог в процессе терапии должен воздерживаться от их навязывания. Биоэтика является современной формой традиционной профессиональной биомедицинской этики, где отношения подчиняются сверхзадаче сохранения жизни и достоинства человеческого рода.
Сложной этической дилеммой для клинического психолога является работа с женщинами, планирующими аборт. Какой бы сложной ни была ситуация пациентки, психолог, руководствуясь принципом сохранения жизни, в первую очередь обязан предоставить аргументы в пользу сохранения беременности, чтобы побудить человека к глубокому осмыслению своего решения. Однако специалист не имеет права настаивать или принуждать; его задача – использовать методы консультирования (например, метод убеждения и оспаривания) для того, чтобы клиентка самостоятельно пришла к взвешенному выводу.
Не менее сложной является работа с случаями многолетнего инцеста между родителями и детьми. В подобных ситуациях клинические психологи, прежде всего, руководствуются сверхзадачей сохранения физического и психического здоровья пострадавших, что непосредственно связано с сутью и предназначением морали.
К вопросам биоэтики также относится проблема эвтаназии, которая обычно возникает, когда пациент необратимо утратил сознание и испытывает интенсивные, непереносимые страдания, вынуждающие медицинский персонал поддерживать его жизнь в бессознательном состоянии с помощью медикаментов. В России законодательно принят вариант так называемой пассивной эвтаназии, когда используется принцип отказа от лечения, исключающий прямой акт умерщвления. Например, если человек находится в глубокой коме, из которой вывести его невозможно, медицинский персонал обязан поддерживать его жизнедеятельность, поскольку активная эвтаназия противоречит принципам биоэтики в стране.
Исходя из этой логики, в нейропсихологии, даже если человек перенёс три инсульта, но у него частично сохранно хотя бы элементарное осознание, нейропсихолог или клинический психолог обязан взять на себя ответственность за работу по восстановлению высших психических функций (например, речи и памяти). Даже если пациент находится в тяжёлом лежачем состоянии, но остаётся в контакте с реальностью, специалисты не имеют права прекращать с ним работу.
Правила, определяющие границы отношений между психологом и пациентом, являются очень четкими. Современная клиническая психология во всех своих разделах опирается на общие медицинские этические принципы, несмотря на то, что специалисты периодически сталкиваются со сложными и специфическими этическими дилеммами.
С точки зрения клинической психологии, работа со сложными случаями требует четкого алгоритма действий, основанного на профессиональных стандартах и этических принципах. Ниже приведены возможные планы работы для конкретных ситуаций.
Кейс 1: Подросток с самоповреждающим поведением на фоне семейного насилия
Ситуация: На прием анонимно обратился подросток, который сообщает о случаях селфхарма (самоповреждения). Причиной данного поведения называется ежедневное психологическое и/или физическое насилие со стороны родного отца.
Алгоритм действий клинического психолога:
Кризисная интервенция и установление контакта: В первую очередь, психолог обеспечивает психологическую безопасность и стабилизирует эмоциональное состояние подростка. Важно демонстрировать безусловное принятие и эмпатию, формируя доверительный альянс.
Оценка рисков: Специалист проводит оценку уровня суицидального риска и степени тяжести самоповреждающего поведения. Выясняется частота, способы и цели самоповреждений.
Информирование о пределах конфиденциальности: Психолог четко и деликатно объясняет подростку пределы конфиденциальности. Подчеркивается, что информация о насилии над несовершеннолетним, согласно законодательству, не может оставаться конфиденциальной и подлежит передаче в органы опеки и попечительства для защиты прав и жизни ребёнка.
Мотивация на раскрытие информации: Специалист мягко мотивирует подростка дать согласие на обращение в соответствующие органы, объясняя, что это необходимый шаг для прекращения насилия и обеспечения его безопасности.
Информирование органов: В случае согласия подростка или при наличии непосредственной угрозы жизни и здоровью (тяжелые формы насилия), психолог осуществляет звонок в органы опеки и полицию. Действия координируются с внутренним регламентом учреждения.
Разработка плана безопасности: Совместно с подростком разрабатывается план экстренной психологической помощи и безопасности, который включает техники саморегуляции, список телефонов доверия и алгоритм действий в момент острого желания нанести себе повреждения.
Кейс 2: Суицидальный абонент на линии телефонного консультирования
Ситуация: На телефон доверия звонит анонимный абонент и сообщает о своем твердом намерении совершить суицид (спрыгнуть с балкона) сразу после окончания разговора. Местоположение и личные данные абонента неизвестны.
Алгоритм действий психолога горячей линии:
Немедленная фокусировка на кризисе: Психолог признает серьезность намерений абонента, не преуменьшая их значимость. Задача – удержать абонента на линии любыми средствами.
Установление эмоционального контакта и активное слушание: Специалист проявляет максимальную эмпатию, пытаясь выяснить причины такого решения и давая возможность абоненту выговориться. Важно показать, что его слышат и понимают.
Прямой вопрос о суицидальном плане: Психолог задает прямые, но тактичные вопросы: «Расскажите, что именно Вы планируете сделать?», «Вы уже стоите на балконе?», «Есть ли рядом с Вами кто-то, кто мог бы помочь?».
Мобилизация ресурсов и поиск альтернатив: Специалист пытается найти «ниточку» к жизни: вспомнить о значимых близких, отложить выполнение плана («Давайте договоримся, что Вы ничего не будете делать, пока мы разговариваем»), предложить немедленно вызвать ему скорую помощь.
Попытка идентификации локации: Мягко и ненавязчиво психолог пытается выяснить адрес или местонахождение: «Для того чтобы Вам помочь, мне нужно знать, где Вы находитесь. Вы можете назвать мне свой адрес?».
Эскалация ситуации и привлечение экстренных служб: Если абонент назвал адрес или его удалось идентифицировать по косвенным признакам (звукам, упоминаниям), психолог, не прерывая разговора, передает коллеге информацию для экстренного вызова полиции и скорой помощи. Если связь прервалась, предпринимаются попытки перезвонить.
Кейс 3: Обращение мужчины с амнезией на фоне возможного участия в тяжком преступлении
Ситуация: Мужчина, руководитель строительной бригады, обращается с запросом на прояснение обстоятельств. После совместного распития алкоголя с подчиненными, между ними и незнакомым мужчиной произошел конфликт. У клиента наблюдается амнезия на события вечера. На утро участковый сообщил, что неподалёку было найдено тело незнакомца со следами насильственной смерти. Клиент хочет выяснить, участвовал ли он в убийстве и последующем расчленении. Предварительный вопрос: корсаковский синдром.
Алгоритм действий клинического психолога:
Четкое определение профессиональных границ: Психолог сразу информирует клиента, что его профессиональная компетенция заключается в оценке и восстановлении психических функций (памяти, мышления), но не в установлении факта совершения преступления. Подчеркивается, что специалист не является следователем или судьей.
Оценка психического статуса: Проводится первичная диагностика для выявления симптомов, характерных для корсаковского синдрома (фиксационная амнезия, конфабуляции, дезориентация) или других органических и токсических (алкогольных) расстройств.
Этическая и юридическая дилемма: Специалист оказывается перед сложным выбором. С одной стороны, сохраняется конфиденциальность. С другой – известно о возможном тяжком преступлении. Действия психолога должны строго регламентироваться внутренними инструкциями учреждения и нормами закона. В подобной ситуации психолог обязан проконсультироваться с юридической службой.
Рекомендация обратиться в правоохранительные органы: Основной рекомендацией клиенту должно стать немедленное обращение в полицию для дачи показаний и прохождения судебно-психологической и психиатрической экспертизы в установленном законом порядке. Психолог разъясняет, что только экспертиза в рамках уголовного дела может правомерно оценить его состояние и степень ответственности.
Отказ от непрофильных действий: Клинический психолог воздерживается от любых попыток восстановить память гипнотическими или другими методами, так как это может исказить потенциальные доказательства и неприемлемо с юридической точки зрения. Работа фокусируется на объяснении клинику его текущего состояния и необходимости следования букве закона.
Современные методы исследования в клинической психологии
Методы общей и клинической психологии во многом совпадают, поскольку такие методики, как исследование памяти, внимания, мышления и типа личности, применяются как в «здоровой», так и в «больной» популяции. При этом «здоровая» группа часто используется в качестве эталона для сравнения.
Ряд методов был разработан специально для нужд клинической психологии и внедрен, в частности, в Санкт-Петербургском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева. К ним относятся:
– ЛОБИ (Личностный опросник бехтеревского института): предназначен для исследования самочувствия пациентов, их отношения к болезни, лечению, медицинскому персоналу, семье и другим значимым аспектам;
– ПДО (Патохарактерологический диагностический опросник): используется для исследования типа личности подростков, выявления акцентуаций характера, аномалий и склонности к девиантному поведению.
Существуют методы, доступные для применения только психологом или психотерапевтом. Однако простые диагностические методики могут использоваться и средним медицинским персоналом, чаще по поручению врача. Такой специалист может проводить диагностику отдельных когнитивных функций (память, внимание, мышление) и некоторых личностных свойств (темперамент, самооценка, уровень тревожности), используя для этого несложные инструменты.
В современной практике большинство методик, используемых в клинической психологии, компьютеризированы, а подсчёт результатов автоматизирован. Несмотря на это, клинические психологи обязаны понимать и уметь применять «ручные» методы работы с бланками, знать их содержательное наполнение и принципы интерпретации.
С точки зрения клинических психологов, методологическую основу дисциплины, по классификации В. Д. Менделевича, составляют три основные группы методов:
Клиническое интервьюирование.
Экспериментально-психологические методы исследования (психологические эксперименты).
Методы оценки эффективности психокоррекционного и психотерапевтического воздействия.
Особое место занимает психодиагностика, без которой практическая деятельность клинического психолога невозможна. Отсутствие психодиагностической работы в практике означает, что специалист не занимается клинической психологией в её полном объёме.
Основными методами в практике клинического психолога являются: клиническое интервьюирование, экспериментально-психологические методы и проективные методы.
1. Клиническое интервьюирование
Данный метод, ранее известный как «метод беседы» или «наблюдения», является неотъемлемой частью диагностического процесса. Его цель – прояснение проблем пациента, изучение его отношения к заболеванию (внутренней картины болезни) и составление плана психотерапевтической помощи.
Важной задачей первого интервью является оценка фрустрационной толерантности – способности человека переносить состояние фрустрации (переживания непреодолимых трудностей, «потолка» в достижении целей) без нарушения психологической и социальной адаптации. Низкая фрустрационная толерантность проявляется, например, когда человек при первых признаках не тяжелого заболевания впадает в панику, забрасывает свои обязанности и полностью погружается в переживания. Ярким примером высокой толерантности является поведение А. П. Чехова, который, будучи неизлечимо болен туберкулезом, в последние годы жизни создал выдающиеся литературные произведения, поддерживал социальные контакты и не поддавался депрессии, несмотря на осознание неизбежного конца.
Критерием успешного клинического интервью является достижение максимальной доверительности. Для этого используются адекватные вербальные и невербальные техники общения, среди которых ключевое место занимает установление раппорта – особой доверительной связи. Раппорт устанавливается деликатно, с соблюдением профессиональной дистанции (около 1,5 метров, что соответствует социальной зоне общения).
На процесс взаимодействия влияют:
– дистанция (выделяют интимную, личную, социальную и публичную зоны; нарушение границ вызывает дискомфорт);
– взаимное расположение (позиция напротив друг друга без стола способствует доверию, тогда как расположение напротив за столом может провоцировать конфликт);
– особенности обстановки (расположение мебели, время суток, продолжительность беседы).
Клинический психолог должен контролировать мягкость голоса, собственные жесты и избегать прямых, некорректных вопросов («Бывают ли у вас галлюцинации?»). Последовательность вопросов эффективна при следовании предварительной схеме, а частые одобрения пациента способствуют углублению контакта.
Если в один день планируется и интервью, и тестирование, то беседа делится на две части: до и после эксперимента. По окончании интервью важно выяснить, получил ли пациент какую-либо степень помощи и стало ли ему легче.
В процессе интервью клинический психолог ведет постоянное наблюдение за мимикой, интонациями и реакциями пациента, осуществляя своего рода профессиональный «профайлинг» или верификацию эмоций. Эта работа требует высокой концентрации и энергозатрат, несмотря на внешнюю раскованность специалиста.
2. Экспериментально-психологические методы
Эта группа методов чрезвычайно разнообразна и включает тестовые задания, опросники, проективные методики и психофизиологические исследования. Диагностика может быть направлена как на оценку отдельных психических функций, так и на изучение индивидуально-личностных свойств.
Психометрические методы: используются для исследования интеллекта (например, тест Векслера) и представляют собой сложные, стандартизированные инструменты, применимые только клиническими психологами или психиатрами.
Психофизиологические исследования: проводятся в тандеме с поведенческими экспериментами и включают измерение кожно-гальванической реакции, сердечного ритма, ЭЭГ в ответ на специфические триггеры (например, у пациентов с ПТСР).
Процесс психодиагностики должен быть огражден от случайных влияний. Нельзя, например, проводить тест на тревожность с пациентом, страдающим социофобией, в людном коридоре, так как это исказит результаты. Результаты чётко классифицируются на норму, пограничное состояние и патологию (например, в тесте Эббингауза на запоминание 10 слов здоровые люди воспроизводят их все после 5-7 повторений).
Опросники делятся на:
– закрытые, которые предполагают выбор из ограниченного числа вариантов («да/нет», «скорее да/скорее нет», шкалы от 1 до 4). Примеры: тест Леонгарда-Шмишека, опросник Айзенка;
– открытые, которые позволяют давать свободные ответы. Пример: методика исследования уровня притязаний, где испытуемого просят назвать как можно больше имён, городов и т.д.
3. Проективные методы
При использовании проективных методик (тест Роршаха, метод незаконченных предложений) испытуемому предъявляется неопределённый стимульный материал, который он должен дополнить, развить или интерпретировать. Эти методы позволяют получить обобщенную оценку неосознаваемых побуждений, внутриличностных конфликтов, механизмов психологической защиты. С их помощью можно оценить, например, тип реакции на фрустрацию:
– экстрапунитивная: направленность вовне, обвинение окружающих.
– интрапунитивная: направленность на себя, самообвинение (аутоагрессия).
– импунитивная: оценка ситуации как малозначимой.
Проективные методы отличаются высокой сложностью и неоднозначностью интерпретации, поэтому их применение требует от клинического психолога значительного опыта и квалификации. Начинающим специалистам не рекомендуется опираться исключительно на эти методики, так как ошибка в интерпретации может иметь серьёзные последствия при работе с пограничными расстройствами личности, аддикциями и другими сложными состояниями.
В клинической практике проективные методы не могут выступать в качестве основных и используются только в комплексе с другими диагностическими инструментами.
После проведения курса психокоррекции или психотерапии клинические психологи оценивают эффективность предпринятых мероприятий. С этой целью Б.Д. Карвасарским были разработаны специальные шкалы, позволяющие специалисту оценить:
Степень симптоматического улучшения у пациента.
Уровень осознания психологических механизмов болезни.
Динамику изменения нарушенных отношений личности.
Степень улучшения социального функционирования.
Для оценки эффективности терапии, как правило, применяется широкий спектр инструментов, включая методы исследования памяти, шкалы для оценки тревожности и другие стандартизированные методики.
Клиническая психология является доказательной научной дисциплиной и несовместима с такими областями, как парапсихология или экстрасенсорика. Несмотря на то, что в арсенале клинического психолога присутствуют суггестивные техники (например, аутогенная тренировка или клинический гипноз), их применение требует наличия соответствующего диплома и специализированного сертификата. Грамотный клинический психолог или нейропсихолог обязан предостерегать пациентов и их семьи от обращения к псевдоспециалистам, аргументируя свою позицию данными доказательной медицины.
От специалиста в области клинической психологии требуется максимально рациональное мышление и высокая компетентность. Например, при работе с пациентом с параноидной акцентуацией личности любое неверное упоминание или косвенное одобрение практик, связанных с гаданием или экстрасенсорикой, может спровоцировать манифестацию параноидной шизофрении.
Сфера деятельности клинического психолога чрезвычайно широка и включает нейропсихологию, патопсихологию, семейную психотерапию, работу с сексуальными аддикциями, посттравматическими расстройствами, аномалиями развития и психосоматическими заболеваниями. Профессиональная деятельность не ограничивается интервьюированием и психодиагностикой; она также encompasses ведение тренинговых программ, обязательную супервизию или интервизию, а также постоянную личную терапию.
Личная терапия рассматривается как необходимое условие для поддержания психического здоровья самого психолога, формирования здоровой самооценки и профилактики профессионального выгорания. Она позволяет специалисту адекватно оценивать клинические случаи, не проецируя на них собственные нерешенные проблемы.
Супервизия является важнейшим элементом профессионального роста, особенно для начинающих клинических психологов. Она предоставляет возможность разбора сложных случаев под руководством более опытного коллеги, что способствует повышению квалификации и предотвращению ошибок. При этом существуют различные форматы получения супервизионной поддержки, от индивидуальной работы до более доступных по стоимости интервизионных групп.
Отдельное место в структуре клинической психологии занимает патопсихология – отрасль, изучающая закономерности распада психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме. Термин был введён В.М. Бехтеревым в 1903 году.
Патопсихология, как часть клинической психологии
Основоположником отечественной патопсихологии является Б.В. Зейгарник – ученица известного немецкого психолога К. Левина. Ей принадлежит открытие так называемого эффекта Зейгарник, который заключается в том, что человек лучше запоминает прерванные действия, чем завершенные. Это явление концептуально близко к популярному понятию «незакрытый гештальт». Б. В. Зейгарник разработала теоретические основы патопсихологии, описала расстройства психических процессов и сформулировала принципы работы патопсихолога, которые были продолжены её последователями (Ю. Ф. Поляковым, С. Я. Рубинштейн, Б. С. Братусем и др.).
В то время как клиническая психопатология выявляет и систематизирует проявления нарушенных психических функций, патопсихология раскрывает характер протекания и особенности структуры психических процессов, приводящих к наблюдаемым расстройствам. Несмотря на первоначальную тесную связь с психиатрией, методы патопсихологии сегодня нашли применение и в общесоматических клиниках.
Ключевыми понятиями в патопсихологии являются симптом, как отдельный признак патологического состояния и синдром, который является закономерным сочетанием симптомов, объединенных общим механизмом возникновения. Синдромальная диагностика обладает большей специфичностью и ценностью, так как один и тот же симптом, например, галлюцинации, может наблюдаться при различных заболеваниях, таких как: отравления, депривация сна, тревожные расстройства, в то время как синдром представляет собой более определенную картину.
Патопсихологический синдром включает в себя не только признаки нарушений, но и сохранные стороны психической деятельности, что позволяет сформулировать функциональный диагноз. Этот диагноз отражает динамическую характеристику состояния индивида, его связи с социальной средой и потенциал компенсации нарушений. Патопсихологическое исследование особенно ценно при отсутствии четких клинических критериев, для оценки динамики состояния и эффективности лечения.
Клинический психолог не правомочен выставлять медицинские диагнозы, но формулирует психологический диагноз, например: «задержка психического развития». Заключение, составляемое специалистом, служит основой для взаимодействия с другими профессионалами: психиатрами, неврологами, дефектологами.
Психологическое заключение, предоставляемое по запросу пациента или при необходимости направления к смежному специалисту, должно включать:
– результаты диагностики и клинического интервью;
– гипотезу, объясняющую причины возникших нарушений.
– конкретные рекомендации и предпринятые психокоррекционные меры.
Эта информация помогает лечащему врачу определить наиболее адекватную тактику дальнейшего ведения пациента, делая сотрудничество между психологом и врачом максимально продуктивным.
Клинические психологи и нейропсихологи принимают участие в различных видах экспертиз: врачебно-трудовой, военно-врачебной, медико-педагогической, судебно-психиатрической. Результаты обследования, проведенного клиническим психологом, в судебной практике могут выступать в качестве самостоятельного вида доказательств.
Специалисты в области клинической психологии (клинические психологи, нейропсихологи, патопсихологи) активно участвуют в реабилитации больных и психокоррекционной работе. Реабилитационный процесс интегрирует фармакобиологические средства, психосоциальные методы лечения, а также мероприятия, направленные на оптимизацию социального окружения и внешних условий адаптации личности.
В геронтологических центрах работа клинического психолога, нейропсихолога или патопсихолога является необходимостью, поскольку восстановление пациентов после инсультов, инфарктов, повреждений мозга и нейрохирургических вмешательств в значительной степени зависит не только от медикаментозного сопровождения, но и от грамотно разработанной психокоррекции, психореабилитации и психотерапии.
Разграничение психотерапии, психокоррекции и реабилитации
С точки зрения клинической психологии, важно различать смежные понятия.
Так, психотерапия (в переводе с древнегреческого – «лечение души») представляет собой глубокий анализ проблем клиента с ориентацией на бессознательные процессы и структурную перестройку личности. Её лечебное воздействие направлено не на психику изолированно, а через психику – на весь человеческий организм. Психотерапия способствует разрешению эмоциональных, поведенческих и межличностных проблем, а ее конечной целью является изменение мировоззрения и улучшение качества жизни.
Психокоррекция (означающая «исправление») – это комплекс методик, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека, не имеющих органической основы. Психокоррекция повышает гибкость и адаптивность психики. Ключевое отличие от психотерапии заключается в том, что психокоррекция не ставит целью изменение структуры личности и может быть эффективной даже без полного осознания клиентом своих проблем. Если психотерапия воздействует на внутренний мир и мировоззрение, то психокоррекция фокусируется на устранении конкретных недостатков в развитии психики или поведенческих паттернах.
Реабилитация занимается возвращением лиц, перенесших психические или соматические расстройства, в общественную и профессиональную жизнь. На этой стадии речь идет о третичной профилактике.
Реабилитацию нельзя свести к одному-двум методам воздействия (например, психотерапии или трудотерапии) или описывать только через конечную цель (бытовое или трудовое устройство). Согласно системному подходу, реабилитация представляет собой динамическую систему взаимосвязанных компонентов, являясь одновременно и методом, и целью.
Концепция реабилитации, предложенная М. М. Кабановым и реализованная в клиниках Ленинградского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, имеет свою историю. Возникнув в середине 1920-х годов из идей «физической медицины», она обогатилась достижениями медицинской психологии, медицинской педагогики и медицинской социологии, сформировавшись на базе принципов нестеснения и социальной терапии.
Многие ошибочно сводят реабилитацию к «долечиванию» или использованию остаточной трудоспособности, что неправомерно сужает это сложное понятие. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, реабилитация понимается как третичная профилактика (где первичная – это профилактика в собственном смысле, а вторичная – лечение). Реабилитация – это, прежде всего, принципиально иной подход к больному человеку.
Современная концепция реабилитации предусматривает комплексный, интегральный подход к пациенту, учитывающий не только клинико-биологические особенности заболевания, но и личностные характеристики, а также факторы окружающей среды. Цель реабилитации состоит в восстановлении личного и социального статуса пациента вне зависимости от нозологии (будь то невроз, шизофрения, инфаркт миокарда или нарушения опорно-двигательного аппарата).
Диагностический инструментарий подбирается клиническим психологом индивидуально, в зависимости от поставленной задачи. Специалист находится в рамках профессионального стандарта, но несёт ответственность за методологический выбор.
Опытные клинические психологи (со стажем более 10 лет) обладают правом методической адаптации: они могут применять стандартизированные методы в нестандартизированном варианте для качественного анализа особенностей психической деятельности, если это оправдано диагностическими целями и профессиональным опытом.
Помимо патопсихологических методов, для решения диагностических задач, особенно в неврологии, нейрохирyргии и детской практике, применяются нейропсихологические методы. Они направлены на исследование особенностей речи, зрительного, слухового и тактильного гнозиса, а также позволяют выявить специфику нарушений кратковременной и долговременной памяти, в том числе с преобладанием патологии определенной модальности (зрительной, тактильной, слуховой). Наиболее распространены нестандартизированные варианты нейропсихологических методов, хотя применяются и стандартизированные, такие как диагностика по Л. И. Вассерману.
С точки зрения клинических психологов, при выборе психологического метода необходимо руководствоваться следующими принципами:
Цель исследования. Если целью является дифференциальная диагностика, определение глубины психического дефекта или изучение эффективности терапии, выбор метода определяется особенностями предполагаемого нарушения. Например, при подозрении на расстройство мышления клинический психолог выберет не тест Роршаха, а метод пиктограмм А. Р. Лурии, который позволяет выявить проблемы в мыслительной деятельности и оценить опосредованное запоминание.
Образование и жизненный опыт пациента. При выборе методики клинический психолог обязан учитывать образование, жизненный опыт и анамнез пациента. Сложные диагностические методики могут оказаться неэффективными для человека, занятого физическим трудом. Например, задание на образование сложных аналогий будет некорректным для пациента без соответствующего когнитивного опыта.
Особенности контакта с пациентом. Выбор метода зависит от особенностей контакта с больным. Например, при обследовании пациентов с нарушениями слухового анализатора целесообразнее использовать задания, рассчитанные на зрительное восприятие.
В процессе исследования клинические психологи обычно применяют задания, возрастающие по степени сложности. Исключением являются случаи, когда ожидается проявление псевдодеменции, аггравации или симуляции. При подозрении на симуляцию психолог может преднамеренно дать сложное задание, чтобы подтвердить свою гипотезу.
Среди современного поколения школьников и студентов, к сожалению, стала модной тенденция симулировать психическую патологию. Если несколько лет назад они чаще демонстрировали симптомы обсессивно-компульсивного расстройства или депрессии, то сегодня стали модными патопсихологические симптомы, характерные для вялотекущей шизофрении или биполярного аффективного расстройства. Такие случаи особенно характерны для подростков с истероидным типом личности, испытывающих дефицит внимания. Эти подростки могут вводить в заблуждение не только клинических психологов, но и психиатров, что иногда приводит к необоснованной госпитализации для наблюдения».
Б. В. Зейгарник отмечала, что проведение патопсихологического исследования в клинических условиях значительно сложнее, чем в естественной среде. Патопсихологические эксперименты направлены не на измерение отдельных процессов, а на изучение человека в процессе реальной деятельности. Они предполагают качественный анализ различных форм распада психики, раскрытие механизмов нарушения деятельности и поиск возможностей её восстановления.
Поскольку любой психический процесс обладает динамикой и направленностью, экспериментальные исследования должны отражать сохранность или нарушение этих параметров. Результаты эксперимента должны давать прежде всего качественную, а не только количественную характеристику. Многократное тестирование, констатирующее «распад личности», бесполезно без описания симптомов в динамике.
Результаты патопсихологических экспериментов должны быть надежными. Статистическая обработка материалов производится только там, где это целесообразно, поскольку количественный анализ не может заменить качественный. Как подчеркивала Зейгарник, важно не только то, какие задания выполнил больной, но и как он их понял и интерпретировал, а также чем были обусловлены его ошибки.
Анализ ошибок, а не только их констатация, представляет собой наиболее показательный материал для оценки особенностей психической деятельности больных. Построение экспериментально-психологического исследования в клинике отличается от обычного психологического эксперимента многообразием применяемых методов, поскольку процесс распада психики никогда не бывает однослойным.
При выполнении любого экспериментального задания в патопсихологии можно судить о различных формах психических нарушений, однако не каждый методический прием позволяет с одинаковой очевидностью оценить степень и форму нарушения. Важно, чтобы в ходе эксперимента выявлялась не только структура изменённых, но и сохранных сторон личности, что особенно значимо при планировании реабилитационных мероприятий.
Этапы психологического исследования
В клинической психологии присутствуют следующие этапы развернутого психологического исследования:
Изучение истории болезни и формулировка задач. Исследование начинается с изучения медицинской документации и беседы с лечащим врачом для конкретизации диагностических задач. При отсутствии врача клинический психолог самостоятельно проводит сбор анамнеза и выясняет особенности психического состояния пациента в процессе клинического интервью. Если пациент направлен врачом с конкретной гипотезой, психолог изучает анамнез, уже имея ориентировочное направление диагностики. Даже при поступлении пациента с готовым заключением психолог проводит собственное интервьюирование, так как результаты могут различаться.
Проведение исследования. Достоверность исследования зависит от отношения к нему больного и умения психолога установить продуктивный контакт. К проведению эксперимента приступают только после того, как психолог убедился в установлении необходимого раппорта – особой доверительной связи.
Раппорт представляет собой тонкую сонастройку психолога с пациентом, которая начинается с момента начала консультации. Для установления раппорта клинические психологи используют технику невербального отзеркаливания (позы, дыхание), а также вербальную адаптацию (использование темпа и тона голоса пациента, оперирование его лексикой). Это создает у пациента неосознаваемое чувство комфорта и безопасности, способствуя расслаблению и установлению доверия.
После установления раппорта психолог переходит к проведению патопсихологического эксперимента. Инструкция должна быть четкой и мотивированной. В процессе всего исследования психолог ведет непрерывное наблюдение за поведением пациента, анализируя его через призму профессионального «профайлинга» – верификации эмоций и намерений. Максимальная концентрация специалиста необходима, поскольку даже то, как пациент принимает инструкцию, может свидетельствовать об уровне его адекватности, активности и эмоционально-волевых ресурсах. Особое внимание уделяется мотивации пациента и смысловой значимости обследования для него.
Процесс взаимодействия с пациентом в ходе диагностики структурно делится на две взаимосвязанные части:
Беседа, предваряющая экспериментальную работу.
Беседа, осуществляемая в процессе самого эксперимента.
Экспериментальная деятельность неизбежно предполагает постоянное общение с пациентом, которое может быть как вербальным, так и невербальным, например, с использованием мимики для передачи поддержки и понимания. Содержание и направленность беседы всегда определяются конкретными диагностическими задачами, ради которых проводится исследование.
Патопсихологическое обследование включает в себя целенаправленное наблюдение за мимикой, жестикуляцией и общим поведением больного. Это наблюдение должно носить ненавязчивый, естественный характер, будучи не отдельной процедурой, а органичным элементом, встроенным в структуру эксперимента.
Анализ поведения и высказываний испытуемого позволяет клиническому психологу выделить несколько типов отношения к обследованию:
Активное – пациенты с интересом и желанием включаются в работу, адекватно реагируют на успехи и неудачи, проявляют искренний интерес к результатам исследования.
