Воин-Врач
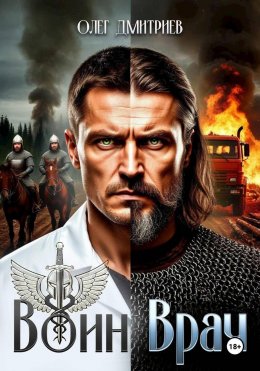
Глава 1. Вот и всё
"Всеслав-князь людям суд правил,
князьям города рядил,
а сам ночью волком рыскал:
из Киева до петухов дорыскивал до Тмуторокани,
великому Хорсу волком путь перерыскивал.
Ему в Полоцке позвонили к заутрене рано
у святой Софии в колокола,
а он в Киеве звон тот слышал."
"Слово о полку Игореве", памятник литературы Древней Руси.
А ведь с утра нормально всё было. Ну, на сколько в принципе с утра может быть нормальной жизнь у мужика под восемьдесят. Проснулся – уже хорошо. Побрился, не порезавшись – герой. Унитаз и тапки из обрезанных валенок не обрызгал – талант, самородок и умница, каких мало. Почему-то последние пару лет эти мысли посещали всё чаще. Расстраивали, конечно. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду размышлять о такой ерунде, да ещё и переживать по этому поводу? Вспоминать, как раньше носил чешские и немецкие туфли, покупал галстуки в универмаге «Москва» и стригся в «Чародейке». Старость пришла, не иначе.
И почему-то особенно ярко именно эти два года, что я жил в деревне, приходили воспоминания. Кто-то писал, что с возрастом ярких эмоций в настоящем не остаётся, они все переезжают в прошлое. А потом забирают с собой хозяина и главного героя этих воспоминаний. Туда же, в прошлое. Мне ли, врачу со стажем больше, чем в полвека, сомневаться в конечности бытия? Смешно. Не очень, но смешно.
Пёс уже поскуливал под дверью, предвосхищая встречу и прогулку. Надо же, мне столько радости только от возможности на собственную рожу смотреть и не снилось. А он скачет, руки лижет, хвостом метёт. Полтора года уже, а щенок щенком. Ну, я не кинолог и не дрессировщик, как-то худо-бедно договорился с ним, чтобы далеко не отходил на прогулке, да чтоб на зов прибегал. Сын старший подарил щенка восточно-европейской овчарки, от каких-то специальных военных привёз, возле города, где он работал, кинологическая часть недалеко базировалась, вот там и добыл. Толковый он, старший-то. Как почуял, что заскучал я тут в тот год сильнее обычного. Ну, или мать подсказала. Она у нас специалист по тому, чтоб втихаря вопросы решать: вроде как они сами по себе выправляются, а она и ни при чём. Скромная у меня жена, что и говорить. А ещё верная и терпеливая. Наверное, она да дети – самые главные мои достижения в жизни, самые ценные награды. Иногда кажется теперь, что даже не заслуженные.
– Вольф, ко мне! – а голос-то ещё есть, вон как скворцы с липы снялись.
Сын так назвал, я бы попроще чего придумал, Рекс там или Амур. Но дарёному танку, как известно, в дуло не смотрят: Вольфганг, так Вольфганг. Он, когда шкодил по молодости, я себя прямо как в кино чувствовал: встанешь на крыльце, бровь эдак изогнёшь, и на всю улицу – «Вольфганг, химмельхэррготт*, кто тапок унёс?! Что глаза прячешь? А ну ко мне!». Хотя, честно говоря, в немецком я не силён, как все дети, что Войну застали, несколько фраз знаю. Французский-то получше, хотя тоже забывать стал.
Прошли с ним до колодца, пять домов всего налево. Там постоял я, закурив, пока он белку ругал, что на сосну забралась, хвостом рыжим только что по морде его не зацепив – хитрая, не боится дурака. За колодцем, ещё через дом, между участками к реке спустились. Речка тут вроде и небольшая, но камнем я бы и в молодые годы с трудом перекинул. Сейчас-то и думать смешно. А вот лавочка на берегу, как раз над поворотом, нравилась мне. Сядешь, на блеск да на рябь глядя, и сидишь себе спокойно. По реке сразу понятно, какая погода, силён ли ветер, и открыли ли щиты на плотине на Волге, куда она впадала. Странная она, я когда первый раз заметил, здо́рово удивился: на той неделе в одну сторону текла, а на этой – в обратную. Давно это было, скоро тридцать лет, как дом этот построил, да сарай, да баню. Думали с женой: выйдем на пенсию – вот где рай-то будет. Летом грибы-ягоды, огород большой. Зимой в погреб слазил, огурчиков хрустких с дубовым, вишнёвым да смородиновым листом достал, пацаны приедут, в баньку сходим… Сыновья в этот год за зиму раз пять приехали. Старший-то ладно, живёт далеко, семья своя, а вот младший, как мы с матерью за город перебрались, совсем вожжи упустил. Соседи говорят, каждую неделю фестивалит, пару раз даже милицию вызывали. Да, это речке хорошо – то в одну сторону течёт, то в другую. Жизнь не такая, у неё такого разнообразия нет.
Час почти сидел на лавочке, Вольф даже скакать устал по высокой траве. Сбегал к берегу, налакался шумно, лег рядом, язык вывалил, дышит глубоко. Хорошо ему тут, привольно. Я старшему, когда он в школу пошёл, достал щеночка, тоже овчарочку, чтоб к режиму оба привыкали. В городе собаке гораздо хуже, конечно. И не побегать особо, и в квартире сплошные ограничения. Тут – рай, о чём и речь.
С лавки поднялся и пошёл за радостным псом обратно. Знает, хитрая скотина, что после прогулки я завтракать сяду, а он шакалить будет под ногами, и хоть тресни, а непременно поймает-выклянчит хоть корочку, хоть хвостик от колбасы. Такую морду состроит – не хочешь, а дашь. Не собака, а Луи де Фюнес, когда голодный. Это тоже, наверное, с годами пришло. Раньше не припомню за собой ни сентиментальности такой, ни желания или хоть какого-то намёка на «потакать». А теперь этот хитрован того и гляди стащит чего-то со стола. Да и с младшим, надо думать, тоже слабину дал я. Он родился, когда мне уже хорошо так за полста было. Мужики говорили, в такие годы внуков нянчить надо, а я вон сына состругал. И к воспитанию, видимо, подошёл, как дедушка, хотя вроде и воли особо не давал, и к труду привлекал, как и старшего. Только сейчас сядешь под яблоней чаю попить или перекурить, да думаешь: «это сам делал, это с мужиками с работы, это старший помогал, и это, и вот тут тоже, по пальцу себе ещё так молотком навернул, помню! С лесо́в слезает, глаза белые, и молчит. Я ему – что? А он руку левую из-за спины вынимает, а там в среднем пальце, синем аж, в верхней фаланге пробойник торчит. Прям так шляпкой и вбил. Промыли, зажило, конечно, даже ноготь не сошёл. А вот про младшего что-то ничего и на ум не шло, кроме того, как он то баню чуть не спалил, то в дом через окно залезал, когда с друзьями сюда позапрошлой зимой приехал. Ключ-то забыл, балбес. Я, помню, из машины вышел, гляжу – а в окне матрас торчит и два одеяла, как задница чья-то. Ну, хоть придумал, как не замёрзнуть, молодец. О, и тут я его хвалю! Ну а как, с другой стороны, не хвалить-то? Вылитый я в юности. Одно к одному – и бокс, и девчоночки хороводом, и прочее. Только я в его годы в институт собирался поступать, а он в ПТУ подался, на этого, как его… менеджера! Ну, с другой стороны, может и к лучшему это?
Жена проснулась, пока мы гуляли, на стол накрыла. Сели на летней кухне, под той самой яблоней, которую сажали со старшим, ему тогда лет десять было. Младший на неё мешок боксёрский повесил и ветку обломал, но это потом уже, конечно.
– До рынка доедем? – спросила жена. Точно, собирались же вчера. Манки надо взять, да творогу – она такие сырники жарит, что за них душу отдать можно. И ещё о чём-то разговор был, вроде.
– Сейчас, чайку попьём, да двинемся. Кроме творогу и крупы чего там нужно?
– Мука заканчивается, если к выходным беляшей нажарить, как хотели – не хватит. И ты лак хотел какой-то купить, пол-то вон вытерся как.
Точно, хотел. Молодец она у меня, всё помнит, всё знает, да ещё и молчать умеет, когда надо. Правда, бывает, так красноречиво молчит, что уж лучше б лаялась…
Машину прогревал недолго, лето же, и выгнал за ворота. Жена закрыла калитку изнутри, а их – снаружи, палкой подпёрла. Всё никак не навешу ушки да замо́к в них. Хотя, от кого тут запираться? Десяток домов в деревне, все друг друга знают, а от огородов да товариществ далеко. Это вокруг них в том году две деревни обнесли дочиста – жульё какое-то осталось зимовать в СНТ, а там разжиться-то особо нечем, вот и вышли на промысел. Говорили, в Иванцево так напугали старушку одну, что померла. Нету совести в людях, это ж кем надо быть, чтоб у старух последнее отбирать, муку, соль да иконы?
«Ласточка», как звала её жена, ехала привычно, неторопливо. Глаза уже не те были, ну так и гонять мне некуда, до райцентра полчаса, ну, может, сорок минут. Раньше, бывало, и за пятнадцать долетал. Отлетался, не спешу больше никуда. Старший предлагал новую машину, да куда мне? Их, иномарки эти, чинить – никаких денег не хватит. Да и не для моего возраста они, там на кнопках всё, на электричестве, все мышцы последние атрофируются. То ли дело в классике «Жигулей»: тут одним пальцем не то, что руль не повернёшь – на гудок не надавишь, всей ладонью надо. Хоть какая-то гимнастика. Да и тюкнуть её не так жалко, если не дай Бог что.
Солнце сияло так, что глаза слезились, узенький щиток-козырёк сверху не помогал, видно было плохо, пока по гравийке ехали. На перекрёстке с асфальтовой до райцентра пропустил лесовоз, маршрутку и две легковые слева. Справа, в сторону города, было пусто. «Ласточка» взобралась на гладкую чёрную дорогу, будто выдохнув, и припустила вперёд. Лучи теперь падали справа, золотя волосы жене, отражаясь в её очках. Совсем седая она у меня стала…
– Смотри, смотри! – пронзительно крикнула вдруг она, хватаясь правой рукой за ручку над дверью.
Повернув голову, успел увидеть, как маленькая машина, что шла перед нами ещё медленнее «Ласточки», потому и догнали, вдруг зарыскала по дороге, будто колесо пробило, а водитель пытался поймать контроль над ней, ставшей вдруг неуправляемой. Пролетел мимо очередной лесовоз. А вот под второй, следовавший за ним, отчаянно басовито гудя, скрипя и дымя резиной по асфальту, с прицепом, уходящим в юз, и влетела болтавшаяся перед нами легковушка.
– Выйдем – поставь сзади знак аварийный, он в багажнике, и ко мне, – бросил я жене.
Очередным её плюсом было уникальное умение мгновенно мобилизоваться. Тогда, в Кабуле, профессора из Академии имени Кирова поражались. Привезут массовое поступление, на четырёх столах оперируешь, а она помогает. Ещё и шутить с теми, кто в сознании был, успевала, хотя там не до шуток было совершенно. Видели бы они, как она рыдала потом в квартире и умоляла вернуться в Союз…
«Ласточка» замерла в паре метров от вставшего-таки грузовика. Я выбрался наружу, не закрыв дверь, и бросился к маленькой машине. Ну как – бросился, похромал быстрым шагом. За спиной скрипнул багажник и разъехалась молния на «Наборе автомобилиста», в котором лежал складной знак аварийной остановки. Кто бы знал, что понадобится хоть раз?
Под лесовозом расползалась лужа, воняя соляркой. Хотя, как говорил один знакомец давний, «бензин воняет, солярка пахнет!». Он был мехводом, да каким-то специальным. Сам себя называл «испытатель-истребитель советской военной техники», потому как по результатам испытаний выдавал такие вердикты, что иногда проще было новый танк сделать, чем под его «хотелки» прототип исправить. Но исправляли. Мне же запах дизельного топлива никогда не нравился. Наверное, после той истории, когда в госпиталь привезли обожжённых танкистов, а подсоветный хирург Абдулла решил, что они обгорели до углей, четвёртой степенью, и отказался оперировать. Потом опомнился, конечно, когда кровь из носа идти перестала – я не придумал, как быстрее его в себя привести. Говорили, он чуть ли не Наджибулле** жаловался. Но тот, вроде как, одобрил мои действия. Жалко Наджиба, конечно, не на своём месте был, врачом бы больше пользы принёс народу. Тьфу, что только не всплывёт в памяти!
На водительское стекло, заляпанное изнутри красным, смотреть было неприятно. Хотя, пожалуй, на подавляющее большинство виденных мной за свою жизнь картинок ни у кого глядеть не возникло бы ни малейшего желания. Люди в белых халатах только в самом начале в белых. Дёрнул дверь на себя. Не поддалась, подклинило при ударе, видимо. Дёрнул сильнее. Отошла чуть рамка сверху, и ручка пластмассовая в пальцах рассы́палась в труху. А из узкой, в палец, щёлки брызнула алая артериальная кровь тонкой струёй.
Схватив двумя руками верх двери там, где протиснулись пальцы, выдернул-таки её.
Женщина. Без сознания. Беременная. Множественные резанные от осколков лобового. Крупный рассёк сонную. Руки сделали всё сами: левая пережала четырьмя пальцами артерию, и фонтанчик затих. Правая потянулась за спиной женщины и отщёлкнула ремень безопасности. Ноги целы и не заблокированы, шея визуально без повреждений, надо вынуть её. Тут же какие-то подушки ещё должны быть? Почему не сработали?
– ДТП с пострадавшими, срочно нужна «скорая» и пожарные, километров семь от города к югу! Ждём! – это жена. Золото моё.
– Валя, кто дежурит сегодня? ДТП, есть раненые, «скорая» к вам повезёт, готовь операционную! – это она же. А Валентина – это подруга её, старшая сестра в районной больнице, работает ещё, не ушла на пенсию. Золото, а не жена, говорю же.
– Чего творишь, дед?! Их нельзя трогать до приезда медиков! Убери руки от неё! – это водитель лесовоза с той стороны выбрался.
– А ну сам убрал руки от доктора! – ох и голосина у неё, когда надо, конечно.
– Ой, – неожиданно поменялся голос водилы, – а я же вас помню! Вы мне руку собрали заново, когда в станок затянуло! – знал бы ты, парень, что сейчас вообще легче не стало тебя узнать. Много вас таких за полсотни лет руки совали куда не лень.
Жена протянулась подмышкой справа и отмахнула мешавший ремень перочинным ножиком. Он у неё всегда острый, я сам точу. Вытянула перерезанную чёрную ленту снизу, под животом.
– Воды отходят. Вынимаем, раз – два – три, – в три руки вытащили женщину, как когда с носилок на стол перекладываешь, тем же движением почти. Только пальцы мои ей артерию продолжали фиксировать. И спина неожиданно выдержала. Потом обезножу, а пока нельзя, никак нельзя.
– Кто отходит, куда?! – закричал водитель растерянно.
– Ноги держи, и не ори. На плед несём, – гавкнул на него я. Бывает, когда нервотрёпка одолевает, речь на человеческую становится мало похожа. А вот на лай – вполне. Главное, что понимают её и слушают гораздо лучше, насмотрелся за жизнь. – Воды найди чистой, и аптечки тащи все!
Убежал, сперва к нашему багажнику, чемоданчик чёрный достал и рядом с пледом положил. Плед-то тоже жена расстелила, наш, с заднего сидения. А водитель обежал с обратной стороны кабину и выскочил оттуда ещё с одной аптечкой и двумя баклажками воды.
– Вот, на ключе набрал, холодная, – предупредил он. А меня насторожило что-то, когда он хлопал дверью, но что – сам не понял.
– На руки лей, – мы с женой выставили руки, она две, я одну.
И впрямь ледяная водица-то. Раненая так и не очнулась, хотя на неё если и попало, что несколько капель всего. А жена уже спиртовым салфетками обработала одну мою и обе свои.
Чистой рукой поднял веки, посмотрев зрачки, ощупал шею и рёбра. Если что и не так с ними, то я не углядел. Реакция на свет была, как при не особо тяжёлом сотрясении. Дышала сама и примерно так же. Пульс плясал, это я чувствовал подушечками мизинца и, чуть похуже, безымянного пальца левой руки. Которые начинали неметь. Но рана не кровила, и это было важнее.
Мальчик, с виду вполне здоровый, родился буквально через десять минут. Бывает такое, «стремительные роды» в учебниках называется. Только там, кажется, другие сроки были. Не вспомню, давно акушерское дело сдавал. Очень давно. Но прошло всё как по маслу: ребёнок вылетел пулей, если знать, что можно и по шесть, и по восемь часов рожать. Только вот водила оказался слабоват:
– Что это такое?! – прохрипел он и брякнулся в обморок. Хорошо хоть, башку об асфальт не расколол, вообще некстати было бы.
И чего напугался, спрашивается? Ну, непривычно, конечно, когда в пузыре рождается ребёнок, в плаценте. Плёнка эта, глянцевая, непрозрачная, сосудами вся в сеточку испещрена, вид так себе имеет. Чем-то отдалённо на говяжьи лёгкие похожа, если их на рынке покупать. Но чтоб от такого зрелища здоровый шофёр опал, как тургеневская барышня?
Жена тем же перочинным ножиком, продезинфицировав предварительно, вскрыла послед, достала мальчишку. Я правой рукой перевязал пуповину, оказывается, в нашей аптечке и шовный материал был, правда, с каких пор там лежал – одному Богу известно. А навык узлы вязать одной рукой пригодился, смотри-ка, вот уж не думал, что ещё хоть когда доведётся. Но наловчился за жизнь. Это, конечно, не как на велосипеде ездить: один раз выучился – никогда не забудешь, тренировки тоже важны. Но я, видно, тренировался достаточно, рука сама всё сделала.
Пока вязал, ещё волновался: молчал мальчишка, рот разевал, но звуков не было. Неужто помяло при аварии? Но когда жена махнула ножиком и перерезала пуповину – голос подал. Она обернула его каким-то не то полотенцем, не то пелёнкой, которая неизвестно откуда нашлась у нас, и держала на руках. От предложения подменить меня, чтобы рука отдохнула, я отказался. Не было никакой уверенности в том, что смогу перехватить нормально правой, а левую давно не чувствовал. Но рана по-прежнему не кровила, и это по-прежнему было главным сейчас. Спасти малыша и угробить мать? Ну уж нет!
Скоропомощная ГАЗель, воя и мельтеша, подлетела и едва бампером не упёрлась в лесовоз. Вылетевшей фельдшерице жена вручила свёрток с вопившим пацанёнком, почти вырвав у неё чемодан с крестом – откуда только сил нашла столько. В руках у неё блеснул зажим. Ого, Бильрот, удачно, что нашёлся! Она протянула его мне, держа браншами к себе. Пальцы моей правой руки сами собой нашли кольца. Зажим нырнул в рану. Чувствуя онемевшим указательным левой руки стальной клюв инструмента сквозь кожу, завёл его за артерию и защёлкнул кремальеру. Вторая женщина из «скорой» быстро написала на лейкопластыре время и налепила на плечо раненой – так не будет вопросов, когда снимать, и со швами тянуть не станут, когда доставят. Крепкие тётки в синей униформе, одна из которых взяла у жены новорожденного и умостила на груди у матери, подхватили плед за углы и отнесли ближе к скорой, из которой пожилой водитель выкатывал носилки. Раненая, так и не пришедшая в себя, смотрелась маленькой и беззащитной. Не знаю почему, но чувства были именно такими. Ей бы грудь ребёнку дать – вон как развопился, бедный. И тут за спиной что-то заскрипело и хрустнуло.
А я вдруг понял, что меня так насторожило, когда водитель хлопал дверью. То, как качнулись брёвна на лесовозе. Которые должны были, по идее, быть надёжно закреплены. И как наклонилась одна из вертикальных стоек. Старый друг, геолог, одно время работавший при леспромхозе, говорил, что они ещё назывались как-то забавно, стойки эти – не то «мальчики», не то «коники». А машину правильно называть было не «лесовоз», а «сортиментовоз». Вот эти-то стойки на борту, должно быть, и повело при ударе.
Водила, что вот только что, вроде, пришёл в себя, и то не целиком, с матерным воем пополз вправо, на пространство перед кабиной. Молодец, туда-то брёвна точно не повалятся. Заверещали фельдшерицы, вскинули роженицу вместе с пледом на носилки и покатили, едва не сметя седого шофёра «скорой», в обратную сторону, за хвост лесовоза. И только жена стояла, как громом убитая, не сходя с места, распахнув серо-голубые глаза. И я сидел примерно так же, потому что подняться не успевал, да и не мог: быстрые движения и нагрузка – для тех, кто помоложе. Значительно помоложе.
За спиной скрипнуло долго, надрывно как-то. Жена вскинула ладони и прижала их к губам. Я успел только моргнуть ей, как всегда в операционной, над маской: обоими глазами, с еле заметным кивком, подбадривая и успокаивая. А сейчас – ещё и прощаясь. И шестиметровые дубовые брёвна полуметрового диаметра, для которых вряд ли был предназначен усталый лесовоз на базе КамАЗа, скатились с левого борта, согнув стойки из швеллера, как бумажные. Прямо на меня.
* Himmelherrgott – "черт подери" или иное сходное эмоциональное восклицание (нем.)
** Мохаммад Наджибулла – председатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан с 1987 года. Зверски убит 27 сентября 1996 года.
Глава 2. Твой дом – тюрьма
Старые стволы дубов вспыхнули, как факелы, разом и по всей длине. Так быть не могло, но почему-то случилось. Седой шофёр «скорой» и водитель лесовоза оттащили подальше от нестерпимого пламени пожилую женщину, которая только что так уверенно принимала роды, а через несколько мгновений остолбенела каменным изваянием, скорбно глядя на огромный погребальный костёр. Фельдешерицы совали нашатырь и что-то говорили, пытались отвлечь, растормошить. Но она видела лишь небывалые клубы светлого дыма, что поднимались ввысь, к ярко-голубому небу и ослепительному солнцу. Которые для неё вдруг стали чёрно-белыми, как в старых фильмах или мультиках, над которыми рыдал сын, когда был маленьким.
Пожарная машина попалась навстречу «скорой», что уже везла в больницу роженицу, младенца и жену старого врача. В кабине пахло хлоркой, корвалолом, спиртом, резиной, холодным железом – такими привычными для медицинского работника запахами.
Спасённая пришла в себя в операционной, едва ей наложили швы на крупные порезы. Потом, в палате, обессиленно рыдая, гладила малыша, что теперь лежал у неё на груди спокойно, хотя пока обмывали и смазывали йодом пуповину – верещал не переставая. И слушала пожилую акушерку, которая в третий раз перевирала свой же рассказ о чуде на дороге, требуя сразу же, как только молодая мать встанет на ноги, пойти в церковь. Потому что Господь прислал ей в помощь ангела, не иначе: на бывшего главного врача райбольницы весь старый персонал только что не молился. Со слов старушки выходило, что незнакомый спаситель и раны исцелил, и роды принял, и из-под поехавших с лесовоза брёвен едва ли не на руках вынес, а сам принял мученическую смерть в огне.
Грузовик и легковушка сгорели дотла. На маленькой красной машинке оплавились алюминиевые литые диски, а цвет теперь вряд ли угадали бы даже криминалисты. От старого доктора осталась пара фарфоровых коронок и две титановых спицы, которые он носил в правой ноге как память об увлечении горными лыжами в молодости. Давным-давно ушедшей.
Люди шёпотом говорили, что его Бог прибрал на небо живым, целиком, потому и хоронить было нечего.
Сперва пришли запахи. Сырой земли, острый смоляной, горький дегтярный. И старой выгребной ямы, засыпанной свежей травой. Подуло еле уловимым ветерком, что пах дымком и конским потом, и ароматы сортира почти пропали. Почти.
В голове крутились будто два сна одновременно, так бывает, когда уже вроде как пора просыпаться, но ни один из них отпускать не хочет, и смешиваются между собой разные слои прошлого, явь с вымыслом, встречаются те, кто никогда не видел друг друга на самом деле, разговоры какие-то ведут. А ты смотришь, словно со стороны, безучастно.
Вот только в моём случае участие было, причём вполне себе активное. Вот роженица, исходящая кровью, которой я зажимаю артерию на шее. Вот ребёнок, родившийся «в рубашке». Хотя, мамочка-то, пожалуй, тоже везучей оказалась, даже очень. Не то, что я.
А вторая сцена, что воспринималась столь же ярко и живо, была странной.
Я видел со стороны самого себя, как в старой песне Градского: «может, я это, только моложе». Этот я лежал на земляном полу какой-то клетушки с бревенчатыми стенами и без окон. Вокруг стояли на той же самой земле два парня, грязные и заросшие, старшему, крепкому и высокому, лет двадцать, младшему меньше пятнадцати, наверное. Хотя, оба тощие, немытые, можно было легко ошибиться в любую сторону. По лицу младшего катились слёзы, оставляя светлые полосы на серых щеках.
– Не реви, Глебка. Не гневи Богов, – произнёс старший.
– Да как же это, Ромаха? Копьём, как оленя на охоте, из засидки, тайком! Изяслав, паскуда, даже боя не дал! – захлёбываясь, отвечал младший.
– А ну уймись! Помнишь, в сече батьку и железо не брало, и булат миновал? И сейчас спасётся он, верь моему слову, – говорил он уверенно, твёрдо. Но мне было много лет, и я чувствовал, что сам он вряд ли верил в то, что говорил.
– А вдруг у отца от железа да булата наговор есть, а от древа нету? – ещё горше зарыдал младший.
– Видел я, как копья да дубины мимо него летали, знать, от дерева тоже, – ответил старший, но с ещё меньшей уверенностью.
А я смотрел на того себя, что лежал меж ними. Под левой ключицей виднелась рана, не особо большая и страшная, со спичечный коробок, меньше даже. И кровила она мало. А то, что дышал тот я вполне нормально, никак не похоже на виденные неоднократно картины с пневмотораксом, с поверхностным дыханием и одышкой. Это внушало надежду, что старший мог оказаться правым.
– Спаси меня, лекарь. Сможешь? – раздался голос внутри. Хотя, не чувствуя тела, не имея рук и ног, наблюдая за происходящим словно со стороны, трудно было понять, где здесь у меня «нутрь», а где «наружа».
– Как? У меня и рук-то нет, – ответил я. Судя по тому, что парни продолжали переговариваться, ругая каких-то Ярославичей, меня они не слышали.
– Мои руки бери. Тулово забирай. Лишь бы жив остался, – великодушно разрешил голос. И я почувствовал, как меня начало тянуть к лежавшему, будто он – водоворот на стремнине реки, а я неосторожно подплыл к шелестевшей воронке слишком близко. А потом пронзило острой болью грудь слева. В том самом месте, где была рана. И я открыл глаза.
Надо мной был глухой бревенчатый потолок, с которого свисали корни какой-то травы, что росла, видимо, поверх брёвен, снаружи. Слева едва пробивался тускловатый свет, будто от окошка, но очень маленького. Он позволял еле-еле разглядеть тех парней, что маячили надо мной.
– Это Роман и Глеб, сыны, – прозвучало внутри. Так, будто мысль, как и голос, с которым она прозвучала-воспринялась, были моими.
– Чьи? – спросил я удивлённо, хотя привычки самому с собой разговаривать сроду не имел. Вроде бы.
– Мои. Теперь наши. Наверное. Раз Боги тебя привели. Я слышал пару раз о таком, когда встречались души родичей, что в разные времена жили, – неуверенно ответил-подумал лежавший я.
Так, пока всё равно ничего не понятно, кроме того, что в груди у меня, или у нас, дырка, и что, судя по тому, что я услышал, кто-то наколол нас на копьё. Если я правильно понял, на какое-то охотничье, на деревянную остро затёсанную и, возможно, обожжённую для крепости на огне палку. Но почему тогда крови так мало, и лёгкое работает? А теперь это было понятно точно – тело я начинал ощущать в полной мере. Даже укусы клопов.
Парни отскочили в стороны, когда я поднял руки и начал осмотр. Самоосмотр. Пальпация показала, что в сантиметре от входного раневого отверстия в толще тканей находилось инородное тело. Проще говоря, кусок от той рогатины отломился и застрял внутри, удачно скользнув по рёбрам снаружи, а не изнутри, поэтому и лёгкое осталось целым, продолжая работать, и кровь не хлестала.
– Есть нож? – голос чем-то на мой был похож.
– Откуда, бать? До креста ж обобрали, гады, – отозвался растерянно старший. А младший восторженно хлопал глазами, перестав рыдать.
Я провёл ладонью по груди и нащупал ниже и правее раны распятие. Никогда не носил его, поэтому, наверное, и потянулся сразу к непривычному ощущению. Ворот рубахи был разорван почти до пупа, поэтому с извлечением находки проблем не возникло. На цепи из неожиданно крупных и грубых звеньев обнаружился кулон размером с куриное яйцо, может, чуть меньше, странной формы: четыре лепестка, будто у листа клевера. Только толстый какой-то, почти сантиметровый. Рядом на простой, но крепкой верёвочке висел какой-то не то кисет, не то кошель, маленький, не крупнее того странного кулона. Привычного медного распятия, мысль о котором резанула после слов старшего, Романа, не было.
– Покажите кресты ваши, – а вот теперь голоса я вовсе не узнал. Не то молчал долго, не то ещё по какой-то причине звук получился глухим, шелестящим, вовсе не похожим на речь живого человека.
Парни, сперва было отшатнувшись, словно заговорило с ними бревно или лавка у забора, подскочили обратно, почти синхронно запустив руки под рубахи. У старшего нашёлся похожий на мой кулон, тоже толстый, явно сложенный из двух половин. У Глеба, смотревшего на меня, как на чудо, как на Куранты на Спасской башне, увиденные впервые, на шнурке висела странная штуковина – не то широкая подкова, не то полумесяц рогами вниз. Судя по тускловатому блеску, еле уловимому в потёмках, вещица была золотая. Мягкий металл, может, и сгодится.
– Дай, – я протянул руку.
Младший притянул к губам шнурок, перегрыз его, поймал в ладонь упавшую подвеску и протянул мне. Видимо, крепкая нитка была, раз на шее рвать не стал. Я присмотрелся к кулону.
– Лунница, – подсказал голос внутри. – Старая, движения небесных светил отмечены на ней. В какую пору жито сеять, в какую жать. А у нас с Ромахой – мощевики, в них земля родная.
Жито – это, кажется, зерно? Рожь или пшеница? Мама называла белый хлеб ситным, это я помню. Про житный только пару раз от неё слышал, сама пекла по осени, из ржаной и пшеничной муки, когда заканчивали молотить. И краюху всегда велела отнести на поле, с которого зерно брали. Говорила, что нужно уважить «житеня», житного деда. Мы с братом маленькие думали, что это кто-то вроде домового или лешего, только в полях. Надо же, полных семь десятков лет с лишком не вспоминалось, а тут как само в памяти всплыло.
Я взял лунницу за один рог, а второй засунул в рот, оттянув чуть правый угол, чтобы достать краем полумесяца до коренных зубов. В этой голове у этого тела зубы были все, и притом крепкие, здоровые. Сдавливая ими край и чуть проверяя готовность языком, осторожно, чтоб не порезаться, размял внешний край подвески в тонкую, на «нет» сходящуюся полоску.
– Оторвите тряпки край, почище, если найдётся, – голос набирал силу, но на человечий по-прежнему похож был слабо.
Парни осмотрели друг друга придирчиво, будто собирались на свидание или в театр. Младший указал на подол своей рубахи. Да, на нём кровавых пятен было значительно меньше, чем на наших с Романом. Зато рукава были от концов до плеч обляпаны бурыми брызгами, густо.
Старший опустился на корточки, притянул нижний край ткани ко рту, надкусил, и только после этого раздался треск рвущегося полотна. Вот дикий народ, всё зубами рвут. Хотя, может, тут такую ткань делают, что пальцами и не растеребишь? Нитки, полезшие из края того лоскута, который оказался в руках Романа, явно были толще привычных, намотанных на катушки и продаваемых в магазинах. Правда, теперь и в магазинах-то, поди, не купить их. Мне как-то понадобились, так на весь город один-единственный лоток нашёл на старом рынке, где древняя старуха торговала всякой всячиной, вроде напёрстков да пуговиц. Ну да, время такое настало: гораздо проще купить новую вещь, чем зашить старую. И выгоднее. Кому-то.
Левой рукой, хоть и неудобно было, нащупал под кожей и мышцами отломок деревяшки. Прикинул требуемую длину и глубину разреза, с удовольствием ощущая в руках твёрдость и силу. Вспомнил про Лёню Рогозова, коллегу-хирурга, с которым познакомились в восьмидесятых на одном из семинаров, проходивших в Ленинграде. Узнав, с кем именно довелось тогда сидеть в одной аудитории – сперва даже не поверил: врач-легенда, герой, что сам себе перед зеркалом удалил аппендикс в Антарктиде! Хороший он оказался мужик, скромный, хоть и выпивал уже прилично. Эти воспоминания, кажется, даже чуть куража добавили. И я усмехнулся.
Судя по тому, как снова отшатнулись парни, усмешка не удалась совершенно. А какие-то глубинные, нутряные ощущения донесли до меня суеверный ужас того, кому раньше принадлежало это тело, и кто теперь наблюдал за происходящим на правах статиста. Видимо, он тоже как-то мог слышать или чуять мои мысли. И то, что у меня в друзьях были те, кто сам себе железом хворь из чрева выгнал, никак не укладывалось в его голове. Я же жалел лишь о том, что новокаина не было, и гораздо сильнее – о том, что света в этом погребе не хватало.
– Поруб. Поруб это. Ярославичи, псы, клятву нарушили. Крест целовали, что вреда мне с сынами не будет! Мы пересекли Днепр, вошли в шатёр. А их собачьи прихвостни нас и схватили. Даже словом перемолвиться не удалось с родственничками. Довезли до стольного града Изяславова, да живых под землю и спустили, – попытался внести ясности внутренний голос. Хотя мне казалось, что он если не прямо боялся, то очень сильно опасался того, как я начну резать своими руками своё тело. То есть его, и его руками. Тьфу, ладно, и с этим после.
Зафиксировав четырьмя пальцами деревяшку так, чтобы не сдвинулась ни вглубь, ни влево, ни вправо, вздохнул поглубже и сделал разрез. Кровь потекла гуще, младший сын всхлипнул и повис на руке старшего. Который сам стоял, не сказать, чтоб сильно увереннее.
В голове вдруг зазвучала песня, слышанная когда-то давно: «И, когда я пьяный и безбожный, / Резал вены погнутым крестом, / Ты боялась влезть неосторожно / В кровь мою нарядным рукавом». Вспомнилось, что неожиданные слова, пропетые надрывно-проникновенным голосом, совершенно не ожидаемым мной от очередного «шансонного» исполнителя, звучали в машине старшего сына. Мы ехали с ним навещать какую-то дальнюю родню. Я попросил его свозить нас с женой, чтоб парень чуть отвлёкся. Уж больно переживал он тогда развод, молодой был. Кто бы знал, что неожиданная метафора из той случайной песни так обернётся?
Зажав окровавленную лунницу губами, пошарил в ране пальцами правой руки. Искомое нашлось сразу, это не иголка в ягодичной мышце, которую на рентгене видно отлично, а вот на самом деле – ещё поди найди. Силы в этих руках было, пожалуй, побольше, чем в моих в молодые годы: едва не раскрошил край рогатины. Но услышав и почувствовав подушечками хруст и то, что дерево того и гляди рассыплется на щепки, выбирать из раны которые в темноте мне никак не улыбалось, чуть передвинул пальцы вглубь, задержал дыхание и выдернул остриё. Тут же придавив сверху лоскут от Глебовой рубахи, сложенный вчетверо. А левой рукой ухватился за правую лопатку, почти полностью перекрыв рану. Шевелить левой было больно, но, как часто шутят травматологи, не смертельно.
– Дай с сынами перемолвиться, – прозвучало внутри. Парни и впрямь стояли не дыша, и бледные настолько, что, кажется, в порубе этом даже чуть светлее стало. Я прикрыл глаза и будто бы «отошёл от штурвала», передавая тело хозяину, прежнему мне.
– Про лунницу – ни слова. Святым крестом исцеление вышло. Я клятвы не преступал, безвинных не карал, подсылов-лиходеев за чужими животами не отправлял, потому и помог мне крест святой. Всё ли ясно? – вот теперь человеческого в голосе было значительно больше. В основном, правда, боль и усталость.
Пацаны рухнули на колени и склонили головы.
– Поднимитесь! Ни предки наши, ни я ни перед кем на коленях не стоял – и вам не след! – силы прибавилось, как и ярости. Совсем живой голос стал. Мальчишки вскочили, и бледность на глазах наливалась румянцем. Уважают отца, и совестливые, надо же.
В правой руке что-то хрустнуло. На протянутой к ним окровавленной ладони лежали два обломка от острия копья. Оно оказалось сантиметров пятнадцати длиной, а на самом конце блеснул металлический наконечник. Эх, как же удачно, что он не остался внутри, в самой глубине, оттуда его пальцами поди выдави без инструментов.
– Держите, сыны. И навек помните: тому, кто слову своему не хозяин, кто крестное целование ни в грош не ставит, вовек удачи не видать! И второе помните крепко: что бы ни случилось, каких бы слухов и наветов не принесли вам сороки да собаки, мы – род! Никогда ни один из Всеславичей на другого не поднимет ни рать, ни оружную руку. Сколь бы ни было нас – едины мы, как персты во длани, что для удара занесена.
Кулак сжался, заставив деревяшки заскрипеть в нём. Парни смотрели на отца, будто боясь моргнуть.
– Держите. Да слова мои помните крепко! – разошлись окровавленные пальцы, освобождая две щепки. Два наговорных талисмана-амулета, если верить тому, что я почувствовал в словах князя. Кровь отцова, древо, что рука убийцы в грудь вонзила, да речи верные – должны уберечь сынов от усобицы. По крайней мере, он изо всех сил хотел этого.
– Клянусь, батька! – хором выдохнули оба и осторожно, как хрустальные, взяли с ладони отца деревяшки.
– А теперь ложитесь да набирайтесь сил. Чую, завтра Солнышко увидим, – завершил напутствие тот. Закрыл глаза и опустил подбородок влево, придавив лоскут, едва заметно напитавшийся кровью, ещё и бородой.
Мальчишки уселись рядом, придвинувшись поближе, но осторожно, так, будто хрустальным был и сам князь. Теплее чуть стало. Щеками прижались к плечам, Глеб к левому, Роман к правому, здоровому, а руками обняли меня. Ромка ещё и ладонь левую на мою поверх положил, на ту, которой я за правую лопатку держался, чтоб рану закрытой держать.
– Благодарствую, лекарь, – обратился ко мне внутренний голос, – не дал пропасть. Не оставил детей сиротами, жену вдовой и землю без хозяина. Говорили люди знающие-ведающие, что могут две души в одном теле ужиться, коли много общего у них. Поведай мне, когда не лень, про житьё-бытьё своё? Как величать тебя, какого ты роду-племени?
Глава 3. Новое старое время
Чисто с медицинской точки зрения творилось чёрт знает что. И пускай познания мои в душевных болезнях были не такими обширными, как у психиатров и невропатологов, но уж точно побольше, чем у обычных людей. Ни на одну из клинических картин, что вспоминались из институтской и врачебной практики, то, что происходило в самом начале осени, когда ночи ещё тёплые, в глубокой яме, с неподъёмной бревенчатой крышкой сверху, похоже не было. И все известные мне способы «самопроверки» на шизофрению в один голос говорили – это не она. Тот, кто рассказывал мне сказочные вещи внутри нашей с ним головы нашим с ним голосом, тоже, кажется, испытывал некоторые сомнения и неловкость. Но, к утру примерно, мы с ним, или я с самим собой, только моложе физически, но в то же время гораздо старше хронологически, нашли общий язык.
Князь Всеслав, захваченный в плен вероломными родственниками, сыновьями легендарного Ярослава Мудрого, наладившимися подмять под себя всю Русь, «сидел», как он сам рассказывал, в Полоцке. В моё время это был городок в БССР, не самый известный и популярный, я там не бывал ни разу, хотя не раз ездил и в Брест, и в Минск, и под Могилёв, откуда была родом моя мама. В этом же времени это Полоцк или «Полтеск» был большим и серьёзным торговым городом. Думать обо всём этом, и о городе, и об «этом» времени, было очень непривычно. Князь уверял, что год сейчас шёл от сотворения мира шесть тысяч пятьсот семьдесят седьмой, а от новомодного, непривычного пока Рождества Христова одна тысяча шестьдесят восьмой. Наверное, ему так же, как и мне, было трудно поверить в то, что я попал сюда прямиком из две тысячи двадцать второго. Где Русь раскинулась от Тихого океана до Балтийского и Чёрного морей, где столицей была какая-то Москва, про которую сейчас никто и слыхом не слыхивал. Но где совершенно так же, как и теперь, сварились между собой князья, науськиваемые друг на друга хитрыми тварями со змеиными глазами, что гнездились на закатной стороне.
Всеслав не говорил – он словно открывал передо мной собственную память, как старинную книгу из тех, что в моё время хранились в музеях под толстыми стёклами. Хотя, пожалуй, скорее как одну из таких, что лежали в тайных архивах, доступ к которым имели считанные профильные единицы из учёных историков. И несколько человек из госбезопасности. Потому что увиденное в его книге серьёзно отличалось от того, что я помнил из школьной программы. От которой меня отделяло семь десятков лет моей памяти в одну сторону, и около девяти веков ещё не свершившейся истории государства Российского в другую.
Я узнавал предания про Бояна, Буса и Славена, что были в памяти Всеслава вехами, будто кодекс строителя коммунизма. Странные и невероятные истории, оформленные в подобия стихов и песен, былин и быличек, передавались из поколения в поколение тысячелетиями, создавая картину мира и образ мировоззрения каждого руса, будь он из полян, словен, кривичей или дреговичей. И лишь не так давно, всего пару-тройку поколений назад, вековечные традиции, опоры и столпы, державшие на себе мир и порядок в нём, пошатнулись. Про пращура Володимира Полоцкий князь рассказывал сдержанно. Но я видел в его, а теперь в нашей с ним памяти эмоции, которых он, наверное, сам от себя не ожидал и скрывал. Непонимание. Осуждение. И даже стыд, в первую очередь за то, что приходилось осуждать деяния предка. Издревле на Руси велось так: славные дела народная память хранила и воспевала, ставя в пример, заставляя восхищаться. Постыдных и позорных же были считанные единицы, больше используемые как образец того, что бывает, когда живёшь не по чести. И имён героев этих историй детям не давали. Ими даже обзываться запрещали, и чтобы не тревожить чёрные души пращуров, и чтобы не давать им дороги к сердцам и путям тех, кто жил на русской земле сейчас, на сотни и тысячи лет позже них.
Всеслав поведал о встрече Володимира и Рогнеды. Кажется, в школе нам такого не рассказывали. И то, что великому князю после такого присвоили звание святого, сразу стало вызывать у меня вопросы. Но на фоне прочих знаний и откровений это было не самым важным и не самым страшным.
Узнавая о том, как правители западных стран исподволь, не привлекая внимания, точечно, деликатно даже, если можно так выразиться, подбирались к истории народа и воспитанию его детей, я отмечал прямые параллели с тем, что видел и пережил сам. Когда за синие штаны, коричневую газировку и непонятную мне музыку дети несли на рынок и в ломбард боевые награды отцов и дедов.
То ли у Пикуля, то ли у Пастернака читал я давным-давно, что глуп тот, кто в старости не стал консерватором. Но ещё глупее тот, кто не был революционером в юности. Говорят, на этот счёт ещё Черчилль что-то подобное сообщал. Он, герцог Мальборо, много чего говорил, конечно. Не зря про него так удачно спел Высоцкий: «Это их худые черти / Мутят воду во пруду! / Это всё придумал Черчилль / В восемнадцатом году!». Так вот я совершенно точно стал консерватором, хотя в молодости побывал революционером. Ничем, кроме революционного запала и задора не объяснить ни поездки на целину, ни комсомольские стройки. Тогда Родина умела верно направлять кипучую энергию своих сыновей и дочерей так, что от этого всем становилось только лучше, и ей, и им. И когда сразу после окончания института я по распределению отправился организовывать здравоохранение советских граждан в забытое Богом село Смоленской области, с молодой женой и грудной дочкой, это тоже был революционный порыв. Можно же было остаться при кафедре, предлагали место. И в столицу звали, родня тогдашней жены, орденоносная профессура. Всё совсем по-другому могло бы пойти, но я решил, что добьюсь всего сам. Потом только, слушая вьюгу в заметённом по самые окна деревенском доме и читая Плутарха, узнал, что до меня давным-давно эту мысль лаконично сформулировал Юлий Цезарь: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». Во «вторые» в каждом из известных миру Римов всегда была страшная очередь. Не то, чтобы я боялся очередей. Меня вела воспитанная с детства, отцом, погибшим в сорок первом, и мамой, что тянула нас с братом и сестрой одна в послевоенные годы, уверенность в том, что нужно всегда и везде хорошо делать своё дело, а не стоять в очередях, ожидая, когда освободится чьё-то место.
История не знает сослагательного наклонения. Нам говорили, что так сказал товарищ Сталин. Помню, ещё в прошлом году, ковыляя от дровяника к дому с охапкой полен, по осени, услышал я за соседским забором незнакомый голос.
– Лёша! Ты там? – крикнул соседу. Голос был не его, поэтому насторожился.
– Да! Здравствуйте! – отозвался он, перебивая чужую речь, что и не подумала прерываться.
– А кто там с тобой беседует так громко? Гости, никак? – поинтересовался я, подходя к забору.
Тогда выяснилось, что сосед Алексей, молодой парень, ну, по сравнению со мной, ему всего-то пятьдесят три было, пацан, считай, увлёкся аудиокнигами. Что-то вроде радиоспектаклей, что передавали в годы моей молодости, только по новым книгам, современным. Лёша рассказал, что уже несколько лет бьёт все рекорды популярности новый жанр: «попаданцы». Это когда в прошлом оказывается наш современник, и начинает использовать свои знания для того, чтобы сделать мир вокруг лучше. Или, что чаще, стать успешным, богатым и знаменитым персонально.
Работая на участке, я часто прислушивался потом к речи из-за соседского забора. Всё интереснее, чем телевизор смотреть. Иногда голоса были профессиональные, и в самом деле, как в театре – даже присаживался специально поближе. Иногда просто какая-то механическая девка читала, как пономарь, путая ударения и склонения. Но при определённой привычке можно было и понять, что она там бубнила. Сказки, конечно, как Гулливер в стране лилипутов, но иногда бывало забавно. То Брежнева спасать принимались, то к Сталину пробивались в кабинет. Мне запомнились две истории – в одной наш современник попал в Николашку, последнего царя, что плясал под дудку матери и жены, которым дирижировала вся родня из Европы. Ох, и дал он там шороху! А второй оказался в теле Михаила Васильевича Фрунзе, которого не зарезали врачи-вредители в 1925 году. Тоже было интересно, хотя я и поспорил бы с автором в некоторых вещах. Мне, как почти свидетелю той поры, многое виделось по-другому.
Младший сын говорил про сослагательное наклонение и историю проще: «Если бы у бабушки было дуло – это была бы пушка, а не бабушка!». Ну, тоже позиция, конечно. А вот теперь я сам, пенсионер, проработавший всю жизнь хирургом-травматологом, руководивший поселковой и городской больницами, побывавший в Афгане и Чечне, в Спитаке в 1988 году, после того жуткого землетрясения, оказался той самой пушкой. Но главное – я был жив. И я был молод.
Всеслав, кажется, начал чуть расслабляться к утру. Наверное, это наше взаимное «чтение книг жизни» друг друга позволило ему почувствовать то общее, что сближало нас. Любовь к семье, к детям, к своей земле и своему призванию. И острое неприятие всех тех, кто угрожает хоть чему-то из перечисленного. Он с одобрением «просматривал» те сцены из моей жизни, где для того, чтобы у больницы были лекарства и оборудование, я шёл на не самые популярные меры. В девяностых, про которые снимали теперь сериалы, которые я зарёкся смотреть, и писали примерно такие же книги, мы с ребятами-хирургами из кожи вон лезли. Доходило до того, что я оперировал пса одного из «ночных хозяев города», авторитетного человека, как все его называли. Сиделец со стальными зубами едва не рыдал, когда привез ко мне своего призового чемпионского бульмастифа. Пёс поймал две пули, предназначавшиеся хозяину. Операция была несложная, собака выжила. А криминалитет целый год потом присылал больнице деньги, на которые закупались препараты и инвентарь. Мы были единственным учреждением города, в котором никогда не задерживали зарплату, и выдавали её именно деньгами – тогда это было сродни чуду. Мой товарищ Сергей Борисов и вовсе умудрился сшить «ахилл» какой-то кобыле. В прямом смысле слова – не то ахалтекинской, не то ещё какой-то чудо-породы, да так, что она продолжила побеждать на бегах. А у нас появилось новое оборудование в рентген-кабинете и расходники для лаборатории, много. Правда, потом Серёга уехал в столицу, в платную клинику, и в родной город выбираться перестал. Мне же довелось даже в совете депутатов посидеть, причём как при Союзе, так и после. И я ни на грамм не покривлю душой, сказав, что не принял ни единого подлого или бесчестного решения. Дома, конечно, бывали неприятные разговоры по этому поводу: почему остальные ездят на дорогих машинах, их жёны ходят в мехах, а дети – в импортных шмотках? Жена и дети поняли и приняли мою точку зрения о том, что машины, шубы и барахло в жизни совсем не самое главное. И это было главным достижением в те годы, как я всегда считал. С первой семьёй так не получилось.
Полоцкий князь рассказывал, как к нему приходили посланцы аж от самого папы римского, предлагая ни много ни мало корону Польши. Как к отцу его приезжали пыльные делегаты печенегов, сулившие немыслимые богатства за право пройти полоцкими землями до Пскова, Новгорода и Ладоги. Как новгородские, ростовские и черниговские подбивали и отца, и деда выйти объединёнными отрядами на Киев, убеждая, что Ярослав, которого в ту пору никто не звал Мудрым, а величали «Злобным хромцом», не имел прав называться великим князем. И как три поколения князей, начиная с Изяслава Владимировича, поставили себе целью сделать лучше именно свой город и своё княжество, не влезая в свары и интриги вокруг. Пожалуй, большинство из тех, кого я знал, посчитали бы такой подход глупым, недальновидным, проигрышным. Но не я. Я был полностью уверен в том, что нужно всегда и везде хорошо делать своё дело. И, если судьба или Боги, как уважительно упоминал их Всеслав, распорядились жить и служить людям в Полоцке – значит, нужно сделать так, чтобы именно там на земле начались райские кущи, которые с недавних пор стали обещать всем греческие священники. Или мир, ряд да лад, которые были и до них. Мир, порядок и любовь. То, чего всегда и всем, в любую эпоху так не хватает.
Говорил князь и о том, что слышал от ведавших людей про тех, в ком уживались две души. Обычно это приводило к тому, что в человеке открывался воинский талант и княжьи качества: умение повелевать, убеждать, вести за собой. Чаще всего это случалось во взрослом возрасте. Мне сразу пришла на ум сказка про Илью Муромца, что просидел сиднем на печи тридцать три года, а потом отправился воевать Чудо-Юдо, биться с Тугарином-Змеем и ломать свисток Соловью-Разбойнику. Так было со Святославом Храбрым, который с малых лет был при дружине и воинах, а на хазар, а после – болгар и византийцев стал ходить примерно в возрасте легендарного Муромца. Говорил и про братьев Блуда и Ратилу, которые разоряли Рим и Константинополь ещё за полтысячи лет до Святослава Игоревича. И очень удивился, расстроился даже, узнав, что у потомков не осталось памяти об их великих деяниях. Мне и самому неловко было, будто у меня на экзамене профессор попросил назвать мышцы, и я вспомнил все, включая musculus stapedius*,а вот про большую ягодичную, самую крупную в человеческом организме, позабыл.
Про упомянутых Буса и Славена, признаться, я тоже ничего не знал. Хотелось сказать: «не помнил», но нет, именно не знал. Потому что к утру, за ночь, проведённую в таком оживлённом общении-познании, я убедился, что память моя совершенно перестала валять дурака, как пробовала частенько, особенно последние два года. Когда ходишь по дому, как неприкаянная душа, пытаясь вспомнить сперва имя одноклассника, потом случай с лекции на втором курсе, а потом просто ходишь и безрезультатно силишься понять, чего же именно ищешь. Теперь же я помнил решительно всё, в подробностях и деталях. Например, материн платок, в котором она передала отцу несколько варёных яиц, пару картофелин и немного сахару, был бледно-голубой с тёмной каймой. Я бежал за строем, задыхаясь от холодной осенней пыли, боясь, что не найду среди одинаковых шинелей батю. Но добрые дяденьки-солдаты передали меня с рук на руки от края шеренги в середину. Отец обнял так крепко, что едва не задушил. Велел беречь мать и брата. И отдал соседу по шеренге обратно, отвернувшись. Не сбивая шага. Мёрзлой чёрной осенью 1941 года. Мне тогда едва исполнилось четыре года. Я не видел его больше никогда.
Всеслав переживал вместе со мной это яркое воспоминание. Он тоже совершенно так же бежал за отрядом отца, только пыль стояла не от людских ног, а от конских копыт, и передавали его с рук на руки дружинные значительно выше над землёй. И платок был парчовый, с золотой бахромой. А в нём – немного мёду в сотах, хлеб да соль. Только его батя с того похода вернулся.
Эти детские воспоминания, одни на двоих, сблизили нас сильнее. Он, кажется, успокоился, почувствовав, что ни к полякам, ни к немцам, ни к византийцам, ни к степнякам у меня никакой тяги нет, и что ни за один из сложившихся в его времени лагерей я выступать не собираюсь, потому что ни об одном из них ни малейшего представления не имею.
Я чувствовал, как саднит грудь под лоскутом Глебовой рубахи. Как дышат слева и справа сыновья Всеслава. Как тянет неожиданным в яме сквозняком по босым ногам. Как кусают надоедливые клопы. И был полностью, безгранично и безоговорочно счастлив. Потому, что был жив. Снова жив.
* musculus stapedius (лат.) – самая малая из мышц человеческого тела – стременная мышца, контролирующая стремечко. Её средняя длина около 6 мм.
Глава 4. Из грязи
Проснулись от того, что наверху издалека доносились крики и колокольный звон. Только не такой, как у нас в соседней деревне на престольные праздники: с переливом, на разные голоса, так, что даже мне нравилось, хотя я ко всем этим церковным делам сроду ни интереса, ни отношения не имел. Звучал один колокол, явно большой, но громко, надсадно, давя на уши с одинаковыми интервалами. Ничего себе у них тут будильники, однако. Помню, в студенческие годы был у меня продукт Второго Московского часового завода: круглый, стоявший на двух железных ногах, будто на двух брёвнах, с чёрными прямоугольными часовой и минутной стрелками, и отдельной золотистой, для будильника. Заводился двумя барашками на задней стенке, а выключался кнопкой сверху, но не всегда. Иногда капризничал и продолжал молотить до тех пор, пока завод не заканчивался. Проспать при таком будильнике ни разу не удавалось ни мне, ни соседям. Первая жена за издаваемые звуки называла его с ненавистью «Челябинский тракторный завод». Сейчас, словно наплевав на толстый слой земли и брёвен вокруг нас, звуки наверху издавало что-то более масштабное и звонкое.
– Вечевой, бать? – спросил Глеб, протирая глаза кулаками совсем по-детски.
– Он, сынок. Давай-ка встать помоги мне. Как на свет выходить с потёмок, чтоб не моргать сычами, помните? – голос князя был ну точь-в-точь моим.
– Помним, бать, – ответил за двоих Роман, подныривая под правую руку. Глеб придерживал левый локоть, но сильно не тянул, берёг.
Мы отошли к той стене, на которую, по идее, должно было насыпаться меньше земли, когда нас придут откапывать, судя по расположению бревенчатой крыши. Прислонившись с сыроватым брёвнам, прислушались. На улице творился какой-то бардак, судя по звукам. В мои времена, наверное, уже вовсю слышалась бы стрельба и сирены. Тут же – только голосивший на всю округу колокол и не отстававшие от него люди. Иногда чей-то вой или визг перекрывал гул медного великана. Мой опыт с полной уверенностью позволял считать эти крики предсмертными, наслушался за жизнь. Вдруг вспомнилось, что огнестрельного оружия пока не придумали, так что выстрелов и взрывов можно было не ожидать. А как шелестит-свистит стрела в полёте, прекрасно знал Всеслав. Так же, как и то, что тут, в порубе, мы этого не услышим. Вот когда тетивы защёлкают наверху – их узнаем. Но, скорее всего, будет поздно. Перехватывать стрелы влёт мечом князь умел. Ловить их руками, как это иногда показывали на торговых площадях скоморохи – нет. Тем более просидев столько времени под землёй, да с незажившей дырой в груди. Вот Гнат – тот бы справился, но где теперь Гнат?
Перед глазами мелькнул образ княжьего ближника, друга детства. Воинские и ратные премудрости они постигали вместе, но у сероглазого светловолосого крепыша Игната по прозвищу Рысь всё получалось гораздо лучше. Всеслав сперва злился, но с годами понял, что каждому своё. Так и в книжке той византийской было писано. Он знал греческий, латынь, польские и балтские говоры, понимал свенов и датчан. Но вот стрел ловить руками не умел. Рысь делал это легко, будто играючи. За скорость и внезапность, а ещё за умение скользить что по лесной чаще, что по городским улицам без единого звука его так и прозвали. Хотя злые языки или их глупые пересказчики и шептались, что прозван Гнат так потому, что по бабам шагом не ходит – только рысцой, а чаще так и вовсе галопом.
С потолка посыпалась земля. Мы с Романом чуть повернулись так, чтобы хоть немного прикрыть младшего, разом, одновременно.
– Копай, боров! Если верно говорили, что сгубили князя-батюшку – сам тут ляжешь, а я следом тебе руки да ноги твои туда сброшу, истинный крест! – донесло сквозь маленькое окошко злой голос. Вроде как даже знакомый.
– То Коснячки-воеводы приказ был! Его именем прошли лиходеи на двор княжий! – проблеял второй голос, прерываясь в такт ударам заступа над нашими головами. Видимо, принадлежал он тому самому «борову», которому угрожал злой.
– А ему, паскуде ромейской, я язык с ушами отрежу и свиньям скормлю! Рой шибче! – рычал он.
Парни вытаращились на тоненькую светлую полоску, едва появившуюся под крайним бревном слева. Я было подумал, что они с их молодыми глазами углядели там что-то, и лишь в следующий миг понял, что это для того, чтобы скорее привыкнуть к яркому свету, что вот-вот должен был ворваться в нашу темницу. И сам вылупился на солнечные лучи точно так же. Вид у нас был, наверное, если со стороны глянуть, очень оригинальный: трое в окровавленной рванине таращатся на потолок, будто им оттуда собирается вещать сам президент или даже кто-то из архангелов.
С сырым скрипом, как пень из ямы, стали одно за другим подниматься брёвна, подцепляемые то баграми, то верёвочными петлями. Свету сразу стало много, но мы, подготовленные, тут же сощурились. И вправду, не ослепило Солнце ясное сидельцев подземных.
– Жив?! Жив он, хлопцы! Живой, княже! – вопил над нами тот, чей злой голос превратился в восторженный. – Где лестница? Опускай живее!
Сам кричавший ждать обещанной лестницы не стал и слетел к нам в яму соколом. И в ней сразу стало тесно – шумный и нетерпеливый, он только что не вприсядку пустился по подвалу:
– Думал – опоздали мы, княже! Как получил весть, что будто запороли тебя рогатиной Изяславовы псы – не стал дожидаться остальных. Поднял Всеволодовых воев, что возле Подола стояли, да сюда скорей, – тараторил он, а в серых, чуть раскосых глазах, и впрямь похожих на рысьи, светилось искреннее счастье.
– Рад тебе, Гнатка! – произнёс моим голосом широко улыбнувшийся Всеслав.
– Здравствуй, дядько Гнат! – поддержали сыновья.
А вот обняться в честь встречи после долгой разлуки не вышло – когда он попёр на меня, растопырив ручищи, рыча по-медвежьи, вперёд шагнул Роман, старший:
– Не спеши, дядько. Ранен отец, потом обнимешься. Обожди, я хоть верёвку какую найду обвязаться ему, поможете выбраться, по такому всходу несподручно ему будет.
Я глянул за спину старого друга, где в землю упиралась половина сосны, распущенной вдоль, в которой с полукруглой стороны были выбраны ступени в четверть бревна. Да, по такому трапу и с двумя-то руками поди взберись. Хотя Ромка вон взлетел белкой. Здоровенной, грязной и тощей белкой.
– Где ранен?! – Гнат схватил было меня за плечи, чтобы повернуть к Солнцу и рассмотреть внимательнее, но я взвыл и отшатнулся. Пальцы у него были – только гвозди в косы заплетать, да одним он как раз почти в рану и попал.
– Тише ты, торопыга! Эти не взяли, обидно будет, если ты за них всю работу сделаешь, – выдохнул я, стараясь унять сбитое болью дыхание.
– Ах, сволота! Княжью кровь пролили?! Мало того, что крестное целование преступили, так ещё и сгубить родича надумали?! Ох и погуляет теперь пламя красным петухом по Горе́ да по Подолу! Отплатит, с лихвой отплатит Изяслав за грехи! – судя по глазам Рыси, потемневшим, как небо перед грозой, и переживал, и угрожал он совершенно серьёзно.
– Что там, на воле-то? – отдышавшись, спросил я.
– Юрий привёл наших с Полоцка, кого собрать смог, все здесь уже. Часть к латгалам ушла, часть к води*, часть в смоленских лесах сидит, слова твоего ждёт.
– Дома как? – спросил я неожиданно, кажется, для всех: Глеб и Гнат посмотрели с удивлением, и даже князь внутри меня будто оторопел.
– Спокойно дома. Княгиня-матушка жива-здорова, мальчишку родила, Борисом крестили. А нарекли Рогволдом, как ты и велел, – медленно ответил друг, глядя на меня с каким-то не то подозрением, не то сомнением. – Да об том, княже, можно и после поговорить, когда трёх Ярославичей на одном суку́ повесим над костром.
– Верно говоришь, Рысь, – подключился Всеслав, снова будто отодвинув меня от «штурвала». Да и вправду, куда мне с моими неактуальными ценностями лезть? Тут того и гляди гражданская война разгорится, а я личные вопросы задаю, да при детях ещё. Обрывки мыслей князя давали понять, что этот разговор и впрямь был не ко времени.
– Отец, хватай, вкруг пояса обвяжись, что ли, – раздался сверху голос Ромки, а под ноги упала петля толстого пенькового каната.
То, что вокруг поруба наверняка тьма народу собралась, было понятно даже мне. И смотреть им, чтоб потом во всему городу и округе разнесли, как Всеслава Полоцкого из ямы на верёвке вытягивали, как сома из-под коряги, вряд ли следовало.
– Давай-ка к брату бегом, – буркнул я младшему. Он кивнул и так же по-беличьи взлетел по бревну наверх. Да, угол-то тут явно не под сорок пять градусов, сильно покруче будет.
Я попробовал подвигать левой рукой. Получилось, хоть и через боль. Лоскут сыновней рубахи за ночь намертво присох к ране, может, и выдержит?
– Гнат, ступай позади. Падать если начну – поддержи незаметно, – вполголоса проинструктировал князь своего ближника. Тот напряжённо кивнул, не сводя глаз с вертикального красно-бурого пятна на ткани, как раз напротив сердца. Но уточнять ничего не стал, просто шагнул следом.
Всё-таки тренированное тело воина – это потрясающий эффективный и отлаженный механизм. Когда в юности боксом и лёгкой атлетикой занимался, отметил. И когда постарше стал и на тяжёлую атлетику переключился – лишь уверился в этом. А работая со спортивными и военными травмами, а особенно с реабилитацией после них, ещё и подкрепил уверенность теоретическими и практическими данными. Вот и сейчас, организм, чувствуя ограничения подвижности слева, будто сам перенёс центр тяжести так, чтобы ни хвататься, ни махать левой рукой не требовалось. А ещё удивили пальцы на ногах, что будто звериные лапы, чуяли каждый выступ и каждую щепку на вырубленных ступенях и натуральным образом хватались за них. На площадку великокняжеского двора, освещённую ярким, хоть и нежарким осенним Солнцем, запруженную сверх всякой меры разгорячёнными людьми я, конечно, не взлетел, как сыны. Но поднялся сам, без шестов и верёвок. Ещё и руку правую протянул, помогая Гнату выбраться.
– Всесла-а-ав!!! – разнеслось моё имя по подворью и разлетелось, казалось, во все концы Киева, подхватываемое и передаваемое народом.
Люди вопили, размахивая руками, некоторые даже обнимались. Но глаза привычно ловили тех, кто от общего настроения отличался – прятал лица, скрывался за спинами. Всеслав, кажется, узнавал некоторых из них, и это не добавляло ему радости. Зато толпа полыхала ею, как лесной пал, что сметает всё на своём пути. Толпы – дело такое. Помню, в Кабуле на рынке, возле одного из дуканов** рвануло. Один из недавно прилетевших из Союза советников, молодой совсем парень, забыл инструктаж и наклонился поднять с земли почти полную пачку импортных сигарет. Поднял контузию и вторую группу инвалидности, потеряв правую руку и глаз. А толпа, рванувшаяся к выходу из переулка, затоптала двоих насмерть и ещё одного изуродовала. Жену, с которой мы тогда вместе накладывали жгут и перевязывали контуженного курильщика, это сильно впечатлило. Даже дома, в Союзе, она запрещала детям поднимать с земли чужие вещи.
По мелькавшим образам и картинкам в памяти князя я понял, что он про толпы тоже много чего знал и видел. И чувствовал необходимость если не унять, то хотя бы направить энергию. Один из тех, кто прятался за спинами радостных горожан, был «опознан» им как византийский подсыл. До сегодняшнего дня виденный в отряде Изяслава, что конвоировал нас из-под Орши в этот погреб. Тогда он тоже прятал морду в глубоком капюшоне, который Всеслав именовал странным словом «куколь». Но острое зрение и внимание к деталям всегда считались важными, княжескими качествами. А кроме того, удивив меня несказанно, он различал запахи гораздо лучше меня. Как в орущей массе потных и громких можно было заметить и учуять одного незаметного, еле уловимо пахнущего ладаном, я не понял, но восхитился.
– Рысь! Подними меня! – голос Всеслава накрыл подворье, будто стеной проливного дождя, разом. Ближние ряды остолбенели, будто в стену уткнувшись, задние и то чуть притихли.
Гнат махнул рукой, и к нему подлетели трое поджарых мужиков, на ходу не глядя убирая мечи в ножны на богатых воинских поясах. Я бы точно себе отхватил в лучшем случае руку, вот так размахивая заточенной железякой. Князь же признал в подбежавших сотников, Алеся, Янко и Ждана. Они тянули за собой две каких-то чуть ли не трёхметровых оглобли. Мужики опустились на одно колено, вскинув палки на плечи. Гнат положил на деревяшки сверху невесть откуда взявшийся щит, ярко-красный, с полыхавшим посередине золотым Солнцем. Сердце застучало чаще – щит был Всеславов, и то, что дружина носила его с собой, значило многое.
Подхватив передний край левого шеста, который придерживал Ждан, друг глянул на меня через плечо, ожидая команды. Стараясь не бередить рану и не махать левой рукой, я подошёл к странной конструкции. Князь привычно взял управление на себя, оставив меня, как мальчишку, что впервые приехал в столичный океанариум, прижиматься носом к стеклу с этой стороны, восхищённо глядя на торжественную красоту за ним.
Левая ступня, босая и грязная, упёрлась на колено Яна, что почтительно склонил голову. Правая утвердилась на щите, чуть в стороне от светлого лика Деда-Солнца, наступать на который было хамством, глупостью и преступлением. Поймав равновесие и почувствовав, что пятки будто корни дали в старый щит, кивнул Гнату. И плавно вознёсся над притихшей толпой, по которой будто круги пошли, и с каждым последующим вокруг становилось всё тише. Вечевой колокол молчал с тех пор, как Рысь спрыгнул к нам в поруб. С соседних дворов и дальних улиц доносились азартные крики нападавших и отчаянные – защищавшихся.
– Слушай моё слово, люд Киевский! – ох и голосина! Таким не скворцов на липах пугать, таким с крыш дранку сдирать, на земле стоя. – Я, Всеслав Брячиславич, князь Полоцкой земли, говорю вам! Князья Ярославичи, Изяслав, Святослав и Всеволод, обманом полонили меня с сынами да усадили в поруб, лишив Солнца ясного, до креста обобрав, как тати лесные. По слову воеводы Изяславова пришли вчера за животом моим душегубы, чтоб жизни лишить на глазах у сыновей. Ни боя, ни воли не дали мне Ярославичи. Нет покона такого, чтоб родич родичу чужой рукой смерть направлял! Даже в той Русской Правде, что они сами нынче вслед за отцом своим переписывают, снова жизни чужие гривнами меряя, нет такого! Ответь мне, люд Киевский, ладно ли поступили братья?
– Не-е-ет!!! – шквал прокатился по княжьему двору, пугая последних ворон и горлиц. – Позо-о-ор!!!
Лица в толпе наливались злобой и краснотой, дурной кровью. А Всеслав-то вон как вывернул всё. Теперь не только в нарушении крестной клятвы обвинил родичей-предателей, но и в том, что законы они взялись под себя переделывать, и то, за что раньше родня пострадавшего получала жизнь виновного, теперь измерялось деньгами, да так, чтобы копеечка малая непременно в княжью казну попадала. Прочувствовали вкус и сладость административного ресурса, наслушались уговоров византийских, приняли свет цивилизации, пропади он пропадом.
– Я благодарен за вызволение из темницы, народ Киевский! Отвёл Бог руку убийцы, не дал свершиться злу, а вы следом свободу принесли да Солнца свет! – Всеслав поклонился в пояс сумасшедше вопившей толпе. И коснулся пальцами солнечного лика на щите. И подмигнул ему!
– Чем отблагодарить вас, люди добрые? – гул, как от вечевого колокола, утихомирил людское море.
– Будь князем киевским, Всеслав! Люб ты нам! Займи престол Изяславов! – полетели крики с разных краёв.
Князь молчал, чуть нахмурив брови, будто в задумчивости проводя по бороде правой рукой. С которой облетали высохшие кровавые корки.
– Ушла удача от Ярославичей! Половцы на Альте-реке разогнали их войска, как овец! Отказали нам оружье выдать да коней, чтоб самим идти землю защищать! Да где это видано, чтоб люд князю деньгу платил, а потом сам воевать шёл?! – голоса надрывались, спорили, перебивали друг друга. Но настроение народных масс было понятно: поражение в битве, отказ от вооружения, постоянные поборы, а теперь вот доказанные преступления – нарушение святой клятвы и покушение на убийство безоружного, да на глазах у детей! Я бы сам, стой там, напротив, поднял бы вилы на таких князей, как сделал вон тот рыжий здоровила с курчавой бородой в прожжённом кожаном фартука кузнеца. Или тот, плешивый, со стружкой в сивой бороде, плотник, наверное. Или вон тот красномордый, покрытый брызгами и пятнами глины и извёстки. В общем, за короткое время, стоя на собственном щите, на плечах своей дружины, Всеслав из осужденного превратился в вождя киевского пролетариата, говоря привычными мне терминами.
– Слушай меня, люд града Киева! – и где только научился князь так басить? – Услышал я просьбы ваши! В трудное и тяжкое время позвали вы меня. Но за мной – честь рода моего, дружина верная да Божья правда! А бояться трудов, что ратных, что мирных, не привык я!
На лице Всеслава расползлась та самая ухмылка, что вчера так напугала сыновей. Волны народного моря затихли враз. Сотни распахнутых глаз и ртов в бородах внимали каждому слову.
– Принимаю я зов и просьбу вашу! Примите и вы мою. Оставьте терема́ да дворы княжеские!
В трёх-четырёх местах раздался было недовольный гул. Князь приметил тех, кто шумел сильнее, особо охочих до дармового чужого добра, и продолжал:
– Чтоб не было потом искушения им жаловаться, что и так всё потеряли да по́ миру с сумой пошли, – люди начали улыбаться и посмеиваться. Образ великого князя Изяслава, статного красавца и богача, в рванине и с протянутой за подаянием рукой, возникший перед глазами, веселил.
– Ждёт их суд мой, княжий да Божий, честный и справедливый! – пролетело над народом, и улыбки их стали жёстче. Почти как раскатистая буква «р» в последнем слове, что будто продолжала аукаться меж стен подворья.
– А вот дворы да амбары ближников их, с подлого воеводы Константина начиная, я отдаю вам на поток! Только жёнок да детей не троньте, ни при чём они! – но последние слова Всеслава будто утонули в ответном рёве «Любо!», от силы которого он едва не пошатнулся на своём постаменте. Но устоял. Мне показалось, что финальную фразу он говорил больше для себя. Или даже для меня. Будто щадя ранимую душу дальнего потомка, оберегая её от диких нравов Средневековья. Хотя мне, человеку пожившему и повидавшему многое, была понятна и вполне близка его правда сильного, когда если не ты, то тебя.
– Голов кончанских завтра после обедни зову на двор свой, – повёл князь правой, здоровой рукой, вокруг, указывая, где именно ожидал видеть глав административных округов и районов, как они сейчас назывались. – Рядить будем! По чести!
Под одобрительный вой и гул толпа покидала подворье, доламывая правую воротину, и так державшуюся на соплях.
Всеслав обвёл глазами опустевшую площадь. Примечая волчьим глазом ребят из сотни Ждана, что не выпускали копий и «держали периметр». И Яновых лучников, показавшихся в дверях, окнах, галереях и на крышах построек. И мечников Гната, из ядра ближней дружины, что стояли на своих местах, будто утёсы, которые огибала толпа киевлян, как вода в отлив.
– Благодарю, други! – князь приложил правый кулак к сердцу.
– Слава князю! – понеслось над вытоптанной землёй и заметалось между стен. Да, гораздо тише, чем рёв разгорячённой толпы горожан. Но для княжьего сердца милее и приятнее. Этих ребят он всех знал по именам с детства, их или своего. И был уверен в каждом. Но всё равно на душе стало теплее.
* Латгалы – народ восточных балтов, коренное население Латгалии, восточной части Латвии. Водь – финно-угорский народ, коренное население Ленинградской области.
** Дукан (фарси, пушту) – магазин, торговая лавка.
Глава 5. В князи
Мы с сыновьями стояли на крытой галерее, что шла вокруг двора на высоте второго этажа. Память, общая с Всеславом, подсказывала, что называлось это весёлым словом «гульбище». На этом, в принципе, веселье и заканчивалось.
Вчера насмерть перепуганная начавшимися беспорядками дворня едва ли не на карачках ползала вокруг меня и ближней дружины, умоляя пощадить, не сиротить детишек. Особенно это оригинально смотрелось от сытых безусых хлопцев, что были тут кем-то средним между курьерами и младшими помогайками. Им хорошо если по четырнадцати исполнилось, и насчет того, каких детей они бы оставили сиротами, внезапно помри, возникали вполне резонные сомнения. По высокому и широкому всходу нас едва ли не на руках занесли в терем. Но сперва мы, рыкнув на севших на хвост мажордомов, горничных и прочих буфетчиц, проверили сверху, визуально, посты и прослушали доклады от сотников. Выходило вполне спокойно и умиротворяюще: все по местам, подступы просматриваются на перестрел, периметр закрыт, ни войти, ни выйти. Говорил Гнат, остальные согласно кивали, глядя на меня и сыновей с искренними улыбками.
– Ратникам слова мои добрые, харчей лучших и по десяти кун* каждому, – определил Всеслав под одобрительный гул сотников. – Вам, браты, по три гривны на меч.
Не знаю, принято было в княжьем войске так платить верным людям за то, что они поклялись служить верой и правдой, но никто из них возражать и шумно отказываться не стал. А Янка что-то на пальцах показал ближнему лучнику на крыше, тот аж взвился и передал знаки-жесты дальше. Не успели мы повернуться к здоровенной и явно тяжёлой входной двери в терем, как со всех сторон двора раздался рёв:
– Слава князю!
И снова это согрело душу. Никак, тщеславны оказались мы с Всеславом? Хотя какая уж тут тщета, если вдуматься – самая что ни на есть библейская история, когда каждому воздалось по делам его. То, что войско верит, ценит и любит вождя – в меньшей степени заслуга войска.
– Здрав будь, княже! – задребезжал по левую руку неприятный голос. Присмотревшись, я увидел плешивую макушку и красно-синие уши, будто кружевами украшенные кровеносными сосудами изнутри. За ушами угадывались пухлые щёки, плавно переходившие в узкие плечи, а те, в свою очередь, в толстый круп.
– Кто таков? – мои знакомые полковники такому тону Всеслава позавидовали бы, честное слово.
– Камерарий** теремной великого князя Киевского, Гавриил, – прозвенел не соответствующий фигуре голосишко плешивого. Эва как, гляди-ка, не хрен с горы – целый камерарий!
– Подними глаза, ключник! – тон не поменялся, и пухлый, услышав свою должность по-родному, а не на заморский лад, выпрямился с такой скоростью, словно Всеслав не приказал, а пинка отвесил.
Нос, толстый и какой-то обвисший, так же, как и уши, покрытый сеткой сосудов, сомнений не оставлял – завхоз попивал, притом капитально. Он, кажется, и сейчас был под хмельком. Да и шутка ли: едва смерть лютую не принял за чужое барахло. Как-то встретит новый хозяин старого чужого слугу?
Всеслав, кажется, с удивлением и интересом ознакомился с моими мыслями. Для него характерный рисунок на ушных раковинах и носу ничего не значил, но, чуть расширив ноздри и вдохнув поглубже, он в моей правоте убедился.
– Глеб! Сходи с Гаврилой-бражником по погребам, ларям да закромам. Пусть записи покажет. Если нет их – пусть сделает. А ты проверишь, чтоб глазами виденное сходилось с писаным.
Стоявшие вдоль стен дворовые разинули рты. Не то голос, раскатившийся по сеням-коридорам, удивил, не то угадка про ключниковы пристрастия, не то первый приказ княжеский – не бочку хмельного выкатить, а проверить, сколько их тут всего, тех бочек. А ещё мешков, ларей и сундуков. Ну а как по-другому? Свой глазок – смотрок, как мама говорила. Моя, не Всеславова. Да и в цифири этой всей Глеб разбирался получше многих, пусть привыкает.
– А коли что не так, княже? – сын смотрел на меня хитро. Пятнадцать лет всего – а службу понимает, батей на людях не назвал, и, судя по вопросу, просил границы полномочий очертить. Ну, на, сынок:
– Пальцы руби. За всякую недостачу – по одному. Кончатся – переходи на остальное, что торчит, – вроде как мимоходом бросил я, проходя мимо. Если по звуку судить, поддатый ключник за нашими спинами испустил дух. С обеих сторон. Привыкай, сын, руководить – это иногда и мешки ворочать.
– К столу, княже? – статная баба в длинном платье, богато украшенном вышивкой, и в меховой душегрейке сперва изогнула черную бровь. И, лишь убедившись, что я смотрю не мимо неё, наклонилась в земном поклоне.
А оригинальный тут у них покрой дамского платья, надо признаться. Про бюстгалтеры, понятное дело, никто и слыхом не слыхивал, а не помешал бы явно. Этой было, что положить. Пока я, как человек сильно взрослый и уже скорее тренер, чем игрок, размышлял об этом, князь смотрел на выпрямлявшуюся бабу с предметным интересом. Ни в слабом зрении, ни в невнимании к деталям его упрекнуть было нельзя. Детали там были минимум пятого номера. А Всеслав сидел под землёй больше года.
– А ты кто? – голосом, чуть выдавшим некоторую, так скажем, обеспокоенность, спросил он. Про «красну девицу», как я было предположил, не добавил. «Какая девица? На платок глянь, вдовица она. И не раз, наверное – такие одни долго не сидят» – проскользнула ответная мысль.
– Домной кличут, князь-батюшка. Над поварнёй теремной смотреть приставлена, – ух и хороша! Натурально домна: не женщина, а мартеновская печь. Возле такой, как говорится, захочешь – не уснёшь. И голос глубокий такой, манящий… Так, с князем всё ясно, но я-то куда, мне ж восьмой десяток! Или уже нет?
– Обожди, Домна. Поистрепались мы в яме сидючи, надо бы в баню по первости, – пожалуй, если кто и чувствовал неловкость князя, то только я. Мне отсюда, из него, многое виделось именно так, как оно было на самом деле, а не так, как он хотел показать.
– Пока Гаврила с сыном твоим занят, дозволь провожу да заедок каких подам тебе да ближникам? – проклятая черно-бурая лиса играла наверняка. Помыться и пожрать – первое дело, конечно. А уж опосля…
– Нитку шелковую, иглу потоньше и вина крепкого, чтоб горело, найдёшь тут, Домна? – влез я, пользуясь тем, что князь деятельно разворачивал в воображении картины по поводу «опосля».
– Найду, принесу, как отмоетесь. Ксана, Яська! Одёжу чистую в баню несите! Богданка – кличь хлопцев, пусть воды поднесут поболе. Не думала я, что так много вас будет, – последняя фраза здешней «зав.столовой и не только» утонула в шуме и писке, забегали девки, забубнили мужики. Но мы с князем услышали. И мне показалось, что уши прижались к голове, на холке поднялась шерсть, а нос стал пропускать втрое больше воздуха, пытаясь учуять угрозу.
Мы шли тёмной подклетью вслед за Домной. Еле заметным движением бороды дал знак Гнату, и он сероглазой каплей ртути перетёк из-за моего правого плеча, встав перед левым. Чтобы мне удар, приди нужда в нём, не испортить. Ножны с отцовым мечом висели на поясе, прямо поверх грязной рубахи. Но без них я чувствовал себя, если можно так сказать, ещё более голым, чем в запятнанной кровью рванине.
– Если у Гаврилы не найдётся чего – дай знать, князь-батюшка. Одна толковая девка моя, Одарка, переписала себе летом закорючки его. Я сама не сильна, но как чуяла, что может нужда в тех заметках прийти. Весь Киев чуял, – ровно говорила зав.столовой, шагая уверенно, как у себя дома. Приложив чуть больше усилий, чем обычно, чтоб отвести глаза от того места, где подол упирался в душегрейку, спросил:
– Чем ещё удивишь-позабавишь?
– А ты дай знать, в чём ещё нужда какая – глядишь, я и пособлю, – тон её сомнений не оставлял, эта точно пособит. Дальше шли молча, глубоко дыша носом. Всеслав решил последовать моему совету и с удивлением отметил, что вокруг много интересного и помимо меховой оторочки, которой заканчивалась Домнина душегрейка.
На двор вышли где-то за теремом. Рысь выскользнул из низкой двери первым, окинул взором округу, кивнул удовлетворённо и только после этого отошёл в сторону, давая дорогу остальным. По крышам виднелись силуэты, видимо, Янкиных стрелков, но в глаза не бросались совершенно. Возле ворот стояли ладные копейщики Ждана, четверо. Ещё двое замерли возле высокого сруба, в котором мы опознали баню больше по запаху дыма и веников. У нас в Полоцке мыльни-парные строили обычным манером, чтоб протапливались быстрее. Эту же халабуду топить, наверное, начали ещё вчера.
В баню первым тоже вошёл Гнат, ныряя из светлого помещения в тёмные, и снова совершенно беззвучно – Рысь же. Вышел на свет довольный и спокойный.
– А хорош парок, княже! Надо здешних умельцев в Полоцк забрать. Никак ржаным квасом поддают, красавица? – вполне вежливо обратился он к Домне.
– Много чем поддают, Гнат, – ответила она, удивив друга. Не лишку ли знает для зав.столовой? – Прежний-то князь обычай завёл масла́ми натираться, на ромейский лад. А вы как скажете – так и сделают. Травок-то у нас с запасом всяких припасено.
Вспомнились вдруг какие-то сказки из тех, что слушал за забором Лёша-сосед. Там в одной из них какой-то наёмный убийца бросил на каменку пучок заговорённого сена – и все, кто в парной сидели, в минуту дуба врезали. Токсикологию я тоже учил, хоть и давно, и навскидку не смог вспомнить ни единого местного яда, чтоб так быстро убивал. Но мало ли. Князь, кажется, тоже что-то такое слыхивал от людей. А Домна не переставала интриговать.
Мы ввалились в предбанник и уселись на лавки вдоль чистого стола, на котором под холстиной нашлись и хлеб, и сыр, и мясо. Из кувшинов пахну́ло квасом, пивом и чем-то виноградным. А в дверь влетел Глеб.
– Успел! Думал, без меня париться соберётесь! – с облегчением выдохнул он, падая на лавку возле брата. Глядя на шмат варёной, кажется, говядины. Но рук не тянул, порядок знал.
– Что там бражник тот? – спросил у него Рома.
– Пустой человек, – сморщился младший. – Вор и плут. Клялся, что всё Изяславовы ближники вывезли в ночи, как прознали, что выжил князь. А потом стал мне золото да каменья совать, чтоб я, вроде как, подтвердил это.
– Сколько пальцев оставил паскуде? – заинтересованно уточнил Гнат, проследив, как закрылась дверь за Домной.
– Все, – опустив голову, сказал Глеб.
– Зря, – с сожалением, но уверенно крякнул Алесь. – Последнее пойдёт прятать, крыса!
– Неа, – помотал опущенной головой младший, – не пойдёт.
– Почему? – за всех спросил Роман.
– Я ему с левой под рёбра поднёс, как ты учил, с оттягом. Опал снопом да опростался прям там, камерарий-то, – под довольный хохот мужиков закончил сын, поднимая сиявшее лицо. Молодец, артист! Внимание привлёк, интригу создал, да и порадовал всех. – Я сказал, пока сам всё не отмоет – пусть и в мыслях не имеет близко подходить. А в закромах да погребах, что видел, там богато, бать! У нас пожиже будет, дома-то.
– Ну, тут и город другой, и народу больше. Помнить надо, что княжья казна, приди беда, должна горожанам помогать с голоду не помереть, а не ключнику отожраться так, чтоб аж совесть салом заплыла, – под согласные кивки друзей и сыновей пояснил я. И взялся за нож.
– А теперь и перекусить можно. Налетай! – и отмахнул себе ломоть мяса прямо на горбушку ржаного, пахшую так, как ни один хлеб никогда в моей жизни. Хотя, пожалуй, на те ковриги, что мама просила отнести на поле Житному деду, было похоже.
В парную, которая оказалась и моечной, или мыльней, зашли, смолотив по паре бутербродов и запив ядрёным кваском. Князь удивился слову «бутерброд», различив в нём хлеб и масло на каком-то из западных языков – масла ведь не было? Я объяснил, что в моё время так называли любую еду, положенную на ломоть хлеба. А в парной, не дожидаясь беды, предупредил:
– Гнат, нам после поруба жарится сильно нельзя! Вот отмоемся с сынами – так хоть обподдавайся, а пока потерпи, позябни чуток! – мужики засмеялись, помня тягу Рыси к лютому жару.
Посидели чуть, гоняя по коже пот и грязь, помылись первый раз. Вода с нас текла чуть ли не синяя, даже в потёмках видно было. Второй раз пошла почище, а на третий совсем хорошо стало. Только казалось, что тело стало легче чуть ли не на полпуда.
За столом сидели, завернутые в холстины, благостные, розовые и чистые, как души новорождённых. Я вспомнил про мальца, с которым мы так нежданно разминулись в моё время: он пришёл в мир, а я вышел из него. Наверное, для чего-то это было нужно. Мысли тоже тянулись неторопливые, мягкие и лёгкие, как сегодняшний парок. Где только носит эту зав.столовой, когда ещё нитки с иголкой просил? Заскорузлая тряпка отпарилась от груди с третьего раза, и теперь рана снова кровила, хоть и несильно. Но держать постоянно левую руку локтём вперёд, цепляясь пальцами за правую лопатку, было неудобно. И непередаваемо лень.
Тут скрипнула дверь – и мысли сразу побежали значительно быстрее.
В проём, низко наклоняясь под притолокой, вплывали, иначе не сказать, павы. Девки были простоволосыми, в белёных нижних рубахах. Прорезь те на шее имели изрядную, поэтому шесть с поклоном вошедших нимф-русалок просматривались, грубо говоря, едва ли не насквозь. Последней в том же обмундировании вплыла Домна с каким-то горшочком в руке, накрытым вышитым полотенцем. Ромка икнул. Алесь длинно выдохнул. Гнат и Ждан одинаково присвистнули.
– Говорила же – опоздаем, коровы! Нешто после бани не расчесались бы?! Сколь телиться-то можно было? Вон князь да княжичи, да вои первые, сами уж вымыться успели! Тьфу на вас, дуры! – отчитывала свой взвод зав.столовой. По зарумянившимся щекам личного состава с обеих сторон стола было ясно, что встреча вышла крайне многообещающей. По тону Домны несложно было понять, что лаялась на своих она не всерьёз. Искры из-под густых чёрных, русых и светлых ресниц и бровей будто вслух говорили: «всё только начинается!».
– Принесла? – голос князя остановил её поток, словно перебив дыхание, как ковш холодной воды, враз.
– Вот, батюшка-князь, – она с поклоном выставила передо мной горшок с неожиданно узким горлом, в котором Всеслав опознал кандюшку. На снятом и развёрнутом полотенце обнаружились нитки и иглы. Глядя на эти иголки, я явственно ощутил, как не хватало мне сейчас тех девяти сотен лет медицинского прогресса. Эти больше на гвозди обойные походили, и шить ими, пожалуй, можно было слонов и бегемотов. Образы которых отвлекли-таки князя от изучения застывшей в поклоне зав.столовой. Эту насквозь видно не было. Ввиду массированных естественных неровностей рельефа, так скажем.
– Слушай меня, Домна. Ты сейчас весь свой журавлиный клин выведешь за дверь, оставишь одну, ту, которая в лекарском деле сведуща. А вот когда я выйду – запустишь обратно. У меня жена молодая, с сыном грудным, они ко мне сейчас из Полоцка едут. Я встречи с ними год ждал, подожду и ещё несколько дней. Если ты это поймёшь – мы поладим. Нет – быть беде. Непременно, – голос оставался тем же, только на этот раз ледяной воды был не ковш, а целый ушат. По лицу Рыси было понятно, что он, может, и расстроится упущенной возможности поближе познакомиться с географией заведующей, но спорить с князем-чародеем? Дураков нет!
– Кыш! – только и сказала она, оказавшись ещё и неожиданно понятливой. Мужики провожали пропадавших в дверном проёме нимф с сожалением, видимым невооружённым взглядом.
– По лекарским делам из них помощниц не будет. Вот мнут да моют на загляденье, а лечить – только торчиху если, – под улыбки друзей и непонимающие взгляды сыновей пояснила Домна, запахивая ворот рубахи.
– А ты? – заинтересованно спросил князь.
– Я лубки могу накладывать, вывихи вправлять, роды принять могу, – начала перечислять та, не поднимая глаз от пола. Говорю же, понятливая.
– Ну, рожать тут желающих нету, а вот рану зашить надо подсобить.
– Как «зашить»? – подскочили брови Домны.
– Как рубахи да порты зашивают видала? Вот и шкуру так же, – пояснил я. Запоздало отметив, что кроме зав.столовой напрягся каждый за столом. И князь во мне. И ещё более несвоевременно пришло воспоминание об одной из лекций по истории хирургии, где нам рассказывали, что на Руси раны чаще прижигали или туго перетягивали платками или той же холстиной, а шили только что-то уж вовсе страшное – полостные, послеампутационные, и считанные единицы-умельцы, волхвы, а после – монахи. Поэтому у раненого была масса шансов помереть не от самой операции или травмы, а от шока, гангрены или сепсиса. Про военно-полевую хирургию и про наложения швов, якобы, до пятнадцатого века русские люди ничего не знали, да и тогда их, дураков лесных, тёмных, учили немцы, поляки и итальянцы. На той же лекции, правда, рассказывали, что Гален оживлял мёртвых, а раны за тысячу лет до нашей эры шили хищными муравьями: наловят, поднесут к ране, и ждут, пока жвалы сцепят её края. Доктор отрывает туловище муравья от башки и берёт следующего. Про такой способ я потом ещё где-то читал, а вот насчёт Галена с Парацельсом навсегда остался при своём мнении, о том, что оживить труп невозможно. Правда, я и о переселении душ всегда так же думал, а вон как вышло.
– Так, может, лечца или резальника*** из печорских монахов кликнуть? – в глазах женщины начинал проявляться испуг. Вот уж не думал, что такая бой-баба чего-то может бояться.
– Да, княже, давай пошлю отрока? – предложил Янка. Который, судя по памяти Всеслава если чего и боялся, так это умереть от старости или в бою с пустыми руками.
– Сидите уж, посылальщики. Тут дел-то – начать да кончить, – отмахнулся я.
Подвинул ближе горшочек, принюхался. Сивухой воняло, но, кажется, спирт там тоже был. На всякий случай макнул палец и поднёс к одной из лучин, что стояла ближе. Палец предсказуемо вспыхнул. Но в этот миг непредсказуемо взвизгнула и повалилась на пол Домна. С ней хором вскрикнули и отшатнулись от стола сыновья и даже Алесь с Яном. Ждан и Гнат смотрели на меня очень тревожными глазами. Князь же внутри будто замер. Я пожал плечами, не придав значения столь бурной реакции.
Полив на ладони, чуть морщась от сивушной вони, вымыл руки и намочил несколько кусков полотна, оторванных от смотанного бинтом рулона, что лежал там же. Прокалил над лучиной иглу, макнул в неизвестный напиток, подумал – и попробовал согнуть привычным полумесяцем. Почти получилось. И всё это в полной звенящей тишине. Вокруг стола никто, кажется, даже не дышал. Домна едва ли не на четвереньках отползла к дальнему от меня торцу и замерла там, тараща испуганные глаза.
Я ещё раз прокалил и протёр спиртовой салфеткой, а точнее, сивушной тряпицей, иглу. Выудил из горшка одну из брошенных туда нитей, вдел. С этим проблем не возникло – ушко у «иголочки» было вполне заметное. Хотел было хлебнуть для храбрости и анестезии, но передумал. Судя по аромату этого «хлебного вина», голова с него должна после употребления болеть неделю, не меньше.
– Гнатка, придержи края вместе, – попросил я друга, снимая основательно подмокшую тряпицу с груди. Домна вскрикнула и закусила палец, увидев дыру и разрез напротив сердца. Рысь протянул руки с таким видом, что, кажется, был бы больше рад бело-алые подковы с кузнечного горна брать, чем меня касаться.
– Ничего страшного или дивного не происходит. Чтобы хворь в меня не попала, дыру зашить нужно. Рома, расскажи, как дело было, – попросил я старшего сына. Судя по нему, он, наверное, ещё мог разговаривать. Младший – вряд ли. Неожиданно холодные, как не в бане был, пальцы Гната прикоснулись к груди и свели вместе края раны. Губу нижнюю он закусил так, будто планировал немедленно отправиться в ад за колдовство или пособничество в нём, и глаза были шальные. Я подтянул поближе и протёр салфеткой маленький, но острый ножик, которым до этого отреза́л мясо.
– Князь к окну подошёл, именем Изяслава позвали его. Голос того, кто звал, я не узнал, – Роман говорил, как та девка из соседского смартфона: по-деревянному и без эмоций. – Мелькнула рогатина, упал он. Мы подскочили. Лежит, не дышит. Потом раздышался, вроде. Глаза открыл. Первым делом крест нательный проверил. Пошептал молитву. Да прямо святым крестом-то рану и раскрыл.
Чесал он как по-писанному. Хоть и без выражения. Но слушатели были неискушённые, и, судя по ещё больше расширявшимся глазам, им впечатлений вполне хватало.
– Перста в грудь погрузил, остриё рогатины выдернул, вот такое, – и, видимо, следуя древнему правилу «не приврал – истории не рассказал», сын развёл почти не дрожавшие ладони чуть ли не на полметра. Снова ахнула Домна.
– Мы кус тряпицы почище от Глебовой рубахи оторвали, он к ране приложил. И спать повалились. Так было, – подвёл он итог. Я тем временем заканчивал вязать девятый шов. Руки слушались чуть хуже собственных, не было той привычки, но не критично. Отмахнув ножиком концы ниток, перешёл к последнему. Без сюрпризов и спешки: проколол, завязал, затянул, обрезал края.
– Домна, мёд есть ли? – спросил у зав.столовой, от которой над столешницей только изумлённые глаза торчали. – Да вылезай ты уже из-под стола, а то сидишь, как жаба в пруду, глазами лупаешь!
Мужики вежливо, хоть и несколько деревянно посмеялись над не особо изящной шуткой, давая понять, что да, мол, похожа. Но от всей души мы хохотать пока не готовы, прости, князь – нервы ни к чёрту. Ушлая баба опомнилась вперёд всех.
– Там, княже, в тряпице, мазь монастырская, от Антония Печорского, раны заживляет, – прокашлявшись, выговорила-таки она, не сводя глаз с салфетки, куска холстины, которой я обрабатывал шов.
Мазь нашлась. Странный серовато-жёлтый лепо́к чего-то, в составе явно имевшего мёд, сливочное масло, смолу-живицу и какие-то не то отвары, не то настои. Надо будет пообщаться с этим Антонием, для здешнего уровня медицины он оказался замечательным провизором. Нанёс ароматную субстанцию на шов. Осмотрел и остался вполне доволен работой. «Чудо!» – выдохнул внутри будто только что очнувшийся Всеслав, – «Ровно, быстро, без крови – ну чисто златошвея!». «Ремесло, князь. Просто ремесло» – скромно подумал я. Если тут простые швы в такую новинку, то и другие мои навыки будут на пользу. «В том никаких сомнений нет. Это ж сколько воев спасти удастся!» – внутренний военачальник грамотно оценивал преимущества, перспективы и выгоду. Всё верно.
– Прости, княже, дуру, – прошептала Домна, склонив голову.
– Пустое, – отозвался Всеслав. – Дай во что обрядиться да проводи до ложницы****. И лебёдушек своих потом запускай. Отдыхайте, хлопцы!
* Куна – денежная единица Древней Руси в Х-ХI веках, примерно равна 2 г серебра, приравнивалась к 1/25 гривны.
** Камерарий (лат. Camerarius) – придворная должность в Средневековье, смесь завхоза и казначея.
*** Лечец (старослав.) – врач, лекарь в Древней Руси, в подавляющем большинстве случаев церковный или монастырский. Резальник – лечец условно хирургического профиля.
**** Ложница (старослав.) – спальня.
Глава 6. Утро при власти
Вечер густел. Сопровождаемый молчавшей зав.столовой, накинувшей на плечи давешнюю душегрейку, я прошёл мимо тихо стоявшей вдоль стены бани шестёрки белых лебёдушек. Ждановы мужики вытянулись, состроив сосредоточенные лица, хотя из-за двери было слышно, как только что пытались разговорить «банный взвод». Домна чуть качнула головой назад – и девки едва ли не строем направились в предбанник. Сильна баба, умеет. Но вопросов к ней – воз, конечно.
Прошли подклетью до лестницы на второй этаж, по-здешнему – всходу в жильё. Ребята Гната попадались по всему пути, но грамотно, не ища и не найти, Домна вздрагивала и айкала каждый раз, когда из сумрачных углов, а то и словно прямо из бревенчатых стен выходили мечники, склоняя голову с почтительным: «Княже!». Я проходил мимо, не сбивая шаг, кивая. Некоторых князь называл по имени, находя доброе или шутливое слово. От этого бойцы расплывались в счастливых улыбках, отступая обратно во мрак. Неизбалованный тут народ, простой. Есть и другие, наверное, но пока кроме византийского подсыла да алкаша-ключника попадались только хорошие люди. Даст Бог – так и дальше пойдёт. Хотя вряд ли, конечно.
Возле двери, украшенной резьбой с какими-то растительными орнаментами и сказочными сюжетами, поклонились ещё двое, Вар и Ян Немой, которых Гнат всегда старался держать к нам поближе. Память князя показала, что мужики они лютые в сече, а преданнее можно и не искать. Отряд торков, что дотла спалил весь, деревеньку, откуда был родом Вар, и где жила его семья, Всеслав развесил вдоль дороги. В полном составе и почти полной комплектации. Вместе с конями. Было непросто, но впечатление на степных вождей произвело правильное – прислали посланцев с извинениями, богатыми дарами и заверениями в вечной дружбе.
Ян же, как и его тёзка Янко, что стоял старшим над стрелками, был из латгалов, народа, мир с которым установил ещё Всеславов дед. Этот мир не давал покоя ни Новгородцам, ни Пскову, ни пруссам, потому что их лодьи ходили по Двине на латгальских землях платно, в отличие от Полоцких корабликов. Яна с ребятами прихватила разведка ятвягов лет семь назад. Из всего разъезда выжил он один. Его жуткие шрамы и обрубок языка, что отрезали и прижгли головнёй – вот что осталось всем нам на память о клятвах в ятвяжской верности. Ян умудрился перед тем, как потерять сознание, навязать узлов на верёвке от портов, по которым прискакавшие следом парни из Алесевой конницы определили, когда, куда и сколько врагов ушло. Двое конных спешились и скользнули в лес за уходившими врагами, остальная группа вернулась в наш лагерь, везя на полотне вывшего и бредившего латгала. Янко-стрелок и трое его земляков-десятников сами снимали висевшего между коней друга. С того насквозь мокрого и блестевшего от крови страшного гамака. Князь тогда увидел в их глазах близкую смерть. Не их, вражескую. Страшную. Всегда молчаливые и невозмутимые латы за пару минут сговорились с Алесем и Гнатом, и вслед за уходившими на свои земли ятвягами поскакал сводный отряд: всадники, мечники и стрелки. Они их, конечно, догнали. Об увиденном и случившемся там Рысь никогда и никому не рассказывал, даже Всеславу, ограничившись тогда кратким «покарали». При этом слове его будто озноб пробил, и больше о той истории князь не выспрашивал. А Ян, поправившись, придумал тот самый язык жестов, которым теперь пользовались и его земляки, и остальные ребята в войске. Возможность общаться в полной тишине иногда здорово выручала. Да что там, всегда очень выручала, откровенно говоря. Только из стрелков ему пришлось перейти ко Гнату Рыси, в мечники – руки твёрдость сохранили, а глаза после той истории вдаль глядели уже не так.
