Беспощадный учитель: педагогика non-fiction
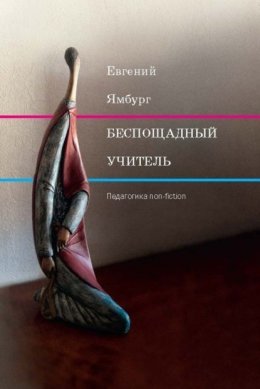
© Ямбург Е.А., 2019
© ООО «Бослен», издание на русском языке, оформление, 2024
Новый век – беспощадный учитель
Как только ни называют наступившее столетие: век цифровой экономики, искусственного интеллекта и т. п. В основе всех подобных определений – оптимистические прогнозы будущего. Они греют душу и вселяют надежду, без которой существование человека теряет смысл. Между тем, будущее может и не наступить, поскольку до конца не осмыслены и потому не усвоены уроки истекшего столетия с его окровавленными реками. Потому для меня наступивший век – беспощадный учитель.
Беспощадный к кому? Прежде всего, к нам – взрослым ответственным людям, формирующим будущее посредством воспитания детей. Вне зависимости от того, занимаемся ли мы этим профессионально или в силу своих родительских обязанностей. В этом смысле педагогика – занятие тотальное, всеохватное.
Сегодня от всех нас требуются изрядное интеллектуальное мужество и невероятные душевные силы, чтобы взглянуть в глаза реальности, перестать убаюкивать себя привычными мифами и на скорую руку сконструированными идеологемами. Педагогику, опирающуюся на правду фактов, стремящуюся избавиться от иллюзий, для которой не существует табуированных тем, готовую бесстрашно обсуждать «неудобные» вопросы, – такую педагогику я и называю педагогикой non-fiction.
По аналогии с литературой non-fiction, которая стремительно завоевывает читателей. Убедительным доказательством этой тенденции является присуждение Нобелевской премии С. Алексеевич, чье творчество целиком построено на правде факта, то бишь на документалистике.
А ведь еще вчера в центре читательского притяжения была литература фэнтези, уводящая человека от суровой реальности в мир сказок и грез. Но что-то вдруг резко переломилось. Возможно, люди почувствовали реальные угрозы и вызовы и наконец ощутили непосредственную опасность самогипноза. Или на данном отрезке времени исчерпал себя эстетический посыл: «над вымыслом слезами обольюсь». Трагизм повседневного существования высекает такие эмоции, что куда тут вымыслу. Но за эмоциональными реакциями проступает не всегда осознанное стремление найти выход из лабиринта навалившихся открытых вопросов, зачастую не имеющих простых и, тем более, окончательных решений. Школа в широком смысле слова – как школа жизни – оказалась на пересечении запутанных узлов, разрубить которые, при всем соблазне предпочтения этого способа решения проблем, не удастся. Их придется распутывать нам, нашим детям и внукам.
Эти проклятые открытые вопросы смущают ум, бередят сердце, тревожат душу. Но стоит ли тревожить тени прошлого, сыпать соль на раны, рискуя вглядываться в бездну? Беспощадный век настаивает на этом. Не только исходя из хрестоматийного тезиса: «душа обязана трудиться».
Непреложное условие воспитания – завоевание взрослыми доверия детей. До поры этим условием можно пренебречь. – До поры наступления подросткового возраста, когда подходит пора самоопределения, и отсутствие зримых образцов достойного поведения среди близких людей побуждает тинейджеров искать кумиров на стороне. Запутавшиеся в своих проблемах взрослые, у которых слово зачастую расходится с делом, не могут служить образцом для подражания. Здесь напрашивается аналогия с семьей, переживающей длительный мучительный период развода, где на фоне скандалов и выяснения отношений родители поочередно проповедуют своему чаду нетленные ценности любви и взаимопонимания между людьми.
Беспощадный век предъявляет свои жесткие требования к взрослым, вытаскивая их из якобы надежных укрытий, огороженных национальными, социальными, конфессиональными, идеологическими и прочими заборами.
Бог бы с ними, со взрослыми. Их малодушие не вызывает у него снисхождения. Но он не слишком милостив и к детям. Казалось бы, в основе отношения ребенка к жизни должны лежать радость и изумление. Дети нуждаются в утешении, предполагающем избавление от трудностей и страданий. Им-то зачем подносить эту горькую чашу?
Подобно рыбьему жиру, ее содержание неприятно на вкус, зато содержит противоядие, защищающее неокрепший детский душевный организм, укрепляя его иммунитет, необходимый для защиты от всевозможных духовных эпидемий. В частности, в условиях, когда разъедающая сознание криминальная идеология пустила метастазы во все слои общества и его возрастные группы, включая младших школьников. Таким горьким лекарством, безжалостно счищающим романтический флер с блатного мира, могут служить, например, рассказы В. Шаламова.
Хотим мы того или нет, на смену веку-волкодаву пришел беспощадный век-учитель.
Глава I
Перекресток открытых вопросов
Л. Миллер
- А что толкает к белому листу?
- Попытка говорить начистоту.
- Вокруг непостижимого круженья,
- В борьбе с самим собою пораженье,
- Стремление нащупать благодать,
- Попытка безымянным имя дать,
- Стремление дать слово бессловесным
- И выйти на прямой контакт с небесным.
Держи ум свой во аде, но не отчаивайся.
Св. Силуан
Выбор неясен
На всем протяжении человеческой истории школа всякий раз оказывалась на перекрестке открытых вопросов, не имеющих окончательных решений, в те переломные эпохи, когда происходили тектонические цивилизационные сдвиги, менявшие привычную устоявшуюся картину мира и образ жизни. Вопрос «Чему учить и как учить в изменившихся условиях?» – лишь надводная часть айсберга. А на глубине – вечные неизбывные вопросы, затрагивающие ценности и смыслы культуры, а следовательно, образования.
Трудно жить без веры. Но во что и как верить? В мудрое управление Бога? Но это не всегда оправдывается. От матери, потерявшей ребенка, трудно ожидать библейской мудрости Иова. В нравственный прогресс человечества? Но и эта вера под вопросом. Не зря еще А.И. Герцен предупреждал о большой вероятности появления Чингисхана в век телеграфа и железных дорог. Двадцатый век подтвердил этот мрачный прогноз. В переводе на образовательную проблематику, это вопрос о светском или религиозном характере воспитания, который дебатируется и сегодня. На фоне всемирной схватки глобализма с фундаментализмом он приобретает невероятную остроту.
Да, прогресс сулит комфорт и процветание. Но не нами давно замечено, что иные плоды просвещения бывают ядовиты. Многие из них отравляют душу, в первую очередь молодых людей. Хотите защитить их от наркотиков, секс-шопов и порнофильмов? – постарайтесь притормозить прогресс, а еще лучше – повернуть историю вспять. Ради такой благородной цели не грех облачить женщин в хиджабы или, например, попытаться опереться на духовные скрепы, всячески подчеркивая преимущества православия перед другими конфессиями, подбирая в школьных курсах примеры и доказательства этой принимаемой на веру истины.
Перечень открытых вопросов, на перекрестке которых находится сегодня школа, можно расширить. Но суть не в их перечислении, а в осознании того, что от них не спрятаться, не скрыться, как бы мы ни старались перевести проблемы современного образования исключительно в технологическую плоскость овладения молодыми людьми новейшими способами обработки и передачи информации.
Отчего так? Потому что при утере ориентиров, указывающих на безусловные, вечные ценности и смыслы культуры, невозможен отбор содержания образования. Без них досужие разговоры о так называемом «золотом стандарте» образования теряют смысл.
Но в том-то и дело, что сегодня эти ценности и смыслы видятся людям по-разному. И все желают детям добра. Такая двусмысленная, а точнее, разномысленная ситуация невероятно напрягает педагогов, порождает среди них разброд и шатание, даже если сами они не вполне отдают себе в этом отчет. Но школа – не супермаркет, ее не закрыть на ценностную инвентаризацию. А значит, учитель, на свой страх и риск, в силу специфики своей деятельности, призван здесь и сейчас давать ответы на открытые вопросы, которые ежедневно ставят перед ним ученики. Между тем, он и сам находится в плену стереотипов, мифов, меняющихся идеологических установок и политических предпочтений.
Тем не менее, почти в одиночку он несет свой крест. Кто и чем укрепит его, хотя бы отчасти облегчит тяжелую ношу? «Держи ум свой во аде, но не отчаивайся», – эти слова св. Силуана, обращенные к уму и сердцу каждого человека, определяют главный посыл этой книги.
Как нести свой крест
Едва ли найдется читатель, незнакомый с евангельским сюжетом, откуда взято вынесенное в заголовок выражение. Но как нередко бывает, от частого употребления оно потускнело, приобрело бытовой оттенок, оправдывающий существование человека, вынужденного примиряться с невеселыми обстоятельствами жизни. Это снижает замысел библейского речения. Ведь вслед крестному пути и искупительной жертве последовало Воскресение.
Из разговоров с коллегами:
– Как дела в школе? Чем сейчас занимаешься?
– Несу свой крест. (Произносит с тяжелым вздохом.)
– Что думаешь делать дальше?
– Отдав четверть века школе, решил поставить крест на профессии. Так будет честнее. Не вижу смысла присутствовать при эвтаназии образования, имитируя активную деятельность.
Подобные настроения достаточно распространены сегодня в профессиональном сообществе педагогов и управленцев образования. Что это: усталость от бесконечных реформ? малодушие? неверие в прогрессивный характер проводимых преобразований? Или – по самому большому счету – в его величество научно-технический прогресс, призванный спасти человечество от моральной деградации, признаков и примеров которой вокруг не счесть?
Растерянность и апатия противоречат самой природе педагогического труда. Учитель в таком состоянии выглядит беспомощно. Потеряв ориентиры, он не способен вести за собой ребенка. Без веры в возможность сохранения в сознании вступающих в жизнь поколений ценностей и смыслов культуры в школе делать нечего.
Как в наших обстоятельствах сохранить эту веру в сокровенный смысл своего труда? Где найти силы, чтобы твердо стоять на своем, не искушаясь модными веяньями в образовании, сулящими быстрый успех? А с другой стороны, как удержать руку на пульсе времени, не утеряв живой связи с новым молодым и незнакомым племенем? Этому ключевому вопросу посвящена предлагаемая читателю книга.
Не зря замечательный польский педагог Я. Корчак утверждал: «Школа стоит не на луне». Экономической, социально-политической и идеологической конъюнктурой во многом порождаются те или иные, идущие сверху, импульсы. Оформленные в управленческие решения, они понуждают школу к стремительным изменениям на потребу дня. Иногда такие решения продиктованы рациональными мотивами и благородными целями, чаще – стремлением мгновенно отреагировать на очередной сигнал, посланный с политического Олимпа. Но в любом случае лихое администрирование губительно для школы.
Выше уже отмечалось, что глубина и масштаб проблем, с которыми сталкивается современная школа, уходят корнями в кризис современной цивилизации. Значит, многие решения, с ними связанные, не могут быть найдены при жизни одного поколения. Но это не повод для уныния. Напротив, когда отдаешь себе отчет в подлинном масштабе проблем, появляется возможность поставить пред собой реально достижимые на данном отрезке времени педагогические цели. Разумеется, не теряя при этом перспективу и не считая решение тактических задач окончательной и бесповоротной победой.
Осознание границ своих возможностей не означает трусливого ухода от коренных вопросов бытия. Напротив, их постоянно надо держать в поле зрения, иначе, как гласит пословица, «за деревьями (частными педагогическими проблемами) не увидишь леса». Между тем, современная цивилизация все больше приобретает черты зловещего леса – метафоры из пророческого романа братьев Стругацких «Улитка на склоне». Повсеместное одичание в разных точках планеты попеременно принимает разнообразные формы: то взрывов фундаментализма с его мракобесием и отказом от всех достижений цивилизации и прогресса, то полного этического релятивизма и откровенного культа пошлости в массовой культуре.
Прохождение между Сциллой и Харибдой этих крайних проявлений одичания чревато для педагога опасностями и требует от него подчас жертвенного поведения. Ситуация совсем не умозрительная, а самая что ни на есть житейская, бытовая.
Вспомним хотя бы историю, недавно произошедшую в Ставропольском крае. Директор сельской школы, отстаивая светский характер учебного заведения, запретила в школе ношение хиджабов. И сколько же посыпалось в ее адрес угроз!
Да, она вынуждена была уехать. Осудим ее? Призовем к тому, чтобы педагоги – все, как один, – готовы были лечь на амбразуру? Но требовать от всех без исключения людей жертвенного поведения, на мой взгляд, не только нереально, но даже опасно. Почему?
Ноша должна быть по силам. Ибо надрыв оборачивается искаженным представлением о себе самом и своих возможностях, как правило, непомерно завышенным. Так рождается соблазн использовать силовые способы исправления несовершенной человеческой (детской) натуры – дьявольское искушение, художественно исследованное Ф.М. Достоевским в «Легенде о великом инквизиторе». Казалось бы, гений расставил все точки над «i», но это совсем не помешало в двадцатом веке развернуть масштабную деятельность по выделке нового человека, как в нацистской Германии, так и в СССР, где центральные роли играли тюрьмы, лагеря и суды. Трагические последствия этих педагогических экспериментов хорошо известны. Но и в новом, двадцать первом веке сторонников использования инструментов тоталитарной педагогики хоть отбавляй. Отчего так? (Разговор об этом впереди.) Пока же зафиксируем, что осознание сложности и масштабности проблем не должно приводить к параличу воли педагога. Нести свой крест, если он действительно свой, можно и с радостью, когда не утеряны ценностные ориентиры и не утрачена уверенность в смысле своей деятельности.
Речь идет об осознании педагогом своей миссии в культуре, о сохранении им уверенности в том, что он способен передать следующим поколениям культурную память. Искать опору этой веры можно на разных путях. Один из них – историзм педагогического мышления.
Историзм педагогики non-fiction
Важнейшим методологическим основанием педагогики non-fiction является историзм. Взыскательный читатель вправе отметить банальность этого заявления. В самом деле, необходимость опоры на предшествующий опыт слишком очевидна во всех сферах человеческой деятельности, включая педагогику. Зачем же ломиться в открытую дверь? Но здесь речь идет не только и не столько о формальном накоплении и учете прошлого опыта, а о механизмах формирования оценочных суждений об этом опыте.
Проблема заключается в том, что каждое поколение вырабатывает свое отношение к прошлому, не позволяя предшествующему поколению навязать иную точку зрения. Мало этого, каждый человек формируется под воздействием ключевых исторических событий своего времени. Зачастую обманутые надежды в настоящем заставляют человека искать ошибки в прошлом, в истории.
Французский историк М. Блок отмечал, что существуют поколения длинные и короткие. Что совсем не определяется средней величиной прожитых им лет, но зависит от смены (слома) устоявшейся картины мира и образа жизни. За последние десятилетия мы пережили столь стремительную смену вех, что перед школой встала необходимость взаимодействия с одним длинным и чередой коротких поколений. Длинное – советское в лице бабушек и дедушек, которые по факту более активно участвуют в воспитании своих внуков, нежели занятые родители. Череда коротких поколений – перестроечное, мечтавшее соединить демократию, рынок и социализм; поколение девяностых, уповавшее на рыночные реформы, посредством которых надеялось быстро достичь западного уровня жизни; поколение нулевых, испытавшее на себе шок рыночных реформ и потому по достоинству оценившее преимущества стабильности и укрепления государственности.
В переломные эпохи так называемый «дух времени» меняется очень быстро. Отцы могут быть либералами и демократами, но приток мигрантов, говорящих на непонятных языках, внушает страх, рождает ощущение, что государство нас недостаточно защищает. И дети становятся восприимчивы к националистическим лозунгам, склоняются к сервильному патриотизму, жадно впитывают имперские мифы, еще вчера казавшиеся безнадежной архаикой. Отсюда грустная констатация поэта А.П. Тимофеевского:
- Я разминулся со временем,
- Такой анекдот, господа,
- Я в правильном шел направлении,
- А время пошло не туда[1].
А. Эткинд справедливо отметил:
«Вместо того чтобы разделить друг с другом опыт страдания и освобождения, различные группы – этнические, поколенческие и даже профессиональные – культивируют собственные версии прошлого. Эти версии формируют их идентичности, определяют друзей и врагов и предают смысл меняющимся мирам этих групп. В такой динамической ситуации войны памяти неизбежны. Их ведут те, кто призывает к состраданию к жертвам, против тех, кто настаивает на своей преемственности в деле их мучителей. Войны памяти ведут национальные государства, политические партии, историки и писатели. Рождая новую культуру, эти войны ведут к новым интерпретациям хорошо известных артефактов – таких, как купюра с изображением Соловецкого монастыря»[2].
Весь этот оценочный историко-поколенческий сумбур одновременно транслируется на детей и юношество. Не редки случаи, когда в одной и той же семье представители разных поколений в присутствии детей высказывают диаметрально противоположные взгляды.
Один известный режиссер поделился со мной своей семейной проблемой. Его юный внук бо́льшую часть времени проводит с другой бабушкой, а к нему в семью попадает лишь на выходные. Та бабушка – выпускница высшей партийной школы с устоявшейся советской системой взглядов. Режиссер же исповедует либеральные ценности. Когда он пытается в краткое отведенное на воспитание внука время открыть мальчику глаза на драматические страницы нашей истории, внук дает свою детскую оценку двум противоположным взглядам на прошлое: «Наверное, то, что ты рассказываешь, – правда. Но то, о чем рассказывает та бабушка, – этим можно гордиться».
Такой сложный историко-психологический контекст неизбежно приводит к потере смыслов и расширяет пространство неопределенности в сознании детей и юношества, порождая у них стремление уйти от навязываемых взрослыми проблем, по сути, тех же открытых вопросов. Уход этот осуществляется в двух формах.
Первая – примыкание к воззрениям господствующего большинства. – Комфортная позиция, избавляющая от груза сомнений и личной ответственности. Школа, в силу ангажированности государством и необходимости дать определенную сумму знаний, контролируемую на выходе, культивирует именно эту позицию. Прежде всего, с помощью учебников, где сегодня реализуется так называемый историко-культурный стандарт. Между тем известно, что во все времена история больше всего фальсифицируется в школьных учебниках с целью воспитывать молодежь в духе господствующей политической партии или системы управления.
Вторую форму ухода условно можно назвать смысловой индифферентностью, определяющей царящую аполитичность во взглядах. «Не грузите нас своими проблемами, в которых вы сами не в состоянии разобраться», – примерно так рассуждают молодые люди, нацеленные на то, чтобы, как призывает реклама, «жить на яркой стороне» и добиваться успеха. Не сказать, чтобы такая позиция была нова. Еще в 1844 году, столкнувшись с ней, обращаясь к молодежи, А.С. Хомяков писал:
- Не говорите: «То былое,
- То старина, то грех отцов,
- А наше племя молодое
- Не знает старых тех грехов».
Примечательно, что обе формы ухода от открытых вопросов приводят к одинаковому результату: автоматизму существования человека со всеми вытекающими печально известными последствиями: гедонизму, цинизму, трусости и карьеризму. Обе формы ухода – не что иное, как бегство от исторической ответственности, утрата веры в человеческие силы!
Таким образом, историзм педагогики non-fiction заключается в трезвом учете факторов, определяющих самоидентификацию поколений. Что позволяет, проявляя осторожность в суждениях и приговорах, избегать дилетантизма, который всегда пользуется лишь отрывочными фактами, трактуя их в свою пользу.
Педагог, в силу специфики своей деятельности, на протяжении профессиональной жизни имеет дело сразу с несколькими поколениями. В этом источник его неизбежных разочарований, но одновременно и ключ к мудрому пониманию жизни. Наиболее полно эту мысль выразил историк С.М. Дубнов:
«Есть нечто от вечного в долгой сознательной и активной жизни на протяжении ряда поколений – конечно, при условии сохранения молодости духа и чуткости ко всем явлениям дня. Такой человек видит динамику поколений, длинную цепь исторической эволюции, в которой он составляет звено, сам проходит целую полосу истории и сливается с целым веком в ней»[3].
Наивно думать, что историзм педагогического мышления нужен исключительно преподавателям истории в силу специфики их предмета. В равной степени он необходим всем педагогам, поскольку их деятельность многопланова, многогранна и не сводится исключительно к предметной сфере. Внимательно наблюдая динамику поколений, чутко улавливая дух времени, мудрый учитель не навязывает свою позицию, но исподволь помогает юношеству вырабатывать собственное мировоззрение, ненавязчиво передавая ему культурную память.
В этом контексте учитель математики, он же классный руководитель, читающий своим воспитанникам в походе классические стихи у ночного костра, расширяет мировоззренческий горизонт учеников, собственной персоной являя им пример искреннего стремления к полноте жизни, не сводимой к утилитарному существованию только в рамках избранной специальности. При этом надо отдавать себе отчет в том, что слушают эти стихи молодые люди, принадлежащие к новому поколению, зачастую не знакомому с культурным контекстом, вне которого адекватное восприятие классических текстов невозможно. Следовательно – комментарии и пояснения неизбежны.
В той же роли классного руководителя педагог любой специальности проводит беседы и классные часы, посвященные памятным датам и государственным праздникам, осуществляя тем самым патриотическое воспитание. Безусловно, в нашей истории немало славных страниц, которые способны пробудить у молодого поколения чувство гордости за свое Отечество. Но патриотизм имеет еще одну неотъемлемую сторону, о которой в последнее время мы, к сожалению, забываем. Об этой стороне патриотизма замечательно сказал польский общественный деятель и публицист Адам Михнек: «Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа». (Подробнее об этом – в главе «Понимание истории – вопрос научной совести».) Помимо историзма, для укрепления веры педагога в свою миссию в культуре, для противостояния нарастающему хаосу и агрессии сегодня, как никогда прежде, требуется мобилизация всех культурных ресурсов. Поэтому педагогика призвана пересекать границы разных дисциплин, объединять различные дисциплинарные подходы и тем самым расширять круг своих источников.
Поверх барьеров: мультидисциплинарный подход
Убежден в том, что по своей природе педагогика – дама полигамная, ибо вынуждена вступать в тесные связи с медициной, биологией, генетикой, психологией, дефектологией, социологией и далее по списку комплекса всех наук о человеке, без опоры на которые она будет действовать вслепую. Поэтому столь актуальной становится задача – поднять педагогику на новый уровень междисциплинарной интеграции. Без ее решения сегодня невозможно организовать даже традиционный учебный процесс, поскольку при передаче знаний неизбежно приходится учитывать состояние здоровья и психики учащихся, реальные учебные возможности конкретных детей.
Еще большее значение междисциплинарная интеграция приобретает для решения проблем более высокого уровня, когда речь идет о формировании мировоззрения юношества, находящегося на перекрестке открытых вопросов. Здесь по необходимости педагогика приобретает черты прикладной антропологии, философии и культурологии.
Первым осознал и сформулировал понимание педагогики как прикладной философии замечательный русский педагог С.И. Гессен еще в начале двадцатого века в своей работе «Основы педагогики. Введение в прикладную философию» (М.: «Школа пресс», 1995). Он справедливо указывал, что всякая педагогическая система – даже там, где она выдает себя за чисто эмпирическую науку, – есть приложение к жизни философских воззрений ее автора. Однако понимание того, что решение даже частных прикладных инструментальных вопросов обучения и воспитания, на которых преимущественно сосредоточены усилия педагогов, невозможно вне фундаментальных мировоззренческих подходов, так и не наступило. Мы по-прежнему «за деревьями не видим леса».
Между тем, во всем мире в исследованиях феноменов культуры сегодня широко используется междисциплинарный подход. Отсюда следует, что для более полной ориентации в культурном пространстве прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего педагогика неизбежно должна расширять круг своих источников. К ним с полным правом можно отнести: дневники и автобиографии, семейные архивы и музеи, фольклор, включающий лагерное арго и молодежный сленг, язык Интернета и модные тенденции в музыке, одежде и кинематографе. Для чего стародавней педагогике, ведущей свое существование с незапамятных времен, такое дополнительное обременение? Говоря современным языком, для налаживания коммуникации с той реальной средой, в которой сегодня существует и действует учитель. А выражаясь более резко, для того чтобы не впасть в педагогическую деменцию.
Чтобы подняться на новый уровень междисциплинарной интеграции, одного интеллектуального посыла недостаточно – требуется мощное эмоциональное включение. Педагогика – занятие коллективное, но надеяться на массовое прозрение не приходится. Как справедливо замечает А. Эткинд:
«На деле коллективы не могут чувствовать вину или печаль; на это способны только индивиды. У последних, однако, есть возможность передать свои чувства другим людям. Инструменты для этого дает культура, позволяющая людям обмениваться опытом и передавать его»[4].
Ярко выраженный индивидуальный эмоциональный окрас педагогики non-fiction задает стилистику этой книги и одновременно является обоснованием ее жанра.
Педагогика переживания
Существуют два рукава одной педагогической реки: строго (иногда излишне) научная педагогика с ее понятиями, категориями и закономерностями и педагогика художественно-публицистическая. На первый поверхностный взгляд различие обеих педагогик заключается в манере и стилистике изложения педагогических взглядов, что в свою очередь определяется художественным даром одних авторов и научной скрупулезностью других. Сравнивать их, а тем более противопоставлять, не имеет смысла, ибо это сродни некорректному риторическому вопросу: какой способ познания мира и человека является истинным – художественный или научный? Тем не менее, проблема остается и нуждается в осмыслении.
Периодически эти два рукава сливаются в единый поток. Руссо, Толстой, Макаренко и Сухомлинский вошли в историю педагогики как авторы философских художественно-публицистических произведений. Но на материале их художественного творчества защищены сотни научных диссертаций. Таким образом, между обеими педагогиками не существует непроницаемой стены. Различие же между ними, на мой взгляд, проявляется в методах постижения педагогической действительности, среди которых достойное место занимает метафора.
Использование метафор в сфере образования для понимания и конструирования педагогических явлений все больше привлекает внимание исследователей. М.В. Кларин рассматривает метафору как гносеологический инструмент, средство познания, в отличие от традиционного понимания метафоры как одного из средств поэтического мышления и языка[5]. В метафорическом способе осмысления педагогической реальности заключается несомненное достоинство художественной педагогики. Она не так технологична, как научная, но зато более ориентирована на глубинные ценности и смыслы образования.
Да, художественное осмысление жизни всегда субъективно. Однако субъективность в гуманитарных исследованиях не только неизбежна и принципиально неустранима, но является дополнительным источником познания, а самое главное, она позволяет среди всех прочих проблем выделить ключевые – те, без решения которых невозможно в конечном итоге рассчитывать на успех даже в сугубо технологических прикладных сферах педагогической деятельности.
В основе же подлинной педагогики, равно как и серьезного художественного творчества, как правило, лежит фундаментальное переживание.
Немецко-американский философ Ганс Йонас в своей программной статье «Наука как персональный опыт» признается:
«Теперь уже не удовольствие, доставляемое познанием, но страх перед грядущим или же страх за человека становится здесь основным мотивом мышления, и оно само делается здесь деянием уже именно ответственности, понятие которой в нем разрабатывается и сообщается»[6].
Именно страх за человека – тот ведущий мотив педагогического творчества, который не позволяет сегодня думающему, совестливому педагогу получать удовлетворение от решения только частных прикладных вопросов обучения. Известная когнитивная эмоция – радость познания – не исчезает совсем, но, наряду с ней, возникает творческая энергия сострадания и боли.
Углубление переживания, таким образом, выступает в двух своих ипостасях: как эмоциональный стимул научно-педагогической деятельности и, вместе с тем, как особый способ познания, синтезирующий научное и художественное творчество. Педагогика переживания вмещает в себя и рациональную логику научного исследования, позволяющую получить беспристрастный анализ или, выражаясь медицинским языком, диагноз реальности, который может быть совсем не радостным. Но что толку в пессимистических констатациях, если мы не пытаемся найти выход из создавшегося положения. Попытки же эти даются огромным напряжением не только интеллектуальных, но, в первую очередь, нравственных сил, побуждающих человека и педагога действовать иногда даже вопреки здравому смыслу с минимальной надеждой на успех.
«Основания для скепсиса имеются, однако права на фатализм, который был бы в данном случае самоисполняющимся, нет абсолютно никакого. Знание никогда не должно отказывать в шансах самому себе. При всей неуверенности оно должно исполнять свой долг»[7].
Да, в человеческой истории бывают такие мрачные периоды, когда культура «проседает», происходит срыв в бездну нового варварства, где высвобождаются первобытные пещерные инстинкты человека. Но и тогда люди культуры не имеют право на капитуляцию.
В конце концов, миф о Сизифе можно рассматривать не только в пессимистическом ключе наказания героя бессмысленным трудом, но как метафору, отражающую суть существования культуры. Каждый раз при очередном обвале начинать все сначала, мобилизуя все имеющиеся культурные ресурсы, – иного пути нет у человека культуры, будь он художником, кабинетным ученым или педагогом-практиком. Вне зависимости от рода занятий, как уже неоднократно отмечалось выше, ведущим мотивом деятельности является принцип ответственности, окрашенный глубоким личным переживанием.
В истории были, есть и всегда будут люди, чье творчество, жизнь и судьба являются невидимым противовесом (метафора Г. Померанца) хаосу, абсурду, ценностной дезориентации. О таких людях – некоторых из них я считаю своими Учителями – также пойдет разговор в этой книге. Что придавало им силы сохранять человеческий облик в нечеловеческих обстоятельствах? Внутренняя свобода и страх за человека!
Уроки их жизни позволяют внятно сформулировать центральную задачу воспитания. Главная сокровенная цель воспитания человека – это расширение пространства его внутренней духовной свободы, позволяющей сохранять человеческое достоинство даже в трагических обстоятельствах, в людоедских сообществах у последней черты. Все остальное – лишь производные от этой педагогической сверхзадачи.
Ищу Учителя
Мудрец Диоген шокировал сограждан, когда средь бела дня проходил по улицам города с горящим факелом, возглашая: ищу человека! Обыватели, как водится, крутили пальцем у виска, насмехаясь над чудаковатым философом. Спустя тысячелетия поиск Человека, судя по всему, не утерял актуальности. И невдомек было согражданам философа, что по улицам полиса проходил Учитель, призыв которого не был услышан и понят современниками. Вечная история, из которой стоит извлечь уроки.
В силу специфики профессии я всю свою сознательную жизнь ищу Учителей. Для кого? Прежде всего, для себя самого и лишь затем, в качестве директора школы, для своих учеников. Почему в такой эгоистичной последовательности?
Во-первых, потому что в духовной сфере трудно и даже невозможно передать ребенку то, чем не владеешь сам. Вчерашний раб не может воспитать свободного человека. А все мы родом из советского детства с полученной там родовой травмой, в результате которой приходится выдавливать из себя раба не по капле, как советовал А.П. Чехов, а ведрами.
В такой ситуации крайне важно видеть перед собой образы людей, чьи мысли не расходятся с поступками. Невольно стремишься подтягивать себя до их уровня, для чего неизбежно приходится напрягаться, вставая на цыпочки. Возникает неодолимое желание соответствовать их ясным, твердым представлениям о порядочности и достоинстве личности.
Но самое главное – это то, что «они умеют стоять ни на чем». Как в дивной сказке М. Энде из книги «Зеркало в зеркале». Человек уютно устроился на диске с горами, реками, лесами. Диск вращается в полусфере, вроде планетария, украшенного звездами и луной. Но вдруг небесный свод треснул и сквозь трещину глянула бездна. В бездне, ни на что не опираясь, стоит закутанная человеческая фигура, чем-то напоминающая Христа. И этот человек ни на чем зовет: «Иди ко мне!». «Я упаду, – отвечает человек на диске. – Ты – обманщик, зовешь меня в пропасть!» Трещина за трещиной, весь мир человека разваливается. Человек цепляется за обломки, а закутанный зовет его: «Учись падать. Учись падать и держаться ни на чем, как звезды».
Все мы, стремясь удержать почву под ногами, в той или иной мере держимся за осколки идеологий, мифов, своих привычных представлений, страшась самостояния. Держаться ни на чем означает ощущать себя членом Царства Духа. (О чем писал С.И. Гессен.) Конкретное воплощение такой силы Духа мы находим в деятельности сотрудников Эрмитажа в период блокады Ленинграда. Они продолжали водить экскурсии по залам музея, подробно рассказывая о шедеврах, несмотря на то, что картины были вывезены и на стенах весели только рамы. При этом и искусствоведы, и посетители едва держались на ногах, превозмогая голод.
И еще. У подлинных Учителей отсутствуют рисовка, поза. Они никого не подавляют своей значительностью, не навязывают собеседнику собственных воззрений, не спешат осудить ошибочное суждение. Никогда не унижают оппонента, выставляя его в невыгодном свете, демонстрируя свое интеллектуальное превосходство. Для них «стиль полемики важнее предмета полемики» (Г. Померанц). Поэтому встречи и беседы с ними приносят невероятное интеллектуальное наслаждение. Мало кто из них получает широкое признание при жизни. Это о них, своих богах, своих педагогах, сказал поэт: «Орденов не дождались они – сразу памятники получают» (Б. Слуцкий).
Намного опережая свою эпоху, творцы невольно оказываются в одиночестве, которое стремятся преодолеть. Поэтому Диоген и не усидел в своей бочке, отправившись бродить по городу. Не популярности ищут они, а понимания.
Да, круг таких людей узок, но его можно и нужно расширять, взрыхляя почву, подготавливая людей к восприятию тех фундаментальных идей, которые не лежат на поверхности и потому для усвоения требуют напряженного сокровенного труда ума и сердца. Только глубоко усвоенная мысль может заставить не только иначе думать, но и иначе жить.
В этой подготовительной работе крайне важна фигура посредника, в качестве которого, по сути дела, выступает педагог. Посредник – переводчик с языка культуры – уважаемая и центральная роль в образовании.
Не все люди наделены талантом в равной мере. Встать вровень с гением – задача нереальная. Не беда. У каждого мастера могут быть свои подмастерья.
Однажды в беседе с Г.С. Померанцем я искренне выразил свое восхищение его эрудицией и глубиной мышления. Мастер улыбнулся и ответил метафорой. «Лестница Якова высока, но с каждой ступени видны звезды». В переводе на педагогический язык это означало: вы смотрите снизу вверх на меня, на вас – учителя вашей школы, а на них – их ученики. Так емкая метафора мгновенно обнажила заложенную в ней идею, указала ценностный ориентир и сформировала вдохновляющую мотивацию, необходимую для движения к поставленной цели. – Еще одно доказательство значения и роли метафоры для перевода с языка культуры.
В конце концов, педагогика non-fiction – тоже всего лишь метафора, призванная повернуть педагога лицом к реальной жизни. А по большому счету, в книге речь пойдет о культурно-исторической педагогике.
И последнее предварительное пояснение, которое, надеюсь, поможет читателю погрузиться в проблематику книги. Обсуждение фундаментальных вопросов культуры может показаться ему далеким, оторванным от текущих злободневных проблем, которые приходится решать в процессе ежедневной педагогической деятельности. Но это далеко не так.
Почувствовать и осознать то, как сквозь тонкую ткань повседневных коллизий неизбежно просвечивают открытые вопросы, помогут разделы «Пореформенная мозаика», которые представлены после концептуальных глав книги. В них содержатся наблюдения и зарисовки, как раз позволяющие «за деревьями увидеть лес».
Глава II
Сторонники и противники прогресса
Этюды оптимизма: век нынешний и век минувший
Более ста лет тому назад увидела свет книга замечательного русского физиолога И.И. Мечникова «Этюды оптимизма». Чрезвычайно любопытно, подводя итоги истекшего столетия, обратиться к ней сегодня. Что провидел он в будущем, на что уповал и надеялся, в чем черпал источники своего неуемного оптимизма?
Будучи выдающимся естествоиспытателем, Илья Ильич естественным образом разделял веру в торжество разума, основанного на положительных знаниях и научном прогрессе, а рецепты счастья искал в «биологическом мировоззрении». Рациональное питание, борьба с кишечной палочкой, замена кефира кислым молоком, выдающаяся роль гигиены – все это, по его мнению, в грядущем веке должно было привести к продлению жизни, сохранению сил и способностей, а в итоге – к тихому безболезненному угасанию с ощущением блаженства. Такое вот счастье! А вдобавок еще и значительная государственная экономия:
«Когда приводящие к старости причины, такие, как невоздержанность и болезни, будут уменьшены или устранены, то не будет никакой надобности назначать пенсии лицам, достигшим 60–70 лет. Расходы на общественное призрение стариков, вместо того чтобы возрастать, будут прогрессивно уменьшаться»[8].
Более сильного прагматического аргумента в пользу здорового образа жизни, пожалуй, не найти. Однако не стоит иронизировать по поводу взглядов, высказанных более ста лет тому назад. Они принадлежат крупному ученому, дважды бывшему на грани добровольного ухода из жизни, неоднократно ставившему на себе самом смертельно опасные научные эксперименты. А не оправдавшийся прогноз – с кем ни бывает.
Тем не менее, есть один принципиальный вопрос, обостренный до предела всей историей двадцатого века. Для его прояснения придется воспользоваться обширной цитатой из книги И.И. Мечникова:
«Так как несомненно, что с прогрессом цивилизации великие бедствия человечества должны будут уменьшиться, а быть может, даже и вовсе исчезнут, то и жертвы, направленные против них, так же должны будут уменьшиться. Так геройство врачей, в былое время шедших ухаживать за чумными, сделалось теперь гораздо более редким, с тех пор как в противочумной сыворотке мы имеем верное предохранительное средство от этого бича… <..>
Самопожертвование при тушении пожаров сделалось более редким с тех пор, как стали строить более огнеупорные здания и усовершенствовали способ борьбы против огня.
Изобретение беспроволочного телеграфа, уменьшив опасность от кораблекрушений, тем самым устранило необходимость самопожертвования при спасении рискующих утонуть. Можно надеяться, что пример необыкновенного героизма, обнаруженного некоторыми пассажирами при гибели парохода „Titanic“, не возобновится более ввиду усовершенствований кораблестроения и мореплавания, сделанных после этой ужасной катастрофы.
Давно уже стал излишним героизм, поднявший руку Авраама для жертвоприношения единственного сына во имя веры. Человеческие жертвы, требовавшие проявления высочайшей нравственности, становятся все реже и, вероятно, в конце концов совсем исчезнут.
Рациональная нравственность, преклоняясь перед таким поведением, может, однако, более не считаться с ним…»[9] (Выделено мной. – Е.Я.)
Если бы так. К сожалению, двадцатый век потребовал несметное количество героических жертв даже не во имя проявления высочайшей нравственности, а просто ради сохранения элементарной порядочности. После всего случившегося не считаться с таким поведением невозможно. Почти религиозная вера в прогресс, обеспеченный поступательным развитием науки и техники, упование на светлое будущее, которое неизбежно наступит в силу рационализации жизни и морали, (!) – эти источники избыточного оптимизма в истекшем столетии иссякли, оказавшись опровергнутыми всем ходом истории.
Увы, никому в мире ни до, ни после И.И. Мечникова еще не удавалось найти рациональное обоснование нравственности. Таким образом, весь последующий ход событий привел к диаметрально противоположному выводу: одновременно с бурным развитием цивилизации нравственные проблемы не только не исчезают, но, напротив, приумножаются и углубляются. Именно от их творческого решения зависит сегодня судьба человечества, вплоть до его физического сохранения. Такое положение, в свою очередь, приводит к многократному усложнению воспитательных задач. Казалось бы, сказанное столь очевидно, что не нуждается в обстоятельном разъяснении. Но, несмотря на пугающие реалии истекшего и наступившего столетий, инерция рационализма, заданная позапрошлым веком, продолжает действовать и поныне, определяя образовательную стратегию.
Между тем, огнеупорные здания продолжают гореть, лайнеры, оснащенные современными навигационными средствами, тонуть, атомные реакторы взрываться, самолеты падать. При анализе причин большинства техногенных катастроф на первое место выходит так называемый человеческий фактор. В переводе с технократического на педагогический язык фактор этот можно назвать незавершенностью развития личности в результате ее по-прежнему одностороннего, преимущественно технократического, узкопрагматического воспитания. На словах это, разумеется, признается, но на деле никак не влияет на изменение вектора развития образования. Отчего так? Объяснять это только инерцией, глубоко укоренившейся традицией, косностью и умственной ленью педагогов – значит упустить из вида очень глубокую, едва ли не ментальную, педагогическую эмоцию, окрашивающую смысл, ценность и цели педагогической деятельности. Имя ей – вера в просвещение. Она-то и оказалась подорванной в двадцатом веке.
Наиболее беспощадно в середине прошлого века эту мысль выразил прошедший все круги ада писатель Варлам Шаламов:
«Время показало, что так называемая цивилизация – очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растление в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы – главная задача искусства, философии, политических учений»[10].
Прямо из недр Третьего рейха В. Шаламову вторит В. Клемперер, которого постоянно мучила и приводила в отчаяние мысль об осязаемой связи преступной сущности нацизма с прежним духовным богатством Германии:
«Тогда впервые меня осенило, что все самое лучшее и самое худшее в немецком характере все же следует возводить к общей и неотъемлемой основной черте, что существует связь между зверством гитлеровского режима и фаустовскими взлетами немецкой классической поэзии и немецкой классической философии»[11].
Этой ключевой чертой немецкого характера В. Клемперер считает отсутствие во всем меры:
«„Беспредельность“ (Entgrenzung) – это ключевая установка, ключевое свойство романтического человека, в каких бы конкретных формах ни выражалась его романтическая сущность – в религиозных исканиях, в художественных образах, в философствовании, в жизненной актуальности, в нравственных поступках и преступлениях»[12].
Согласитесь, при таком понятном (после всего случившегося в XX веке) пессимистическом взгляде на роль культуры в целом (следовательно, и на усилия образования) в совершенствовании человека любые педагогические старания теряют всякий смысл. Но с подобным настроением в нашей профессии не проживешь. Отсутствие оптимизма для нее убийственно, как принято говорить в последнее время – контрпродуктивно. Что толку впадать в мировую скорбь, констатируя непоправимость ситуации? Вот почему наше сознание, отгоняя от себя неприятные, парализующие волю мысли, так цепляется за привычные, все те же старые (времен И.И. Мечникова) прагматические позитивистские начала педагогического оптимизма: веру в конечное торжество разума, поклонение техническому прогрессу, иллюзию построения морали и жизни исключительно на рациональных основаниях.
Необходимостью «делать дело» объясняется инерция рационализма, доминирующая в современном образовании, нацеленном, прежде всего, на информационное накопление и получение прагматических результатов. При таком прагматическом подходе открытыми вопросами философской этики можно легко пренебречь.
На Западе мы наблюдаем ту же картину. Шок, вызванный Холокостом, породил кризис веры в просвещенческую парадигму, воплотившийся в крылатой фразе Теодора Адорно: невозможно писать стихи после Освенцима.
Что отнюдь не помешало известному американскому психологу Б.Ф. Скиннеру сразу после войны выражать уверенность в торжестве прогресса и предлагать идеальные модели обучения.
Известно, что модели обучения несут в себе контуры образов будущего. Базовая технологическая модель обучения Б.Ф. Скиннера несла в себе образ будущей «школы-машины» как социально-образовательного механизма. Создатель и выразитель «технологии педагогических методов» выступил как писатель-фантаст и социальный мыслитель, опубликовав роман «Уолден-2» (1948), в котором представил свой идеал нового справедливого социального устройства – счастливое утопическое общество будущего, где методы «модификации поведения» позволяют людям чувствовать себя довольными и счастливыми.
Скиннер полемично сопоставил название своего романа со знаменитым произведением американской и мировой литературы – романом Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), в котором воплощена идея отказа от суеты цивилизации, опоры на собственный труд ради уединения и созерцательной близости к природе.
Книга Скиннера перекликается по духу с социалистическими идеалами Н.Г. Чернышевского в романе «Что делать?» (1863). По иронии судьбы, роман Скиннера вышел в то время, когда Дж. Оруэлл заканчивал свой антиутопический роман «1984» (издан в 1949 г.), в котором описан кошмар общества тотального контроля над человеком.
В книге «По ту сторону свободы и достоинства» (1971) Б.Ф. Скиннер последовательно развил идею о том, что представления о свободе и достоинстве – это ложные порождения человеческой фантазии, которые мешают построить по-настоящему счастливое жизнеустройство; моделированию и управлению в человеческом поведении поддается всё, даже непредсказуемые «движения души». Здесь Б.Ф. Скиннер впрямую спорит с идеей Ф.М. Достоевского о непредсказуемости человеческой природы и неуправляемости человека, по сути, продолжая полемику, начатую в общественной жизни России 1860-х годов.
Машина времени Скиннера движется в будущее полного контроля. Ошибочно полагать, считал он, что вся проблема в том, как освободить человека. Проблема в том, как улучшить способы контроля над ним.
Радостное будущее, основанное на правильном жизнеустройстве, воодушевляло и А.К. Гастева. Его идеал – механически точно выверенное обучение, построенное на механических шаблонах-«направителях», которые соответствовали бы образам разумного социалистического рая. К нему и должна была привести идеальная технологическая машина обучения, создаваемая Центральным институтом труда.
Наступившее новое тысячелетие продолжает наносить сокрушительные удары по адептам технического прогресса. 11 сентября 2001 года и Беслан – тому неоспоримые примеры. Но и эти грозные доказательства, свидетельствующие о том, что от открытых вопросов невозможно отмахнуться, не мешают рисовать радужные сценарии будущего. Вот один из новейших оптимистических прогнозов, подготовленный аналитиками компании «Volva»:
2019 г. – бионический глаз вернет слепым зрение;
2020 г. – люди перестанут гибнуть в автокатастрофах;
2023 г. – появятся протезы для памяти;
2025 г. – 3D принтеры заменят авиаперевозки;
2029 г. – машины научатся думать;
2035 г. – беспилотные автомобили захватят рынок.
Такие вот обнадеживающие прогнозы. Разумеется, не все разделяют веру во всесилие науки. Философ, врач, подвижник, четверть века лечивший аборигенов в джунглях Центральной Африки, А. Швейцер писал: «Мое знание пессимистично, но моя вера оптимистична».
Кризис сциентизма с его изначальной верой во всемогущество научно-технического прогресса афористично, с присущей ему едкой иронией выразил И. Губерман:
- Дорога к истине заказана не понимающим того,
- Что суть не только выше разума, но вне возможностей его.
- Толпа естествоиспытателей на тайны жизни пялит взоры,
- А жизнь их шлет к… матери сквозь их могучие приборы[13].
Значит ли это, что правы те, кто призывает притормозить прогресс, а в деле воспитания детей и юношества опереться на традиционные ценности? О горьких плодах просвещения в Отечестве нашем размышляют не первое столетие. Поэтому аргументы противников прогресса, устраивают они нас или нет, заслуживают рассмотрения, хотя бы потому, что они избавляют от избыточного педагогического романтизма.
Горькие плоды просвещения
С появлением на свет ребенка каждый взрослый человек неизбежно сталкивается с педагогическими проблемами. Решает он их чаще всего на уровне здравого смысла и детских впечатлений, воспроизводя по отношению к собственному чаду поведенческие реакции своих родителей, а также бабушек и дедушек, которые традиционно выполняют у нас роль семейного МЧС, приходя на помощь неискушенным молодым парам.
Поначалу, пока речь идет о вскармливании и выхаживании, этот освященный традициями подход срабатывает, но по мере взросления ребенка все больше обнажается разрыв в представлении разных поколений о стиле и методах воспитания. Развитая индустрия обслуживания раннего детства меняет образ жизни родителей, диктует иное свободное поведение. Современная молодая женщина уже не чувствует себя обязанной уйти в затвор минимум на три года, отдав на этот период всю себя без остатка ребенку. Зачем лишаться простых радостей: посещения театров, выставок и кафе, когда малыш преспокойно дремлет за спиной у мамы в рюкзачке, пока она получает удовольствие на очередном вернисаже? Удобная переносная люлька при молчаливом осуждении бабушек и дедушек торжественно водружается на свободный стул в шумном ресторане, где все семейство, включая недавно появившегося на свет нового члена, весело проводит праздничный вечер. Налицо явный прогресс с сопутствующими ему материальными удобствами и психологическим комфортом. Свобода родителей – залог свободного воспитания ребенка? Со стороны это так и выглядит.
Но не будем спешить с выводами. Внешние атрибуты меняющейся жизни не так быстро, а главное – не столь глубоко проникают в сознание. По мере возмужания ребенка и параллельного взросления его родителей проступают до боли знакомые черты «бабушкиной» педагогики, по сути своей авторитарной и охранительной, что отчасти объяснимо возросшими угрозами, которые несет детям современная цивилизация. Недаром при выборе для своего ребенка школы на одно из первых мест родители выдвигают фактор безопасности. Наркотики, СПИД, школьное насилие со стороны педагогов или сверстников, компьютерная зависимость – вот далеко не полный перечень опасностей, подстерегающих сегодня неокрепшие детские тела и души. При таких рисках вполне понятно инстинктивное влечение людей к педагогическому традиционализму, которое лишь отражает одну из причин роста фундаментализма в общественном сознании. В свою очередь, антизападная риторика средств массовой информации подогревает эти настроения, окрашенные двумя красками: печалью об упадке нравов и твердой уверенностью в том, что, опираясь на традиционные ценности, мы найдем свой особый путь выхода из нравственного кризиса, который затем укажем всему человечеству.
Бегство от свободы – так в своем классическом труде определил Э. Фромм тот сдвиг в индивидуальном и общественном сознании, свидетелем которого мы в очередной раз являемся. Ситуация действительно не нова.
В отечественной истории каждый раз, как только страна вступала на путь модернизации, немедленно раздавались голоса об утрате нравственности и национальной идентичности. Достаточно вспомнить потаенное сочинение М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России». Он не был одинок: критику петровских реформ с позиций «старинной нравственности» разделяли такие известные деятели, как И.В. Лопухин, Н.И. и П.И. Панины, Д.И. Фонвизин. Все они мечтали о движении к будущему «через прошлое», о реставрации патриархальной нравственности и старинных институтов, ее поддерживавших.
В эпоху реформ Александра II подобные взгляды отстаивали М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой. Вскоре после трагических событий 1 марта 1881 года М.Н. Катков призывал постом и молитвой искупить нашу вину по отношению к воспитанию настоящего поколения:
«Не будем самообольщаться, не будем сваливать всю вину на ничтожную кучку ошалелых мальчишек; виноваты они, но еще более виноваты мы. Мальчишки – это наши дети, и не только по плоти, но и по духу, и что бы мы ни говорили, нам не отвертеться от правдивого укора. Мы вскормили эту среду, среди нас она взросла, мы ее поддержали нашей дешевой насмешкой, легкомыслием, детским отношением ко всем основам общественной жизни; мы сами в ослеплении помогли расшатать один за другим все нравственные устои общежития. Говорили ли мы с нашими детьми языком искренним, правдивым, твердым, как прилично взрослым, опытным людям? Были ли мы авторитетными руководителями нашей молодежи? К стыду нашему должно признаться, что мы оставили наших детей на произвол всяких веяний и нашим молчанием давали этим вздорным веяниям укорениться; хуже того: мы часто лицемерно одобряли нелепости, гаерствовали заодно с мальчишками, рукоплескали нравственной и умственной разнузданности. Могли ли мы при таком положении сохранить свой законный авторитет? Естественно, нет; мы выпустили его из рук, и он перешел к болтунам, фразерам, якобы несущим нам последнее слово науки и прогресса; и чем менее смысла и нравственного достоинства имело это слово, тем казалось оно истиннее, патентованнее. Гоняясь за разными видами либерализма, не понимая сущности свободы, мы попали в рабство, и притом в самый худший из видов его – в духовное рабство со всеми его последствиями»[14].
Приведенные выше высказывания, принадлежащие издателю «Московских новостей» и «Русского вестника», выглядят так, как будто взяты из обзора некоторых современных изданий или выступлений иерархов РПЦ, призывающих в деле воспитания подрастающего поколения бороться с «чужемыслием» и «зломыслием».
Все эти деятели, бичевавшие пороки своей эпохи, писавшие об изгнанной добродетели, идеализирующие старину, не были людьми темными, невежественными. Думать так было бы непростительным упрощением. В 1770-х годах критик российского прогресса М.М. Щербатов задавался вопросом: «Во сколько бы лет, при благополучных обстоятельствах, могла Россия сама собой, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы», и выходило, что вместо сорока петровских лет понадобилось бы двести десять и страна лишь в 1892 году достигла бы петровских результатов, если б «не помешали внешние обстоятельства»[15].
А тот самый К.П. Победоносцев, который по слову А. Блока «над Россией простер совиные крыла», издавал журнал «Новая школа», где освещались самые передовые для того времени западные педагогические системы. Признавая их неприменимыми для России, он, тем не менее, считал необходимым ознакомить с ними специалистов-педагогов.
Разумеется, консервативная традиция, в очередной раз набирающая силу, опирается, в первую очередь, на заветную вековую мечту правящей российской элиты (в каком бы веке она ни действовала): попытаться как-то сочетать технологические выгоды просвещения, позволяющие не отстать от Европы, с рабством в экономике и политике. Но есть и другая, психологически важная сторона, оправдывающая в глазах людей охранительные старания власти. Плоды просвещения действительно имеют горький привкус. «Повреждение нравов» неизменно сопутствует прогрессу.
Извечный вопрос о моральных издержках прогресса особенно остро встает в традиционных обществах, для которых Запад стал символом разрушения духовной иерархии. Неслучайно некоторые специалисты называют Иранскую революцию 1979 года «антипорнографической». При достаточно приличных показателях экономического развития страны, ориентированной на Запад, произошел взрыв. Мусульманское сознание было возмущено стремительной экспансией пошлой космополитической цивилизации. И выбор между секс-шопом и паранджой был сделан в пользу паранджи.
Нет нужды идеализировать Западную цивилизацию с ее свободой чувственных наслаждений, неизменно срывающейся в своеволие. О мировоззренческой бездомности западного человека, его духовном кризисе, произошедшем вследствие разрушения ценностной вертикали, размышляют сегодня классики современной литературы: Майкл Канингем («Дом на краю света»), Филип Рот («Американская пастораль»), лауреат Нобелевской премии Дж. М. Кутзее («Железный век»). Их беспощадный анализ трагедии экзистенциального вакуума (смыслоутраты), которую болезненно переживает Запад, не идет ни в какое сравнение с поверхностной антизападной риторикой наших традиционалистов. Погружаться в эти тексты страшно, от них веет апокалипсисом. (Подробней об этом – в главе «Литература non-fiction как педагогический источник».)
Между тем, выбор между паранджой и секс-шопом – ложная альтернатива. Мы все-таки должны трезво оценивать то обстоятельство, что, однажды открыв Америку, ее уже нельзя закрыть, иными словами, невозможно отгородиться от тенденций мирового развития со всеми их плюсами и минусами.
Но, с другой стороны, следует признать, что просвещенческая парадигма, восходящая к семнадцатому веку, по большому счету провалилась, а человечество, по слову Бердяева, по-прежнему находится в двух шагах от варварства. Где же выход?
Это и есть главный открытый вопрос, который затрагивает образование. И не просто затрагивает, а задевает его главный нерв, ибо всеобщий разброд в умах и смута в сердцах зачастую ставят педагога в отчаянное положение, заставляя его в своей практической деятельности решать, казалось бы, отвлеченные, а на самом деле насущные культурологические проблемы. Ибо от ответа на этот открытый вопрос зависит отбор содержания образования и педагогических технологий и, что еще важнее, – выбор приоритетов в воспитании детей и юношества.
Глава III
Битва на культурологическом Олимпе
Как слово наше отзовется?
К сожалению, ответ на этот вопрос учителю приходится искать в накаленной общественно-политической атмосфере, в которой просматриваются две непримиримые позиции.
Позиция первая.
Во имя сохранения идентичности необходимо всеми силами сохранять и преумножать накопленные веками отечественные культурные достижения. Что толку включаться в общую гонку за лидерами мировой экономики, коль скоро Западная цивилизация, основанная на культе потребления, трещит по швам? Отсюда – спрос на концепцию особого пути, прочерченного величественной исторической традицией. Таким образом, первая позиция опирается на носителей традиционного сознания. К ней сегодня склоняются немало педагогов, что вполне естественно, поскольку одна из их главных профессиональных задач состоит именно в передаче традиций вступающим в жизнь поколениям. Фундаменталисты различного толка (от евразийцев до православных сталинистов) предлагают дать отпор Западу с его потерпевшими фиаско цивилизационными приспособлениями: мультикультурализмом и политкорректностью. Философ А. Дугин настаивает на том, что Россия во все времена обречена примериваться к великой роли, поэтому ее судьбой управляет рок: либо великая, либо никакая.
Позиция вторая.
Подлинная модернизация невозможна без изменения взглядов людей на мир и на самих себя, без освоения ими новых передовых практик. Для сторонников модернизации очевидно, что традиционная российская культура критически утратила свою эффективность, она превращается в фактор, снижающий конкурентный потенциал ее носителей. Следовательно, необходимо выбросить за борт корабля современности все, что мешает освоению нового. Такого рода лишним грузом объявляются русские народные сказки, в которых жизнь можно изменить не ценой собственных напряженных усилий, а по щучьему велению или по милости золотой рыбки. Таким же чемоданом без ручки, который нести неудобно, а выкинуть жалко, предстают многие идеи и образы русской классической литературы XIX века, поскольку они находятся в неразрешимом конфликте с окружающим современного человека миром. А раз так, то зачем молодому человеку весь этот багаж? Он лишь мешает ему, предлагая цели, ценности, критерии оценки и способы действия, неприложимые к реальности. Потому-то тинейджеры всеми силами сопротивляются знакомству с русской классикой. Сегодня, когда языком международного общения стал английский, сторонники модернизации призывают образование выйти, как они говорят, из гетто русского языка.
«Для трансформации культуры, критически неадекватной вызовам времени, придется ломать старую систему норм и ценностей. Иначе – уход российской цивилизации с исторической арены»[16].
Отсюда исходит стратегия разделения общества на людей вчерашних и сегодняшних. Вчерашним предлагается создать условия пристойного доживания. Сегодняшним – предоставить пространство саморазвития, дистанцированного от исчерпавшего себя исторического качества. Беспощадный вердикт, вычеркивающий едва ли не большую часть ныне действующих российских педагогов. Если даже признать его прагматическую целесообразность, возникает резонный вопрос: чьими силами модернизаторы собираются решать проблему трансформации ментальных основ молодежи или, попросту говоря, кем заменить учителей, отправленных на пристойное дожитие в обнимку с их устаревшим багажом норм и ценностей? Нет ответа.
Школа – не комбинат по предоставлению образовательных услуг потребителям, хотя именно такая трактовка места и роли образования сегодня внедряется в массовое сознание. Ее временно не закроешь на переучет ценностей. Педагог по определению – ведущий ребенка. Он постоянно должен ощущать безусловную ценность своей миссии и сокровенный смысл педагогического труда. Только такой подход к деятельности поднимает его в собственных глазах над рутинным существованием, не позволяет скатиться к ремесленничеству, в какие бы новейшие информационные и технологические формы оно ни облекалось. В силу специфики своей профессии, он не может отказаться от веры в рациональность и исторический прогресс. Однако, как уже отмечалось выше, эта вера оказалась подорвана.
Правда, тогда мы вынуждены признать, что та же участь постигла и религиозную парадигму. Разве почти две тысячи лет существования христианства спасли человечество от ужасов ГУЛАГа и Холокоста? Увы, многие, слишком многие из тех, кто до поры считал себя добропорядочным христианином или хотя бы культурным и образованным человеком, достаточно быстро и, что характерно, преимущественно добровольно превратились в палачей. (Подробнее об этом – в главе «Пусть долгим будет разговор».) Таких энтузиастов насильственного переустройства мира были не единицы, но миллионы! Только в СС в разное время служило до пяти миллионов человек. Наверняка среди них встречались отъявленные садисты, но отнести всех эсэсовцев без исключения к психопатологическим личностям невозможно. В большинстве своем это были рядовые обыватели, получившие среднее, а то и высшее образование, посещавшие по воскресеньям католические соборы или протестантские кирхи. Скорее, здесь уместно говорить о патологии культуры.
Неслучайно Ф. Бухман, основавший после войны движение «Теология после Освенцима», утверждал, что Холокост – это не столько еврейская, сколько христианская трагедия, ибо христиане ее допустили. А нидерландский адвокат Авель Херцберг, испытавший на себе ад нацистских лагерей, отвечая на вопрос слушательницы, что делать, чтобы наши дети снова не стали жертвами насилия, ответил: «Это неправильная постановка вопроса. Правильная: что делать, чтобы наши дети сами не стали палачами».
Все это – сложнейшие культурологические проблемы. Тем временем, пока высоколобые интеллектуалы ведут дискуссии на культурологическом Олимпе, учитель ежедневно входит в класс. Кто может помочь ему в решении насущных проблем?
Философы и культурологи – люди искушенные. Но здесь вступает в силу важное субъективное обстоятельство, затрудняющее уравновешенный подход учителя к решению открытых вопросов, на перекрестке которых он оказался, – беспощадный интеллектуализм научной элиты, включающей людей, безусловно, сведущих, оснащенных разнообразными инструментами анализа, но пренебрегающих сакраментальным вопросом: как слово наше отзовется? Абсолютная внутренняя свобода, беспристрастность оценок, мужество додумать мысль до конца, даже если выводы, к которым она приводит, не внушают оптимизма, – все эти качества подлинного ученого, наряду с железной логикой, не могут не вызывать уважения.
Но именно скрежет железа смущает более всего. Работая в своем дисциплинарном пространстве, решая проблемы общетеоретического уровня, культурологи зачастую пренебрегают такой «мелочью», как духовная жизнь конкретного человека. Отсюда их выводы, неизбежно окрашенные в багровые политические тона, часто звучат как окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. За каждой из высказанных позиций стоит своя логика, отражающая разные стороны духовной реальности. Возможно ли их совмещение, предполагающее преодоление страстной односторонности? (метафора Г.С. Померанца).
Диалогика – уход от конфронтации
Между тем, обе парадигмы – религиозная и просвещенческая – виноваты в нынешнем кризисе мировой цивилизации. Веками велись религиозные войны во имя разных символов веры. И сегодня мировая цивилизация сталкивается с террором во имя Бога справедливого. Личностный и социальный протест сотен миллионов представителей голодного большинства, созерцающего сладкую жизнь Запада, соединяется с религиозным изуверством, порождая изуверский ответ на кощунство.
Но в то же время обе парадигмы принесли и много полезного. Человечество в одинаковой степени нуждается как в просвещении, так и в сохранении духовной иерархии. Совмещения этих двух подходов, к сожалению, пока не происходит. Это грандиозная кросс-культурная задача, неразрешимая при жизни одного поколения. Попытки спастись от нравственного одичания, залечить цивилизационные травмы средствами народной медицины (по средневековым рецептам) обречены на провал. Нас нельзя отрезать от мира. Требуется интеллектуальное мужество, чтобы осознать реальное положение дел. И в первую очередь это необходимо сделать педагогам.
Яростный спор о путях развития Отечества, к которому, по сути дела, сводится весь массив обсуждаемых проблем, затрагивает глубинные эмоции людей. Логические доводы здесь чаще всего не работают, уступая место страстям. Страсти эти порождаются страхом утраты своего духовного центра, боязнью потерять содержание духовной жизни, пусть даже оно соткано из иллюзий, мифов и фантомов: религиозных, исторических, коммунистических, либеральных, демократических.
Современный российский педагог имеет дело не с чистой доской, с которой сравнивали сознание ребенка отцы-основатели парадигмы просвещения в XVIII столетии, но со всем спектром жизненных установок, ценностных ориентаций и чаяний, которые ребенок несет из семьи. Вполне вероятно, что в одном классе сегодня окажутся юные стихийные фундаменталисты и глобалисты, верующие (разных вероисповеданий) и атеисты, либералы и консерваторы, демократы и сторонники авторитарных способов построения светлого будущего. Проекции этих семейных установок будут неизбежно отражаться на усвоении учебного материала, приятии или отторжении предлагаемых преподавателем трактовок различных духовных и культурных феноменов. И что прикажете делать учителю: недрогнувшей рукой навязывать свою единственно правильную позицию? Но он и сам не инопланетянин, а значит, тоже захвачен страстями.
Игнорировать эту страстную односторонность опасно. Противоположности, вопреки утверждению Гегеля, не столько сходятся, сколько провоцируют друг друга, вдохновляя на истребительную войну до победного конца. Попытка резкого слома старой системы норм и ценностей на основе макрокультурологического подхода грозит породить еще более опасные эксцессы. В этом смысле прав питерский писатель А. Мелихов:
«Потребность чувствовать себя красивым и значительным – базовая черта всякого народа, а потому склонить какой угодно народ отказаться от какой угодно части его национального достояния совершенно невозможно без целых океанов лести. Обличать же и стыдить его дело не только бесполезное, но и просто опасное – ничего, кроме озлобленности, оно не приносит. Либеральные обличители национализма тоже бывают сеятелями или, по крайней мере, катализаторами фашизма. Отнестись рационально к своим землям, к своим преданиям для народа означало бы рассыпаться при первом же испытании (выделено мной. – Е.Я.) – не один рациональный аргумент ничего не может сказать о том, почему одна территория предпочтительней другой, один язык предпочтительней другого, один эпос предпочтительнее десятка других»[17].
Итак, назад в будущее под религиозными знаменами, конвертируя естественное сыновнее уважение в предписанное официальными идеологами умиленное обожание? Но не всё в прошлом заслуживает поклонения. Или безоглядная, как выражаются подростки, «движуха» вперед по магистральному пути прогресса, сулящего комфорт и процветание ценой потопления корабля истории и культуры?
Если не упускать из виду главный открытый вопрос – как предотвратить одичание человека, блокируя его пещерные инстинкты? – обе позиции представляются сомнительными. Да, к сожалению, нацистская политика уничтожения евреев находила отклик у многих людей, считавших себя христианами. Но было и другое: были миряне и священники как в самой Германии, так и в других странах, спасавшие евреев, прятавшие их, причем, помимо естественного нравственного чувства, у них присутствовало и осознание такого поведения как христианского долга.
