Мрамор и мирт. Эссе по америндейской антропологии
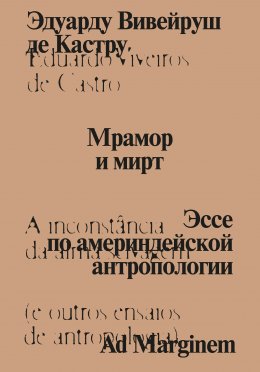
© Ubu Editora, 2017
© Eduardo Viveiros de Castro, 2002
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Издано при поддержке Фонда Национальной библиотеки Министерства культуры Бразилии и Института Гимарайнша Розы, Министерства иностранных дел Бразилии.
Вступление
Собранные в этой книге восемь эссе и интервью представляют собой исправленные и дополненные тексты, публиковавшиеся ранее. Все из них, кроме главы 1, были опубликованы в течение последних двадцати лет и, как правило, находятся в свободном доступе; главы 4, 5 и 6 основаны на текстах, написанных не по-португальски. Так что это вступление нужно для того, чтобы обосновать необходимость – или представить вескую причину – появления сборника, который впервые вышел в 2002 году в издательстве Cosac Naify, а теперь публикуется издательством Ubu в урезанном виде: глава «Шаманизм и жертвоприношение» перешла в другую мою книгу – «Каннибальские метафизики».
Я привык пользоваться любой возможностью усовершенствовать свои тексты, чтобы они не вошли в историю с кучей стилистических ошибок, ошибочных интерпретаций, зияющих лакун, а подчас и неприятных опечаток. Кроме того, всякий раз, когда я перечитываю свои работы, я чувствую, что мог бы лучше сказать то, что уже сказал (это чувство часто иллюзорно, но свои работы я перечитываю с огромным нетерпением). И в собранных здесь главах я пытался сделать именно это – чуть лучше высказать то, что уже говорил, и кое-что к этому добавить. Таким образом, эта книга представляет собой своеобразный оммаж esprit d`escalier, которому в той или иной степени все мы подвержены. Вот вам и веская причина.
Вторая причина, несколько более рациональная, состоит в том, что представленные ниже главы соединены общим стержнем, отвечают на одни и те же теоретические вопросы и развивают те же две-три этнографические догадки, над которыми я работал с самого начала своей практики. Основной причиной включения в книгу главы 1, которая основана на моей магистерской диссертации, написанной в 1976 году, было желание подчеркнуть эту непрерывность. Я долго думал над этим решением, поскольку количество исправлений, в которых нуждался этот текст, было действительно огромным, а условия исследований, на которых основываются исходные тексты, были совершенно неподходящими. Тем не менее в тех текстах уже содержались многие из идей, которые я развил пятнадцать-двадцать лет спустя. Поэтому я решил дать им второй шанс и переписать их набело.
Ни одна из глав этой книги не воспроизводит исходных текстов буквально, за исключением интервью журналу Sexta Feira (но и в нем я сделал несколько пунктуационных исправлений). В некоторых главах используются фрагменты нескольких текстов или версии «одного и того же» текста на разных языках; в других целые пассажи и разделы были переписаны заново или добавлены в ходе работы над этой книгой; наконец, в третьих был сделан только косметический ремонт различного объема (добавление сносок, изменение нумерации разделов и т. д.). Крупные дополнения старых текстов и их изменения отмечены отдельно, особенно если в них содержится информация, недоступная на момент публикации исходных текстов. Однако зачастую я просто втихую изменял или убирал выражения, фразы и фрагменты, которые перестали мне нравиться, чтобы сделать исходный текст ближе к моему сегодняшнему стилю и, конечно, чтобы закрепить впечатление об однородности всех эссе. Кроме того, почти каждая глава ссылается на новые тексты, а не на старые, служившие им главным (или единственным) примером; что видно, в частности, по временной дистанции между содержанием и примерами. Поскольку это не классическая литература, которую следует издавать по принципу ne varietur, я счел, что такая общая вулканизация здесь вполне допустима, а зачастую просто необходима.
Я значительно расширил библиографию, добавив в нее источники, которых поначалу не было из-за невнимательности или нехватки места, и добавил ряд источников, которые появились после первой публикации. Тем не менее я избегал систематического обновления библиографии. В некоторых случаях (например, в главе 6) это потребовало бы написания нового очерка, в несколько раз обширнее предыдущего; в других случаях (например, в главе 5) – подготовки целой монографии; а иногда (например, в главах 2 и 7) возникал риск чрезмерного самоцитирования ввиду количества поднимаемых вопросов. В частности, я избегал ссылаться на источники, ссылающиеся на мои собственные тексты, независимо от отношения к ним автора. Иными словами, я не стремился ни отвечать на критику своих текстов, ни защищать их с помощью источников, которые на них основаны. Скорее всего, результат этого отбора в каком-то смысле оставляет желать лучшего, но я старался.
Порядок глав соответствует – за исключением интервью, помещенного в конце книги, – хронологии публикации основных текстов, на которых они основаны. Упорядочивать их тематически не было смысла, поскольку все главы, кроме дидактически-энциклопедической пятой, рассматривают одни и те же вопросы под немного разными углами.
Итак, эти вопросы, как я уже сказал, развивают несколько догадок (или навязчивых идей) – своего рода путеводных нитей, соединяющих различные этапы моей этнографической работы. Если говорить более абстрактно, я всегда пытался проблематизировать и усложнить дуализм, свойственный понятийному аппарату этнографии, а также – и это уже действительно важно – дуализм, который антропология навязывает системе индигенного мышления Амазонии: дуалистическая организация, бинарное общество, мифический и космологический дуализм и так далее. Тексты, написанные о народе явалапити (глава 1), устанавливают несводимость космологии народов реки Шингу к дуализму природа – культура, предполагая тернарный и непрерывный характер классификаций и символических процессов, в противоположность бинарному прерывистому. В монографии о народе аравете (1986а, 1992а; глава 4) предлагается связать между собой «социологию» и «космологию» (то есть отношения людей между собой и отношения между людьми и сверхлюдьми), чтобы избежать дюркгеймовского дуализма институт – представление и установить сложную, но онтологически однородную иерархию, противопоставить – соединить богов с людьми, а следовательно, живых и мертвых, шаманов и воинов, женщин и мужчин, сограждан и врагов. Статьи о родственных связях (главы 2 и 8) выявляют нестабильные границы амазонского дуализма, настаивая на триадической, концентрической и асимметричной – а не диадической, диаметральной и эквипотенциальной – природе противопоставления кровного родства и свойства́; в них предложено новое понятие – потенциальное свойство́. Наконец, работы о перспективизме, положенные в основу глав 7 и 8, являются еще более амбициозной трактовкой вопроса о противопоставлении природы и культуры, связывая его с современной антиномией «релятивизма» и «универсализма» и подвергая ее собственно этнографической критике.
Другая путеводная нить является более определенной – это тема человека и телесности в сочетании с типичной идеей-ценностью, которую я назвал онтологическим хищничеством. В этой идее, на мой взгляд, отражен режим субъективации и персонификации, общий для большинства, если не для всех культур индигенной Амазонии. Живя с явалапити, я сосредоточился на этнографическом изучении проблемы социального производства тела и связанного с ним телесного назначения социальных «процессов» и «ролей». В работе об аравете телесности уделяется меньше внимания, но в ней рассматриваются представления народов тупи-гуарани о человеке, развивается тема онтологического хищничества и исследуется ее главная схема – каннибализм. Этот амазонский комплекс «хищничества» (я придумал это провокационное название, чтобы противопоставить его модернистскому понятию «производства»; сегодня, скорее всего, я назвал бы его по-другому) я изучал и в работах о динамике свойства́ (главы 2, 3 и 4); сегодня он указывает на замаячивший на горизонте теоретический пересмотр понятия «обмен» (troca). Наконец, в более свежих статьях – о перспективизме и о переходе от виртуального к актуальному (главы 7 и 8) – предпринимается попытка определить понятийную экономию «тела» и «души» в америндейской космологии.
Тело, душа, человек, природа и культура, хищничество, обмен, потенциальное свойство́, перспектива – вот темы или, быть может, концепты, которые возникли у меня в ходе размышлений об амазонской этнографии. Читатель увидит, что смысл этих слов в представленных текстах постепенно уточняется, обретая все большую теоретическую и этнографическую мотивацию и все больше отдаляясь от своего привычного значения. Эти концепты – промежуточный итог труда, который по своей природе амбициозен: внести свой вклад в создание аналитического языка, скроенного по меркам (и по росту) индигенных миров, то есть аналитического языка, основанного на тех языках, из которых синтетически составлены эти миры. Его разработка потребует борьбы с интеллектуальным автоматизмом нашей традиции и – в не меньшей степени и по тем же причинам – с описательными и типологическими парадигмами, созданными антропологией для описания других социокультурных контекстов. Короче говоря, цель состоит в воссоздании понятийного индигенного воображения на языке нашего собственного воображения. Я сказал «на языке», потому что другого языка у нас нет; но штука в том, что это надо делать, чтобы (если «повезет») заставить наше воображение выдавать на своем языке совершенно новые, неслыханные ранее значения. Иногда говорят, что антропология сродни переводу; а ведь общеизвестно, что перевод – это предательство[1]. Это правда; поэтому, однако, важно уметь выбрать, кого именно предать. Я надеюсь, что мой выбор ясен. Но не мне судить о том, возымело ли это предательство эффект.
Наконец, несколько слов об антропологии Леви-Стросса, перед которым эта книга в долгу как по своей тематике, так и в отношении основного понятийно-теоретического аппарата. Начнем с тематики. Не стоит напоминать, какое значение в трудах этого автора имеют понятия обмена и трансцендентальной ценности (в кантовском смысле) брачного союза. Я также хочу подчеркнуть, что моя разработка темы телесности в огромной мере основана на анализе, содержащемся в «Мифологиках». Иными словами, мое изучение телесности никак не связано с волной увлечения embodiment[2], которое длительное время накрывала мировую антропологию (возможно, накрывает и по сей день, не знаю точно): исток моих работ в том периоде, когда «тело» даже не планировало превращаться в лозунг. Моя этнографическая мотивация отталкивалась от содержащегося в мифологических исследованиях Леви-Стросса доказательства того, что америндейские социологии развивались в соответствии с динамикой тел и материальных потоков. При работе с темами хищничества и перспективизма у меня было больше пространства для фантазии; но и их можно рассматривать как экстраполяцию «перекрестка» идей о духовном родстве и телесности или, точнее, как попытку сделать из них любопытные этнографические выводы. (Я вообще рассматриваю свою работу как вечный поиск возможных выводов и последствий чужих идей – будь то идеи индейцев или идеи пишущих о них антропологов. Последствия интересуют меня куда больше причин, поскольку делают возможным по-настоящему симметрическое, в терминологии Бруно Латура (Latour 1991), сопоставление нашего и чужого мышления. Когда при мне говорят о причинах – как бы они ни назывались и какой бы характер они ни имели – поведения другого человека, особенно «аборигена», мне кажется, что у него в эпистемологическом смысле подрезают кошелек.)
Теперь о теоретической базе. Например, в вопросе о дуализме. Структурализм принято ассоциировать с неумеренной любовью к дихотомии и со склонностью повсюду видеть дуализм. Как и многие другие клише, это не то чтобы совсем неправда, но и до правды ему далеко. Ведь именно в трудах Леви-Стросса мы находим некоторые из самых эффективных на сегодняшний день инструментов радикальной проблематизации – и ее этнографического обоснования – дихотомий, крепостными стенами окруживших нашу интеллектуальную цитадель. На многих страницах этой книги просто развиваются идеи и гипотезы Леви-Стросса (может быть, смелее, чем допускал сам их автор) о запутанной и намеренно незавершенной, несовершенной, неравновесной и асимметричной природе индигенного понятийного дуализма; одним словом, идеи о том, что реальность протекает сквозь сеть бинарного мышления, узлы которой всегда слишком широки; и более важной идеи о том, что эта утечка сама по себе является отдельным предметом индигенного мышления.
Я настаиваю на этом, потому что меня мало волнует, что там болит у постмодернистских антропологов, когда они заявляют о чудесном преодолении последних следов дуализма, обнажая всегда иллюзорный, безусловно вредный и в высшей степени неприменимый к незападному миру характер всего, что отдает «бинарной оппозицией» или «структурой». Говорить легко. Или, точнее, в этом случае говорить становится ужасно трудно (что не мешает тем, кто кричит о невозможности речи, продолжать сплетничать), ведь непорочное зачатие маловероятно как в духовном смысле, так и в телесном. Напротив, я считаю – перефразируя самого Леви-Стросса, что дуализмы подобны истории: они могут привести к чему угодно, пока вы их преодолеваете. Те, кто спешит «выйти за свои пределы», «занять позицию внешнего наблюдателя», почти всегда возвращаются к себе через черный ход и уже никогда не выходят. Поэтому я подписываюсь под помещенной ниже цитатой, взятой из другого теоретического источника этого сборника, контристочника, который помог в картографировании наружной стороны структурализма – философии Жиля Делёза. Итак, как говорится в «Тысяче плато»:
Мы взываем к одному дуализму ради того, чтобы отвергнуть другой. <…> Всякий раз нужны церебральные корректоры, разбивающие дуализмы, которые мы и не хотели создавать, но через которые мы проходим. Прийти к той магической формуле, которую все мы ищем: ПЛЮРАЛИЗМ = МОНИЗМ, проходя через все дуализмы, которые являются врагами, но врагами совершенно необходимыми, мебелью, которую мы постоянно переставляем. (Deleuze & Guattari 1980: 31).
Структурализм Леви-Стросса мне ни в коем случае не «враг». Наоборот, это он дал мне линейку и компас, установил условия диалога с амазонской этнологией и с ним самим. Он дал мне орудия, с помощью которых я своими силами пытаюсь с ним сравниться. Но если хорошенько подумать, то да, он может быть моим главным врагом – в том смысле, в каком это понятие используется в амазонских сообществах, где оно означает нечто совершенно положительное, то есть «абсолютно необходимое», то, что для его преодоления нужно не отрицать, а утверждать. Поэтому мебелью, которую мы постоянно переставляем, в этой книге является не только и не столько «дуализм», а структурная антропология. Возможно, читателю покажется, что эта передвижная «мебель» всегда оставалась «неподвижной и потусторонней», как говорил Фуко о Гегеле, и что мы всегда натыкаемся на нее в конце пути, когда, как казалось, оставили ее далеко позади. Так что амазонская этнология – теперь слово моему другу Питу Гоу (а он говорил серьезно) – по сути всего лишь собрание примечаний к «Мифологикам». И эта книга – в самом лучшем случае еще одно подобное примечание.
Но есть у нее и своя ценность. Выше было сказано, что представленные в этой книге очерки обращаются к «наружной стороне структурализма» – в центростремительном смысле. Я намереваюсь оказаться не снаружи структурализма, а на наружной стороне структурализма. Мне интересно исследовать и пересекать «внутренние границы» структурной антропологии и использовать их позитивно, чтобы понять, от чего ей пришлось отказаться ради своего появления; мне это интересно, потому что в своем становлении она отказалась от некоторых аспектов (или преуменьшила их роль), которые я считаю основополагающими для индигенного мышления и практик. «Неприрученная мысль» дикаря не охватывает всего мышления дикарей. Но именно мышление «дикарей» – народов амазонских лесов – имеет собственные размеры «одомашнивания» относительно этого мышления «в первобытном состоянии», которое свойственно всем нам (включая меня, в воскресную пору моей жизни). Этот пункт обозначен в главе 4 и несколько дополнен в главе 9 первого издания, которая затем была включена в «Каннибальские метафизики» (Viveiros de Castro 2009 [Вивейруш де Кастру 2017]). Он, наконец, входит в число тем книги, которую я сейчас готовлю; она в значительной мере опирается на главы 2, 7 и 8 этого издания. В этой книге я заявляю о необходимости более пристального изучения интенсивного измерения амазонских онтологий, то есть процессов дифференциального изменения в большей степени, чем фигур дифференцированной переменности; короче говоря, постараюсь обрисовать амазонскую теорию виртуального. Что, среди прочего, подразумевает повторное обсуждение вопроса постоянства и дискретности в индигенном мышлении; эта тема, как всем известно, является основой вклада Леви-Стросса в америндейскую этнологию. Но работы здесь, как можно догадаться, непочатый край. Поскольку я не знаю, доживу ли до того, чтобы подобраться к этой теме поближе, и увидит ли свет эта книга – а «Каннибальские метафизики» были всего лишь первой попыткой синтеза, – то я отдаю на суд читателя главы этого издания, которые представляют собой лишь обещание чего-то большего.
Данное издание – первая створка «диптиха», в который входит еще один готовящийся к печати сборник статей и других текстов, написанных после 2002 года. Этот сборник вскоре будет опубликован, если это будет возможно в наши темные времена.
Источники
Глава 1 основана на трех статьях: «Некоторые аспекты мышления народа явалапити (верховья Шингу): классификация и преобразования» (Boletim do Museu Nacional. 1978. Vol. 26. P. 1–41); «Заметки о космологии народа явалапити» (Religião e Sociedade. 1978. Vol. 3. P. 63–74); и «Производство тела в обществах народов Шингу» (Boletim do Museu Nacional. 1979. Vol. 32. P. 40–49). Третья статья – своего рода приложение к опубликованному в том же номере издания эссе А. Зегера, Р. ДаМатты и Э. Вивейруша де Кастру «Конструирование человека в индигенных бразильских обществах».
Глава 2 представляет собой переработанную версию эссе «Некоторые аспекты свойства́ в амазонском дравидианате» (Viveiros de Castro E., M. da Cunha C. (orgs.) Amazônia: etnologia e histо́ria indígena. São Paulo: NHII-USP/Fapesp, 1993. P. 150–210). Объемные фрагменты этого эссе впоследствии публиковались в статье «La Puissance et l´acte: la parenté dans es basses-terres de l´Amérique du Sud» («Сила и действие: родство в низменностях Южной Америки»), написанной в соавторстве с Карлосом Фаусту (L´Homme. 1993. Vol. 126–128. P. 141–170).
Глава 3 была опубликована под тем же заглавием в 1992 году (Revista de Antropologia. 1992. Vol. 35. P. 21–74). Французская версия: Becquelin A., Molinié A. (orgs.) Mémoire de la tradition. Nanterre: Société d´Ethnologie, 1993. P. 365–431). Статья была написана для французского издания.
Глава 4 представляет собой отредактированную статью «Убийца и его двойник у аравете (Бразилия): пример ритуального слияния» («Le Meurtier et son double chez lez Araweté (Brésil): un exemple de fusion rituelle», в кн.: Cartry M., Detienne M. (orgs.) Destins de meurtriers. Paris: Ephe/CNRS, 1996. P. 77–104, 14-й том журнала Systèmes de Pensée en Afrique Noire).
Глава 5 представляет собой дополненный перевод пункта «Society» в «Энциклопедии социальной и культурной антропологии» (Barnard A., Spencer J. (orgs.) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London: Routledge, 1996. P. 514–522). В 2000 году вышел португальский перевод, озаглавленный «Понятие „общества“ в антропологии: краткий экскурс» (O conceito de „sociedade“ em antropologia: um sobrevôo // Teoria & Sociedade. 2000. Vol. 5. P. 182–199).
Глава 6 – новая версия статьи «Образы природы и общества в амазонской этнологии» (Images of nature and society in Amazonian ethnology // Annual Review of Anthropology. 1996. Vol. 25. P. 179–200).
Основой для главы 7 стали как минимум две статьи и пять лекций. Основной источник – статья «Космологические местоимения и америндейский перспективизм» (Os pronomes cosmolо́gicos e o perspectivismo ameríndio // Mana. 1996. Vol. 2. No. 2. P. 115–144). Эта статья вышла по-французски под тем же заглавием в кн.: Alliez E. (org.) Gilles Deleuze: une vie philosophique. Le Plessis-Robinson: Institut Synthélabo. Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond, 1998. P. 429–462. Английский перевод с незначительными изменениями озаглавлен «Космологический дейксис и америндейский переспективизм» (Cosmological deixis and Amerindian perspectivism // Journal of the Royal Antropological Institute. 1998. Vol. 4. No. 3. P. 469–488). Второй источник главы – статья «Превращение объекта в субъект в америндейской онтологии» (La trasformazione degli oggetti in sogetti nelle ontologie amerindiane // C. Severi (org.). Antropologia e psicologia: interazioni complesse e rappresentazione mentali (тематический номер журнала Etnosistemi (Processi e dinamiche culturali). 2000. Vol. VII. No. 7. P. 47–58), которая, в свою очередь, основана на докладах, прочитанных на симпозиумах в Манчестере (1998) и Чикаго (1999). Третий источник – цикл лекций под общим названием «Космологический перспективизм в Амазонии и других местах» (Cosmological perspectivism in Amazonia and elsewhere), прочитанный на кафедре антропологии Кембриджского университета в феврале – марте 1998 года. Наконец, некоторые параграфы этой главы впервые прозвучали в лекции им. Манро «Культурный и прочий релятивизм: взгляд из Амазонии» (Relativism, cultural and otherwise: a view from Amazonia), прочитанной в Эдинбургском университете в феврале 1998 года.
Текст, положенный в основу главы 8, был написан для одного издания в честь юбилея Питера Ривьера. Он совсем недавно был опубликован в Великобритании под заглавием «Нутром чую Амазонию: потенциальное свойство́ и создание сообщества» (GUT feelings about Amazonia: potential affinity and the construction of sociality // L. Rival, N. Whitehead (orgs.). Beyond the visible and the material: the amerindianizatin of society in the work of Peter Rivière. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 19–43). Этот текст был опубликован на португальском языке под заголовком «Актуализация и контрэффект виртуального в амазонском общества: процесс родства» (Atualização e contraefetuação do virtual na socialidade amazônica: o processo do parentesco // Ilha – Revista de Antropologia. 2000. Vol. 2. No. 1. P. 5–46). Текст главы 8 вносит значительные исправления и дополнения в обе эти версии (которые уже различаются между собой). Замыкающее сборник интервью было впервые опубликовано в журнале Sexta Feira (номер 4 за 1999 год).
Что касается библиографии, я почти всегда пользовался источниками в оригинале. Перевод иностранных цитат тоже моих рук дело, за исключением, кажется, одного пассажа из Маркса (перевод с английского издания) в главе 7. В главе 3 я решил оставить цитаты авторов XVI и XVII веков в оригинальной орфографии, в том числе французских, за исключением книги Клода д’Аббвиля, которую я цитирую в переводе Сержиу Мильета, и Ганса Штадена (перевод Гиомар ди Карвалью Франку). При отсылке к библиографии и источникам используется дата первой публикации (или, реже, дата публикации, в которую внесены значительные поправки). Тем не менее номера страниц приводятся по тем изданиям, которыми пользовался я. Читателю не составит труда найти соответствие: в библиографии после даты первой публикации указана дата использованного издания[3].
Благодарности
В начале каждой главы указаны обстоятельства, в которых рождались исходные тексты, и признания в том, кому я обязан в интеллектуальном плане. Тем не менее нескольких людей я могу благодарить бесконечно. Это, во-первых, мои учителя Луис Коста Лима и Роберту ДаМатта, Канату и Пиракуман, Тоийи и Иванкани. Без них я не выбрал бы профессию антрополога, не поехал бы работать в Амазонию, не нашел бы свой путь среди книг (первые двое) и мудрости народов явалапити и аравете (последние четверо). Им – всё мое восхищение и глубокая благодарность.
Во-вторых, мои ученики (а ныне коллеги) Таня Столзи Лима, Апаресида Виласа, Марсиу Силва, Марсела Коэлью ди Соуза, Карлос Фаусту, Марку Антониу Гонсалвес, Марниу Тейшейра-Пинту и Ванесса Леа. Благодаря их терпению, уму и опыту я мог неустанно производить, проверять, исправлять, изменять изложенные здесь идеи. Они – мои сообщники, хотя порой довольно язвительные.
Наконец, я благодарю Брюса Альбера, Мануэлу Карнейру да Кунью, Филиппа Дескола, Питера Гоу, Майкла Хаусмана, Стивена Хью-Джонса, Тима Ингольда, Бруно Латура, Клода Леви-Стросса, Сесилию Маккаллум, Патрика Манже, Джоанну Оверинг, Питера Ривьера, Маршалла Салинза, Энтони Сигера, Мэрилин Стратерн и Анну-Кристину Тейлор. Мануэла, Филипп, Пит, Майкл, Бруно, Тони, Мэрилин и Анна-Кристина всегда были готовы выслушать меня в самых различных и крайне важных ситуациях. Именно их труд оказал мне буквально неоценимую помощь. Именно благодаря этим коллегам я начал и продолжаю смотреть на антропологию как на увлекательное интеллектуальное приключение. Лишь благодаря их вдохновению, примеру и щедрости смогли быть написаны эти тексты.
Памяти Пару
Глава 1
Очерк космологии народа явалапити
В данной статье изложены некоторые космологические идеи народа явалапи́ти, относящегося к аравакской группе и проживающего в верховьях реки Шингу [4]. Она начинается с анализа одного яркого аспекта индигенной классификационной практики, затрагивая темы одушевленности, логики чувственности, на которую опирается пищевой рацион человека, и процессов производства тела и телесной метаморфозы.
Для категоризации явалапити весьма характерна аффиксация базовых понятий с помощью модификаторов. У меня нет опыта, чтобы рассуждать о собственно лингвистических аспектах этого феномена, и знаний, чтобы оценить его распространенность вдоль всей реки Шингу. Но всё же я считаю полезным обратить внимание на широкое применение подобных морфем в языке явалапити, и опасаюсь, что возникнет необходимость рискнуть и расшифровать их значение.
Когда я просил своих собеседников классифицировать любой объект (предмет, животное, качество, функции и отношения, связанные с конкретным человеком), то есть пытался выделить в широком классе некое означаемое, то их ответы почти всегда приводили меня к выводу о наличии четких разграничений внутри категориальной парадигмы. Как будто язык (или культура) обладает неким конечным инструментарием чистых или идеальных понятий, так что отождествление с подобными понятиями любого означаемого возможно только при помощи семантических инструментов – я называю их модификаторами, – функция которых заключается в установлении метонимической дистанции или метафорического различия между идеальным прототипом и действительным феноменом. Или, иными словами, категории классификации как будто имеют практический смысл только при их использовании с аффиксами, обозначающими, каким образом означаемое относится к своему классу.
На мой взгляд, эту функцию в речи явалапити выполняют четыре модификатора: – kumã, -rúru, – mína и – malú. Почти всегда они идут после существительного. Так, зоологический класс úi «змея» может иметь следующие конкретные представления: úi-tyumа́ (алломорф – kumã) – змеи-духи; úi-rúru – ядовитые змеи; úi-mína – животные, похожие на змей; úi-malú – неядовитые змеи. Это не разделение на подклассы, а способ адаптировать таксономию к конкретным случаям. Однажды я услышал, как один человек ругает народ ваура́ за то, что они едят электрического угря. Я спросил его: «Но разве электрический угорь – не рыба (kupа́ti)?», а он ответил мне: «Нет, это змея (úi)» [5]. Я переспросил: «То есть это змея?», а он тогда повторил: «Нет, это просто úi-mína». Модификаторы используются в различных семантических сферах, они определяют признаваемые культурой формы отношений между общими понятиями и классифицируемыми отдельными предметами. Поэтому, вероятно, проверка означаемого может приблизить нас к пониманию фундаментального для культуры народов верховий реки Шингу способа познания.
Явалапити более или менее четко разъяснили мне значение модификаторов. Класс – úi, например, был поделен на следующие: «большие, свирепые, невидимые» змеи (-kumã); «настоящие» змеи (-rúru); «неправильные, плохие» змеи (-malú); «существа, похожие на змей» (-mína). Таким образом, модификаторы означают, соответственно, «чрезмерность», «истинность», «внутренность» и «схожесть». Эти сложные отношения включают в себя оппозицию между формой и содержанием по принципу градации между типом и индивидом. Кроме того, суффиксы представляют собой систему гибких оппозиций; в ряде случаев отношения несут в себе осадок диадического контраста: так, – kumã и – rúru могут противопоставляться друг другу как «чудовищное» и «совершенное», как «архетип» и «существующее» и так далее. Анализ каждого модификатора требует учета значений, которыми он обладает в целой системе.
Особо продуктивны два модификатора: – kumã (на мой взгляд, наиболее выраженное его значение – «сверхъестественный эквивалент») и – mína (что-то вроде «аналог образца и активный участник его парадигмы»). Однако и сверхъестественность – kumã, и партиципаторная аналогия – mína подчиняются разнообразным критериям, обрастая значениями, которые на первые взгляд кажутся совсем разными.
Суффикс – kumã (женский род: – kumа́lu) в общих чертах указывает:
1) на крупнейшего представителя рода животных: kutipíra-kumã – гарпия, самая большая птица (kutipíra); kupа́ti-kumã – сом-плоскоголовик пира́ра и позолоченный сом жау́, крупнейшие рыбы (kupа́ti) из обитающих в регионе;
2) на некоторые виды или разновидности живых существ, которых классификация связывает между собой: iru – черепаха трака́кса и iru-kumа́lu – угольная черепаха жабути́, а́wtu – ошейниковый пéкари и а́wtu-kumã – белобородый пекари. До конца неясно, всегда ли виды, обозначаемые суффиксом – kumã, должны быть больше размером; когда речь идет о растениях, суффикс – kumã не всегда указывает на растение, близкое таксономически (ботанически) другому растению без этого суффикса, в отличие от приведенных выше примеров из животного мира;
3) на существа и предметы, находящиеся за пределами локального пространства и времени: животные, которых местные жители видели в зоопарках Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а также любые экзотические виды, название которых почти всегда образовано путем добавления суффикса – kumã к слову, обозначающему знакомый местным жителям местный вид; а также на далекие во времени родственные связи, как то: правнуки и прочие потомки, которых называют ipuyа́ka-kumã (внук-kumã).
Бык и лошадь называются tsõma-kumã, то есть тапир-kumã; awayúlu-kumã (лисица-kumã) – это собака; жираф – это олень-kumã. Putа́ka-kumã, то есть деревня-kumã – это город; warа́yu-kumã – это индейцы (warа́yu) не из Бразилии; õuyа́-kumã – это море, или «большая лагуна». Yawalapíti-kumã – это полулегендарная группа явалапити, которая когда-то отделилась от явалапити, известных ныне, и ушла жить к истокам реки Кулуэни; их никто не видел до сегодняшнего дня. В этнологической литературе они известны как агавотоквенги (Agavotoqueng); это карибское слово – буквальный перевод самоназвания явалапити: Agav-oto – то же самое, что Yawala-píti (первое слово можно перевести как «хозяева [деревни, где растут] пальмы туку́н», а второе – как «место [деревня], [где растут] пальмы тукун»), а – queng, или – kuegi – карибский аналог суффикса – kumã.
4) на существа из мира духов, соответствующие настоящим: yanumа́ka-kumã – это сверхъестественная пума; iishа́-kumã – фигурирующее в одном мифе чудовищное каноэ, способное оживать; pitõpo-kumã – это волшебная громадная пита́нга, птица-покровитель шаманов;
5) на все существа и предметы, связанные с мифологией. Когда я, услышав во время пересказа мифа общий термин, переспрашивал: «Это существо – то же самое, что Х или похоже на Х?», мне отвечали: «Нет, это Х-kumã».
– kumã в значении 1 мне перевели как «большой/большая», в значении 2 – как «другой/другая». Значение 3 частично пересекается со значениями 2 и 5; как правило, его переводили как «далекий/далекая». В значении 4 пояснением служило слово apapalutа́pa (апапалута́па), а некоторые из моих собеседников использовали прямой перевод – «дух». Оба слова почти всегда подразумевали антропоморфный предикат. Наконец, значение 5 можно охарактеризовать просто как мифическое. Зачастую значения накладываются друг на друга: kutipíra-kumã – это и гарпия (настоящая птица), и двуглавый гриф – царствующая в небесах птица-дух; kupа́ti-kumã – это и пирара, и любая сверхъестественная рыба; ayõma-kumã – это и жираф из зоопарка в Рио-де-Жанейро, и мифический олень.
Когда я вне контекста спрашивал собеседника, что означает термин [название животного]-kumã, мне чаще всего отвечали так: «Свирепый, храбрый, большой зверь, которого никто не видит». Таким образом, этот модификатор указывает на ряд атрибутов: свирепость, большой размер, невидимость, чудовищность, инаковость, духовность, отдаленность. Здесь важно то, что эти атрибуты часто перехлестываются. Само понятие «дух» может происходить от значения этого модификатора.
Добавление суффикса – kumã к типовому понятию маркирует инаковость означаемого по отношению к своему классу. Эта инаковость – наружная и излишняя. И это излишество, схематизированное образами свирепости и громадности (-kumã – это, с позволения Лакана, «большой Другой»), как будто смешивает в себе два противоположных значения модификатора: она указывает на отличие, а вместе с тем на архетипичность. Другой и Я – и наоборот. Как будто перед нами эти два предложения: любой образец представляет онтологическое сверхизобилие; любое сверхизобилие чудовищно инаково.
«Духовное» или «чудовищное» значение суффикса – kumã противопоставляется значению суффикса – rúru «настоящее» или «собственно говоря». Но в значении «большое» или «архетипическое» он противопоставляется вещам-mína, то есть слабой копии мифического образца: в этом конкретном смысле мифические персонажи преимущественно – kumã. Некоторые собеседники говорили мне, что первые животные были слишком большими и свирепыми, и что в начале времен близнецы Солнце и Луна прогнали их всех с Шингу: «Они ушли в Африку, а здесь осталась только пума» [6].
Аналогия между различными значениями – kumã – большое, инаковое, свирепое, невидимое, отдаленное – проливает свет на космологическую природу этого модификатора. В нем мир повседневного опыта пересекается со сферой вещей-kumã – духов и мифических существ; есть животные-kumã и вещи-kumã, доступные нашему опыту, а есть существа-kumã, которые являются apapalutа́pa, сверхъестественными, то есть «духами». Мир как целое как будто расположен между космологически внешним полюсом – kumã и областью объектов – rúru, – mína и – malú – разновидностей космологического внутреннего. Понятия «настоящего» и «воображаемого» в этом контексте не имеют никакого смысла; основное противопоставление наблюдается между объектами в превосходной степени, оригинальными, архетипическими и/или чудовищными, и вещами «собственно говоря», настоящими, актуальными, но в то же время представляющими собой уменьшенные копии образцов.
Этот классификатор используется наиболее широко:
1) как оператор классификационой инклюзии, или обобщения: kutipíra-mína означает всех крылатых животных (kutipíra «птица»); atatapа́-mína – все растения, корни которых имеют хозяйственное значение, корнеплоды (atatapа́ «корень»); в этом смысле данный суффикс означает что-то вроде «из такого-то рода», «разновидность»;
2) для различения сущностей или отношений, которые, несмотря на свою принадлежность к определенному классу, не являются полноценными, совершенными примерами, безупречно соответствующими образцу класса: úi-mína, как мы видели, означает электрического угря, который лишь своим видом напоминает змею; úa-mína – человек, которого можно счесть дядей по материнской линии; amulaw-mína – лидер, не соответствующий всем критериям лидера, вождь, не выполняющий всех своих обязанностей; putа́ka-mína – это народы суйя́, журу́на, каяби́ и трумаи́, которые не относятся к группе народов верховий реки Шингу (putа́ka) [7], но уже давно проживают в этой местности и поддерживают с ними родственные связи. В этом плане данный суффикс имеет коннотацию «похожий», «почти», «ослабленная форма».
В свою очередь, народ чукаррама́н – это warayu-rúru «настоящие индейцы [не с Шингу]», то есть по-настоящему свирепые и дикие [8]. Примечательно, что warayu-kumã называют «других дикарей» – китайцев, японцев, ятмулов и нуэров, запечатленных на фотографиях из книг, которые я показывал своим собеседникам. Тем не менее настоящих японских фотографов и туристов, которые приезжали в верховья Шингу, они называли putа́ka-kumã – я бы перевел это как «другие мы» или «сверхшингуйцы». Прочих чужаков, имеющих западные черты лица – североамериканских и европейских антропологов, – местные называли karaiba-kumã – «другие неиндейцы» или «сверхбразильцы»…
3) как составная часть выражений, описывающих состояние и чувства человека, например: katúpa-mína «грусть», kaputsakа́-mína «кожа, покрытая красным соком аннато», или ahí-mína «запах тела после полового акта».
4) встречается также форма /mína/, чья связь с предыдущими значениями суффикса неочевидна. В качестве перевода португальского слова «тело» (corpo) мне предложили mína-tíji, пояснив, что его применяют в отношении людей и любых животных; – tíji похоже на возвратную или эмфатическую частицу. Я не уверен, что в данном случае /mína/ – то же самое, что – mína из предыдущих примеров. То, что оно находится в препозиции по отношению к – tíji и его функциональная схожесть с существительным, говорит не в пользу ассимиляции с суффиксом – mína. Тем не менее существует женская форма этого слова, tа́pa-tíji «женское тело, тело женской особи», и это говорит о том, что такое сближение между /mína/ и модификатором возможно. Для решения этого вопроса важно решить, принимаем ли мы деление термина apapalutа́pa «дух» на основу /apapalu/ и суффикс /-tа́pa/, где первый элемент, apapalu, означает флейты жакуи́, основной инструмент манифестации духовности у местного населения [9]. В таком случае духи вообще будут «разновидностями» apapalu. Грамматически это слово женского рода, и добавление к нему женской формы суффикса – mína говорило бы о том, что модификатор – mína из примеров 1, 2 и 3 может точно так же измениться, как /mína/ в mína-tíji [10].
Если всё вышесказанное верно, то не будет недопустимым преувеличением предположить связь между – mína в значениях 1 «принадлежащий к классу Х», 2 «несовершенный экземпляр Х», 3 «телесное состояние Х» (тогда грусть – katúpa – должна в этом случае пониматься не как психическое, а как соматическое состояние) и, наконец, 4 /mína/ как часть понятия, обозначающего «тело». Возможно, перевод – mína как «отелеснение объекта Х» передает общий смысл этого модификатора, если объектное участие считать метонимической связью. Действительно, можно сказать, что – kumã соответствует метафоре, а – mína – метонимии [11].
В случае 1 – mína означает полную принадлежность означаемого какому-то классу – в противоположность суффиксу – malú, который указывает на низший экземпляр. Например, ipuñöñöri-mína – это «хороший человек» (точнее, «человек добра»), а ipuñöñöri-malú – это «те, кто не умеет говорить», то есть эгоистичные, агрессивные и антисоциальные люди, противоположность знати – amulawnaw. Поэтому здесь – mína означает положительное включение человека как экземпляра идеального типа.
Я рассматриваю этот вид классификации людей, в особенности атрибуты amulaw «капитан», то есть вождь, аристократ, в своей диссертации (Viveiros de Castro 1977). В ней отмечается, что ipuñöñöri-malú – антоним amulaw, но не всякий ipuñöñöri-mína является amulaw, хотя в идеале должно быть так. Наконец, «плохой, дурной человек» – это mipuñöñöri-tа́ri «не-человек» (дословно). Таким образом, разница между людьми-malú и «нелюдьми» – разница между ступенями. Следуя значению 1, ipuñöñöri-mína можно перевести как «человеческий род», а согласно значению 2 – как «близкий к идеальному типу человека». Примечательно и то, что слово ipuñöñöri-rúru синонимично ipuñöñöri-mína; они противопоставляются и «нелю́дям», и ipuñöñöri-kumã – всевозможным антропоморфным духам, что обитают в лагунах верховий Шингу.
В более общем значении 2 – mína действует как базовый оператор классификации явалапити. Это миноритарный маркер, указывающий на то, что классифицируемый объект находится уровнем ниже, чем стоящий во главе классификации идеальный тип. В этом значении данный модификатор антонимичен – rúru «настоящий», «как таковой»; он курьезным образом инвертирует значение 1. Вещи-mína – это вещи, которые лишь отчасти соответствуют образцу, в то время как вещи-rúru полностью к нему подходят: itutakа́-rúru — это «настоящий» брат, сын того же отца и/или той же матери; itutakа́-mína – это все параллельные (а в зависимости от контекста и пересекающиеся) родственники моего поколения, к которым в сглаженном виде применяются те же правила отношений. Суффикс «как таковой», – rúru, может быть конкретизирован суффиксами качества utúna «много, очень». Суффикс «почти», – mína, может уточняться словами pahítsi «мало, немного», parúti «половина», ihöwku «далеко» [12].
Тем не менее есть смысл говорить о суперпозиции значений 1 и 2. Члены одного и того же вида – всегда несовершенные экземпляры, подобия и копии Архетипа, который зачастую воплощен в мифическом существе. В каком-то смысле совокупность всех сущностей всегда будет – mína в противоположность совокупности образцов, сущностей-kumã. В свою очередь, модификатор – rúru завис где-то посередине дороги: он определяет те существующие вещи, которые стремятся к образцу сущностей-kumã, которые, в свою очередь, стремятся к гипертрофии и превращению в чудовищ. С одной стороны, образец, архетипы, излишество и чудовищность, с другой – подобие, актуальность, неполнота и низшее положение. Система располагается между двумя полюсами – сущностями-kumã и сущностями-malú: совершенными чудовищами и негодными симулякрами; между этими полюсами размещаются равные образцу сущности-rúru и близкие к образцу сущности-mína.
В качестве примера контекстуальной вариативности использования модификаторов возьмем категорию kutipíra «птица». Kutipíra-mína – это любое крылатое животное, а kutipíra-kumã, как уже говорилось, гарпия. В какой-то момент я услышал выражение kutipíra-rúru, которое для меня перевели как «настоящие птички»; это были не воробьинообразные, а хищные птицы, к которым относится и гарпия. В этом контексте выражение kutipíra-mína указывало лишь на «маленьких пташек» (воробьинообразные, а также попугаевые и т. д.), а kutipíra-kumã переводилось как «пташка-дух». Другой пример – из мира рыб: электрический угорь называется úi-mína «ложная змея», или kupа́ti-parúti «полурыба»; а вот скат – это уже kupа́ti-malú «негодная, неправильная рыба»; в свою очередь, kupа́ti-rúru – это рыбы с чешуей, а также большинство рыб без чешуи; kupа́ti-kumã – это только рыбы-духи. Возможность развития диадического противопоставления (-mína/-kumã, -rúru/-malú) в соответствии с особыми требованиями говорит о том, что система модификаторов не связана с незыблемой таксономией.
В другом тексте (Viveiros de Castro 1977) я указывал на распространение понятий «много» и «мало» в атрибуции групповой идентичности, классификации степеней лидерства (amulaw) и иерархии родовых отношений у явалапити. К этому же вопросу обращается и опубликованная в 1977 году книга Томаса Грегора о меина́ку (см. разделы 17 и 18) [13]. На самом деле классификация по градиенту расстояния от типа применяется не только к социальным отношениям; похоже на то, что она характерна для всей культуры явалапити, что выражается частым использованием модификатора – mína. Этот непрерывный и скалярный способ познания соотносится с явно концентрической социопространственной организацией (см. Lévi-Strauss 1956) и с отсутствием какого-либо радикального разделения между сферами природы и культуры.
Еще пара слов о двух оставшихся модификаторах. Суффикс – rúru «настоящий, правильный» в некоторых контекстах напрямую контрастирует с – malú «ложный, несовершенный, низший». Только большой дом putа́ka wököti — «хозяина деревни», представителя группы – называется pa-rúru «настоящий дом»; все остальные дома – pa-malú [14]. А в типологии видов речи (Gregor 1977: 76 и далее) существует разделение между yayakatualhí-rúru «настоящей речью» (формальная речь вождя, которую он произносит, стоя в центре деревни, или любое лингвистическое сообщение, выражающее собой отождествление со свойственным народам Шингу образом жизни) и yayakatualhí-malú «плохой речью» – так говорят о слухах и пересудах внутри дома и на окраине деревни. Но, кроме того, речь-malú – это и детский лепет, и словесные игры (как правило, сексуального характера) между кросс-родственниками, и агрессивная речь колдунов. Суффикс – malú, как правило, применяется к объектам и существам, которые «не такие», как их прототип, или «не похожи» на него в своих действиях. В приведенном выше примере úi-malú – это неядовитые змеи; таким образом, этот модификатор не всегда привносит коннотацию опасности или зловредности, но всегда – несовершенства.
В целом структуру системы можно наглядно представить в двух вариантах:
А если учесть, что на самом деле все модификаторы упорядочены от под-вещей к над-вещам, то мы имеем следующую картину:
При этом между – kumã и – rúru более выражена дискретность, поскольку, напомню, они могут быть диаметрально противоположными друг другу как «сверхъестественное» и «актуальное»: – rúru в этих случаях подчеркивает сущность не-kumã-сущностей, выполняя роль высшей границы – mína и – malú.
Эта схема весьма продуктивна. Как мы увидим ниже, животных называют apapalutа́pa-mína, а собственно духов – apapalutа́pa-rúru. Поскольку духи по определению являются сущностями-kumã, то мы имеем дело с kumã-mína, kumã-rúru, а в конце концов и с kumã-kumã; кто-то однажды сказал мне, что в Рио-де-Жанейро должно быть много apapalutа́pa-kumã, то есть духов-kumã.
Завершая это вступление, следует сделать два замечания. Во-первых, вышеописанная когнитивная схема отражается и в этосе явалапити. Вещи-rúru, и в особенности вещи-kumã (сверхъестественные), являются предметом kawíka «уважения», или «страха». В общем, чем ближе объект к своему образцу, тем сильнее и определеннее отношение к данной сущности или к данному отношению.
Во-вторых, полезно будет сравнить предложенную модель с четырехчастной парадигмой, которую Эллен Бассо (Basso 1973:17–26) вводит для народа калапа́ло, опираясь на критерии «человеческой метафоры» и «притяжательного суффикса». Хотя, на мой взгляд, схема, опирающаяся, как у Бассо, на дискретные оппозиции, не может отражать свойственного народам Шингу непрерывного характера классификаций, она все же затрагивает важные аспекты, о которых я не могу говорить, – как, например, отношения, подразумеваемые притяжательными суффиксами. Напомню также, что модификатор – kumã встречается в бассейне Шингу не только в аравакских языках: в языке калапало ему соответствует – kuegi (Basso op. cit.), а в камаюра – aruwiyap (Agostinho 1974a). О существовании в этих языках других модификаторов сведений нет. Грегор в своей работе о меинаку (Gregor 1977) – а меинаку, как и явалапити, говорят на языке аравакской группы – указывает на такое же употребление – kumã, а также отмечает суффикс – waja, эквивалент – rúru, и – malú в том же значении. Что касается когната – mína, – mune, о «сложном значении» которого говорит Грегор, он указывается как «существительная» морфема; это решение кажется мне слишком ограниченным, но, несомненно, приемлемым. А здесь автор (id. ibid.: 321) переводит apapãiyei mune – apapalutа́pa-mína у явалапити – как «наземное животное». Как было показано выше, это выражение совершенно точно означает «дух-mína», из этого можно сделать совсем не те выводы, какие сделал Грегор.
Наконец, я знаю, что речевые модификаторы – ни в коем случае не прерогатива ни араваков, ни какого-либо другого народа верховий Шингу. Я не пытаюсь взять потенциально универсальный лингвистический инструмент, чтобы замкнуть его ареал на этом регионе. Далеко ходить не нужно: например, у суйя, как у многих других народов группы же, есть нечто подобное (Seeger 1974; личная беседа) [15]. Вопрос, прежде всего, заключается в превалировании в верховьях Шингу космологии непрерывного или концентрического типа; систематическое и частое использование в явалапити модификаторов рассматривается здесь исключительно как способ подобраться к этому свойству.
[1] Систему, образованную суффиксами-модификаторами, можно схематично представить и в ином виде. Рисунок ниже сочетает свойства обоих предыдущих рисунков, позволяя увидеть в этой системе реализацию структуры, о которой говорится в главе 8 (предлагаю читателю ее прочесть):
Нисходящая линия описывает процесс актуализации и отелеснения сущностей, а восходящая – обратный процесс виртуализации, или «одуховления». Kumã-состояние мифа, режим абсолютной инаковости, или постоянного изменения, глобально отличается от mína-состояния исторического мира (который порождает и сопровождает в качестве виртуального фона состояние-другой), в котором царят относительная похожесть и переменчивая идентичность. Ритуал – фигура исторического мира – является тогда моментом, в который человеческий коллектив (-mína) вновь приближается к величайшему (-rúru) из мифических достижений, перед лицом которого, в свою очередь, повседневная жизнь (-mína) оценивается как онтологически низшая (-malú).
[2] Во время написания этой работы в 1977/1978 году я еще не был знаком с работой Кеннета Кенсинджера, который первым изучал модификационные суффиксы kuin, kuinman, kayabi и bemakia в языке кашинауа́ (паноанская группа); эти модификаторы аналогичны модификаторам в явалапити [16]. Заслуживает внимания сходство проблемы, затронутой Кенсинджером, и описанной в нашей работе; тем не менее необходимо осознавать разницу между анализом, основанным на уверенном владении языком туземцев (случай Кенсинджера) и анализом, наивно опиравшимся на фрагменты бесед на португальском языке о другом языке, на котором я не произнес ни слова.
С тех пор над модификаторами в кашинауа было сломано много копий. Патрик Деей и Барбара Кайфенхайм в своей работе от 1994 года посвятили им 600 страниц; эти авторы предлагают трактовку, расходящуюся с трактовкой Кенсинджера в ряде важных аспектов [17]. Очевидно, я не вправе вносить в эту экзегезу значительные поправки. Так или иначе, анализ Деэя и Кайфенхайм позволяет установить следующие корреляции (конечно, не совсем точные) между сериями модификаторов в кашинауа и явалапити: kuin, который авторы переводят как «Я» (или «я-самое», франц. Soi) коррелирует с – rúru; bemakia, «Другой», сходно с – kumã; kuinman, «не-Я» (non-Soi) – с – malú; а kayabi, «не-Другой» – с – mína. Однако подобная корреляция сводит на нет непрерывную градацию последовательности явалапити.
Что касается верховий Шингу, Бруна Франкетто (Franchetto 1986) указала на параллели и, что самое важное, на лакуны и расхождения между последовательностью в явалапити и ее возможными аналогами в языке куйку́ро (карибская группа). Несмотря на схожий контраст между эквивалентами – kumã и – rúru, в куйкуро не существует формы, синонимичной – mína; это отсутствие, несомненно, крайне важно, поскольку ограничивает продуктивность какой-либо экстраполяции системы на весь бассейн Шингу, если исходить исключительно из этого уникального лингвистического феномена. Первые исследования Аристотелеса Барселуса Нету (Barcelos Neto 1999: 74, 98–100; 2000) о народе ваура́, который, как явалапити и меинаку, говорит на языке аравакской группы, склонны подтвердить этот анализ модификаторов в явалапити; автор объясняет суффикс – müna (явалапити: – mína) как «обычный» и «видимый», в противоположность необычайным и невидимым сущностям-kumã.
Марсела Коэлью ди Соуза в своем обширном этнографическом обзоре (Coelho de Souza 2002) рассматривает функции качественных суффиксов kumrem, dzwoy, kaàk и kaigo [18] в северных языках группы же. Эти суффиксы довольно часто используются, например, для выражения модальности степени родства. Их было принято переводить соответственно как «истинный», «настоящий», «ложный» и «ненастоящий»; считалось, что они отчасти избыточны (два на два). Мы же, напротив, утверждаем, что они могут образовывать не менее двух неизбыточных пар противоположностей, одна из которых дискретна и категорична, а другая – непрерывна и детальна; здесь нельзя не вспомнить кенсинджеровский анализ системы кашинауа [19].
Еще меньше я был осведомлен о считавшемся тогда авангардом лингвистически-когнитивном подходе – речь о так называемой теории прототипов Элеанор Рош, которая бросила вызов классической, или аристотелевой, теории категоризации (см. Lakoff 1987). Если бы у меня было больше информации на эту тему, то я мог бы предположить, что явалапити задолго до Рош развили этнотеорию прототипов… Но я считаю, что антропологический интерес к категориальной градации как результат недовольства засильем единственной чрезмерно дискретной и «тотемической» концепции классификационного познания – или чрезмерно классификационной концепции познания – в то время был распространенным явлением в среде теоретиков. Несомненно, в нем источник и моего внимания к этому аспекту мышления явалапити [20].
Модификаторы в явалапити играют важную роль в классификации живых существ: – mína указывает на виды или роды определенных животных, а – kumã определяет духовную сущность, apapalutа́pa. Люди, животные и духи – основные полюса макротаксономии, которую мы представим ниже [21].
В качестве перевода португальского слова coisas – «вещи»[22], существа и предметы мира – явалапити предложили мне понятие yakawakа́. Yakawakа́ делятся на: apapа́la «предметы» и ipúla «живые существа»; последние, хотя и относятся «в теории» к yakawakа́, никогда этим словом не называются [23]. К ipúla относятся люди, некоторые животные и растения. С духами всё сложнее: некоторые из моих собеседников относили их к ipúla, добавляя при этом, что они невидимы, а другие относили их к иной категории. Примечательно, что определенные неодушевленные сущности также могут иметь духовный или сверхъестественный характер (если их маркирует – kumã).
Но ipúla также используется для называния, например, «рыбы, которую еще не пожарили», или «сорванной зеленой ветки»; таким образом, это те предметы, которые еще не были преобразованы человеком или которые в некотором смысле еще «живы», то есть пребывают в сыром состоянии. Ipúla можно назвать также еду в потенциальном состоянии. Таким образом, всё свидетельствует о том, что нет понятия, равновеликого нашим «живым существам» [24].
В таксономии того, что можно назвать живыми существами, у явалапити сильнее всего бросается в глаза отсутствие разделения между людьми и прочими животными. Нет какого-то отдельного понятия, соответствующего нашему «животное (то есть не-человек)»; поэтому невозможно свести природу к одной общей идее «животности», как это наблюдается, например, у суйя, которые противопоставляют mbru «животное» и me «человек» (Seeger 1974: 22). Мне указали на следующие основные разграничения в мире ipúla: ipuñöñöri («люди», то есть представители человеческого рода), apapalutа́pa-mína (земные животные; явалапити перевели этот термин как «звери»), kutipíra-mína (птицы), kupа́ti (водные животные; в эту категорию, кроме рыб, входит по крайней мере одна черепаха – тракакса) и pа́tshi, культурные растения (дикие растения мне описали как ipúka-pira «растут одни») [25]. Остальные категории в этой области: utö («звери влажной земли») – разновидность насекомых; и yúlu-yúlu («летающие зверушки»). Для «насекомых» и иже с ними отдельного таксона нет; кроме того, нужно заметить, что на этом общем уровне многим животным не нашлось места [26].
Мы видим, что, за (частичным) исключением людей, базовая классификация мира животных опирается на разделение земля – вода – небо. Например, птицы делятся на тех, кто «ходит на ногах» (курообразные), «плавает по воде», «летает по небу» и т. д. В свою очередь, важнейшими классами в мире растений мне показались ataya (эметики) и irа́na («лекарства»).
В Apapalutа́pa-mína, категорию, которую я обозначил как «земные животные», поскольку именно их, особенно млекопитающих, чаще всего называют в качестве примера представителя этого класса, входят на самом деле некоторые летающие животные, насекомые и рептилии, как то: летучие мыши, пчелы и кайманы. Примечательно, что к этому классу относятся и некоторые рыбы, а именно kupа́ti-mína «большие рыбы», то есть пимелодовые, как сом-плоскоголовик и позолоченный сом. Это приводит нас к установлению центрального для данной работы критерия упорядочения животного мира – критерию пищевого режима. Одной из главных концептуальных осей категоризации мира животных у явалапити являются отношения данного вида с человеком, и, несомненно, пищевая ценность – важная составляющая этих отношений.
Apapalutа́pa-mína, в том числе kupа́ti-kumã, непригодны в пищу. Из числа kutipíra-mína есть можно только некоторых представителей подкласса «ходящих на ногах». Наконец, kupа́ti-rúru — основная пища животного происхождения.
Apapalutа́pa-mína, то есть «звери», – это существа, которые, можно сказать, зависли между людьми и духами. Если переводить буквально, это «почти-духи», «напоминающие духов». Поэтому, когда говорят, что большие рыбы, kupа́ti-kumã – это apapalutа́pa-mína, может иметься в виду, что они похожи на духов, то есть что это не рыбы, а «звери», очень сильно похожие на людей. Как видим, apapalutа́pa-mína находятся в сложной мифической связи с человеком. Близнецы Солнце и Луна, родители людей и дети архетипического Ягуара, родились в деревне apapalutа́pa-mína, которой правил тот самый Ягуар. Появление человечества связано с расколом между близнецами и племенем их отца: первые индейцы, созданные Солнцем из стеблей бамбука-таква́ры, убили всех животных. Но в следующих мифах этого цикла, где Солнце и Луна устраивают первый праздник мертвых, в церемониальной схватке приглашенные рыбы дерутся с хозяевами-зверями, которые названы «народом Солнца» (Kami ipuköñöri). В других мифах apapalutа́pa-mína (они всегда подчиняются Солнцу и Луне) противостоят птицы.
Архетипом, или «начальником», apapalutа́pa-mína является, как было сказано, ягуар, yanumaka. Это единственное животное, лишенное kawíka (страха или уважения) перед людьми; данное свойство сближает его с духами, к которым люди, в свою очередь, относятся с большим kawíka. Абсолютная противоположность ягуара – макака kúji-kúji (общее название маленьких представителей капуциновых). Это единственный apapalutа́pa-mína, которого явалапити можно есть, причем объясняется это довольно курьезно: «она похожа на человека» (Бассо приводит аналогичный аргумент у калапало – Basso 1972). Ягуары едят людей, люди едят макак; кто-то сказал мне: «люди – макаки ягуара» [27]. В определенных контекстах, в частности во время охоты, макаку называют ipuñöñöri, «человеком»: эта метафора не дает дичи убежать от охотника [28]. Для этоса народов бассейна Шингу характерен пацифизм; таким образом, когда во время охоты на макак человек говорит, что охотится на человека, это следует считать иронией.
Первые макаки были младенцами мужского пола, брошенными Amurikumа́lu – женщинами-чудовищами, которые ушли из человеческого общества. Об этом напомнил мне один собеседник, когда я спросил его, почему явалапити едят макак. Иными словами, макаки – это люди, вернувшиеся в мир природы, где царит ягуар, фигура, от которой люди отделились в начале времен. Мне кажется, что выбор макаки как пищи – причем пищи наименее опасной: макаку первой едят после ритуального поста – требует считать ягуара третьим опорным пунктом системы. Макаки соответствуют людям в рамках apapalutа́pa-mína, а ягуар – не-человеческая квинтэссенция этой категории живых существ [29]. Поэтому поедание макак должно напоминать людям о том, что они отличаются от ягуаров (а следовательно, и от зверей)? Кажется, макаки и ягуары некоторым образом подчинили себе мышление явалапити, воплощая комплементарные аспекты античеловечности [30]. Мы – то, что мы едим; но также мы – противоположность того, что едим; оба этих утверждения верны для поедания людьми макак.
Если макаки – это пища, особенно пригодная для людей, то apapalutа́pa-mína, в свою очередь, причитаются в пищу ягуару [31]. Солнце и Луна пытались уговорить своего отца перестать есть людей и начать есть исключительно зверей; этот договор устанавливает разделение между людьми и ягуарами, о котором вспоминают всякий раз, когда люди едят макак (и, наоборот, когда на человека нападает ягуар).
Но рыба – существо, более всего пригодное в пищу человеку. Макаки и рыбы образуют противоположность в другой оси координат, чем макаки и ягуары: рыбы сильнее всего отличаются от человека и поэтому являются его характерной пищей; макаки, самые похожие на нас звери, употребляются в пищу в «допищевых» ситуациях: их едят, когда рыбу есть еще нельзя.
Можно предположить, что особое положение «зверей» связано с тем, что люди на самом деле и сами относятся к apapalutа́pa-mína и/или наоборот. Я часто слышал, что «apapalutа́pa-mína – это ipuñöñöri», то есть «звери – это люди». Архетипы человечества, Солнце и Луна, родились от союза Ягуара с женщиной-человеком (ее создал демиург Квамути́), и при этом они ассоциируются со «зверями» в противоположность рыбам и птицам [32].
Стоит отметить, что мифические близнецы, отринув родство с Ягуаром и связавшись чувственно и «таксономически» с человеческой матерью, вступили в противоречие с индейской теорией зачатия, согласно которой детородной функцией обладает только отец. Отрицание животности через отрицание отцовства, утверждение культуры путем материнства – эту идею сложно назвать ортодоксальным фрейдизмом [33].
Родство «зверей» с духами, подчеркиваемое самим названием этой категории, на первый взгляд неочевидно, поскольку если apapalutа́pa-mína и люди живут на земле, то духи пребывают повсюду, причем самые могущественные из них живут в воде. Мне представляется, что apapalutа́pa-mína – это почти-духи именно по причине своей неясной связи с человеком. Будучи похожими на зверей ареалом обитания и способом появления на свет [34], люди становятся людьми, отрицая свою связь с apapalutа́pa-mína. Я заметил, что явалапити используют эквивалент слову «зверь» [порт. bicho. – Примеч. пер.] в таком же двойном значении, какое оно имеет в разговорном португальском: это и «животное», и «неизвестная тварь, чудовище» [35]. Характерно и то, что ягуар – начальник или прообраз apapalutа́pa-mína, поскольку свирепость и людоедство приближают это животное к классу духов. Однако нужно отметить, что «хозяин» (wököti) apapalutа́pa-mína – совсем не ягуар, а человекоподобное сверхъестественное существо Апа́ша (Apasha), своим внешним видом удивительно напоминающее макаку [36].
Как бы то ни было, apapalutа́pa-mína отличаются от прочих категорий живых существ своей непригодностью в пищу; этим они схожи с духами, этой кульминацией несъедобности. Духи вызывают болезни, они требуют от больного и его семьи различных видов пищевого воздержания, а также церемониальной раздачи еды сообществу; раздает еду тот, кто от нее воздерживается. Духи не только не дают себя есть: они сначала запрещают нам есть, а потом требуют, чтобы мы давали есть им – возможно, чтобы не быть съеденными ими [37].
Птицы (kutipíra-mína) обитают в небесных деревнях под началом Двуглавого грифа (ulúpu iöhöwtiw). Прототип класса – хищные птицы, которые периодически сражаются с душами мертвых на небесных праздниках. Птицы научили людей многим церемониям, в частности Iralа́ka (ирала́ка, дуэль на дротиках) и Pihikа́ (пихика́, ритуал прокалывания ушей у подростков). Именно Гриф установил закон, по которому подростки должны временно становиться отшельниками. В целом крылатые создания ассоциируются с молодежью (wikinöri), что заметно по рисункам на теле, особенно во время пихика́, когда детям рисуют на лице птицеподобные узоры, а также по отношениям между детьми и шеримба́бу (домашними животными).
Действительно, kutipíra означает и «птицу», и «шеримбабу»; поэтому даже собака в этом смысле может быть kutipíra. Явалапити, подобно другим народам бассейна Шингу, любят играть с попугайчиками, попугаями, питангами и другими птицами. По центру деревни стоят большие конусообразные клетки с гарпиями, а их перья используются для украшения.
Отношения между kutipíra и их хозяевами выражаются в языке формулами усыновления: хозяин растит своего шеримбабу[38] и заботится о нем, как о ребенке. Есть мифы, в которых рассказывается о том, как умершие птицы помогают путникам на небе, благодаря их за заботу, полученную на земле. Таким образом, отношения сохраняются и после смерти, поскольку небо – это мир птиц и душ. Kutipíra хоронят рядом с гамаком хозяина, считается, что у них есть душа (ipaiöri). Примечательно и то, что членов клана amulaw называют kutipíra, а предводитель «кормит» их и «заботится» о них. А представитель деревни (putа́ka wököti) обращается к своим избирателям nuñañaw «мои дети» или yumönaw «детвора».
Рыба – основа рациона народов бассейна Шингу. Ее потребление связано с бесчисленными ограничениями, которые мы вскоре рассмотрим. Пока я лишь напомню о важности разделения рыб на покрытых чешуей (irа́ta «скорлупа») и лишенных ее (imа́ «кожа»), а также о том, что первые предпочтительнее вторых. Рыбы с острыми зубами опасны для больных, поскольку могут вызывать боли. Рыбы научили людей церемонии тапанавана́н (Tapanawanã), а животных позвали драться против народа Солнца во время первого ритуала в честь матери Близнецов.
В мире животных имеется иерархия, подобная человеческой: здесь есть предводители, воители («хозяева битвы») и шаманы. Рыба кара́ (yatakúlu, рыба из семейства цихловых) – шаман рыб; большая питанга – шаман птиц; анаконда – воитель змей; сфирена – воитель рыб; ягуар – воитель земных животных. Гремучая змея – вождь змей; пая́ра (скумбриевидный гидролик из отряда харацинообразных) – вождь рыб. У животных тоже есть деревни – по одной у каждого вида. Кроме того, группы животных (рыбы, птицы, звери) и их отдельные виды могут иметь собственного «хозяина», wököti, подобных широко распространенным среди америндейских народов Хозяевам животных (см. Reichel-Dolmatoff 1973). Такой хозяин может быть животным-kumã или духом, имеющим собственное имя. Кайман (yakа́ или yakа́-kumã) – хозяин рыб; Апаша – хозяин apapalutа́pa-mína; Двуглавый Гриф – хозяин птиц.
Как и следовало ожидать, различные виды и группы животных имеют свою символику: лисица символизирует мертвых, чьи души видели это животное (или змей) ночью; бабочки связаны с Апашей [39]; красный ара – с Солнцем; гарпия и ягуар – с вождями (украшения из шкуры и когтей ягуара носят исключительно amulaw); кайман – с кариокаром; птицы, как уже было сказано, с молодежью. Кроме того, если учесть, что рыбы были первыми противниками Солнца и Луны на празднике мертвых, можно провести аналогию между ними и участниками совместных междудеревенских церемоний. Что касается растений, маниок и кариокар связан с женщинами; эметики – с мужчинами-отшельниками; а различные коренья и другие растения, такие как перец и табак, – с шаманами.
Пища у явалапити делится на три основные категории: otsökö — пища, жаренная на открытом огне или на углях; wakúpö – сваренная в воде и yulatа́ka – запеченная на медленном огне на мокéне (решетке из прутьев). Для приготовления маниоковой каши применяются другие критерии, здесь важнейшее значение имеет понятие «разбухание», то есть достижение однородной консистенции (utukwа́). О сыром мясе говорят а́tsa otsökö pа́ «нежареное». Это само по себе интересно, поскольку жарка оказывается самым «естественным» способом приготовления пищи. После инициатического поста отшельникам категорически запрещается есть жареное: у подростков (maritshaya) от этого может случиться паралич конечностей, поскольку жареная пища противоречит принимаемым ими рвотным травам; у шаманов при инициации она открывает тело стрелам духов (apapalutа́pa inukúla), вызывая сильные боли; а у отцов, соблюдающих постельный режим после родов жены (кува́да), она «останавливает кровь» в животе. Шкала снижения опасности пищи выглядит так: жареное, печеное и вареное, то есть чем дальше от огня, тем пища безопаснее. Вареная пища ассоциируется с женщинами, которые носят воду; женская менструация загрязняет всю вареную еду в доме, но не жареную.
Эта естественная виртуальность жареного, его минимальная способность культурно изменить пищу, связана с одним фактом, на который часто обращали мое внимание: жареная рыба сильнее всего сохраняет характерный запах ahí. Для культуры явалапити характерна классификация по запаху, что помогает нам понять принципы основы пищевого режима этого народа [40].
Обонятельный код крайне разнообразен. Прямой интерес для нас представляют два понятия, поскольку они связаны с классификацией животных и указывают на телесные состояния. Первая – это запах (isha), который называется ha. Это запах apapalutа́pa-mína и человеческого пота, а также съедобных животных, которые стали несъедобными из-за того, что съели iñöyö «отвратительные» вещи – например, рыбу, в желудке которой обнаружили экскременты капибары. Ha – запах человеческого тела, он сильнее всего у взрослых людей обоих полов; у детей и стариков «нет запаха». Второе понятие – упомянутый выше ahí, запах рыбы, крови и семени, а также в целом запах секса. После полового акта человек становится ahí-mína, и рядом с ним или с ней опасно находиться любому другому человеку в пограничном состоянии. Женщины также источают ahí во время менструации [41]. Единственная другая субстанция, источающая ahí, – это женипапу. Из этого плода делают мазь, которой разрисовывают или раскрашивают тело молодых людей, вышедших из инициатического отшельничества, а также людей, закончивших траур. Женипапу может означать обретение половой зрелости или возврат к половой активности (Agostinho 1974a: 136).
«Ahí púka hã?» («Еще есть запах?») – так интересуются, достаточно ли проварена рыба. Считается, что при подготовке в пищу рыба теряет значительную часть своего ahí. В одном мифе народа камаюра́, записанном Этьеном Саменом (Samain 1991), появляются другие связи, которые позволяют включить в систему запах – сексуальность – пища плод пеки́. Первое дерево пеки выросло из праха неугомонного любовника-каймана, который совокуплялся с двумя женщинами. (В некоторых известных мне вариантах пеки рождается из яичек каймана.) Изначально запах этого плода был «плохим», полным секса, ahí. Потом Солнце отдало плоду изначальный запах женских гениталий, а им взамен отдала резкий запах определенного вида муравья. Но при этом пеки также является – как и кайман – фаллически-семенным символом; говорят, что от него живот округляется скорее у женщин, чем у мужчин.
Ahí запретно для людей в переходном состоянии: молодых людей в период подросткового отшельничества, учеников шаманов, отцов после родов жены, а также всех людей, которые не могут есть рыбу. Мне кажется, что здесь дело не в отрицательной корреляции крови и рыбы (как считает Бассо – Basso 1972), а в опасной избыточности, поскольку люди в пограничном состоянии связаны с кровью: подросткам часто наносят ритуальные шрамы, у отца после родов жены живот наполнен кровью [42]. А для шаманов проблема в том, что вещи-ahí обладают «стрелами», и ученик должен стать неуязвимым для этих переносчиков болезней, поскольку потом он будет иметь с ними дело. Примечательно то, что духи, сами лишенные запаха, обладают сверхчувствительным обонянием, и ahí особенно им не нравится: им противен запах людей, особенно запах сексуальных отношений. С другой стороны, души мертвых (yakulа́, дословно «тень») также не любят запаха живых, но у них самих есть свой очень сильный запах, который также называется ahí (ahí-rúru). Что любопытно, поскольку кровь у душ очень слабая и нематериальная. Я не знаю, как разрешить это видимое противоречие [43].
Пищевые ограничения у явалапити вращаются вокруг понятия ahí: принимаемые в период отшельничества эметики несовместимы с этим запахом, поэтому отшельники должны держаться подальше от рыбы, секса и женщин в период менструации. Последние, в свою очередь, не едят рыбу, чтобы избежать вышеупомянутой дополнительности: поскольку они уже «с кровью», избыток ahí вызвал бы свертывание субстанций в животе. Больные и их семьи также воздерживаются от употребления рыбы; некоторые люди объясняли мне это тем, что у рыб, особенно крупных, есть стрелы, а болезнь вызывается стрелами, выпущенными духами или колдунами; другие говорили, что в рыбе много ahí.
Но откуда берется связь рыбы и сексуальности? [44] Мне кажется, что дело не просто в органолептике, а в том, что этот вопрос является концептуальным. Рыба, скорее всего, является главной пищей животного происхождения, и как таковая она дополняет маниок – прототип растительной пищи, именно маниок в виде лепешек первым едят отшельники и больные – и противостоит ему. Говоря о противопоставлении живых и мертвых, мои собеседники говорили, что «рыба души – это сверчок». Конечно, это далеко не столь питательно, как тукунарé [цихла. – Примеч. пер.] или брикон, но душам в самый раз, ведь у них «тоненькая кровь», если вообще какая-то есть, и сексом они не занимаются.
Напомним также, что несъедобные животные (apapalutа́pa-mína и большинство птиц) имеют такой же запах, как сексуально активные люди, ha, при том что запах рыбы – это запах сексуальности. Несмотря на обонятельное сходство рыбы, семени и крови, отношения между ними неравны: употребление в пищу рыбы перекрывает свободный выход крови, заставляя ее свернуться в животе – точно так же, как сперма остается в животе женщины, «перекрывая» путь крови и образовывая плод. Но, в свою очередь, мальчики в период отшельничества должны удерживать свое семя.
«Антонимом» рыбы, то есть пищей отшельников, являются рвотные травы, то есть эметики – ataya. Культура народов Шингу глубоко развила символику рвоты как антипищеварения. Рвотные травы применяются на каждом этапе ритуального перехода, особенно во время подросткового отшельничества у мальчиков; считается, что они помогают создать взрослое тело воина. Кроме того, некоторые люди в разговоре со мной утверждали, что ataya своим действием производят семя. Рвотные травы (помимо шрамирования) также используются для кровопускания живота отца после родов жены [45]. Так, рыба не должна входить, кровь должна выходить, семя не должно выходить. Ataya укрепляют эту динамику: производят семя, удаляют кровь, исключают рыбу. Если последняя – главная пища и символ сексуальности, то ataya – антипища, формирующая тело в сфере, альтернативной сексуальности: они являются метафорой семени. Ataya укрепляют тело, меняют его («изменение тела» – цель инициатического отшельничества), огрубляют его – в буквальном смысле воплощают плоть. Стоит отметить, что растительные смолы (и мед) называются yа́tshi «семя», а употребляется в этом случае ataya yа́tshi, то есть смола, или сперма ataya.
Ataya wököti – антропоморфный дух, покровитель ataya, воплощение идеальных качеств воина, ненавидит сексуальность и кровь до такой степени, что мужчины должны прервать терапевтическое шрамирование на время принятия рвотных трав. Рвотные травы очищают и защищают тело; незадолго до праздника, на котором будет схватка, их применяют, чтобы «запах старой рыбы», которой угощают устроители, не ослабил воина; ataya употребляют перед началом активной половой жизни, во время подросткового отшельничества, а также при возобновлении активной половой жизни; ученики шаманов употребляют их перед возвращением к нормальной жизни.
Явалапити знают множество видов эметиков, каждый из которых применяется для определенных целей, в определенное время года, для определенного пола и т. д. Сильнейший (или kawikа́ri – опасный) из них – это túti (мукуна, растение семейства бобовых); его применяют в начале подросткового отшельничества у мальчиков, а его применение может нанести непоправимый ущерб здоровью. Женщины тоже пользуются рвотными травами, чтобы сформировать у себя взрослое тело или прервать поток менструационной крови; мужчины считают эти травы слабыми и незначительными. Рвотные травы для подросткового отшельничества приписываются Грифу в соответствии с мифологической связью между помещением, в котором пребывает отшельник, и небом. Запах рвотных трав называется hipúka – к этой категории также относится запах ядовитого сока маниока. Судя по всему, существует связь между ataya и ядом: первые могут быть ослабленной версией второго. Так, тимбо́ (tyúma), лиана, сок которой используется для отравления птиц, собирается отцом ребенка, рожденного вне брака, с целью убить «червя», живущего в животе родителя. Отсюда корреляция: (законный родитель: кровь в животе: эметик):: (незаконный родитель: червь в животе: яд для рыбы). Это к тому же косвенно подтверждает связь между рыбой, сексуальностью и кровью.
В этой системе участвуют еще две субстанции, находящиеся на периферии пищевого режима: перец и табак. Они оба – kahiúti, болезненные или обжигающие; оба – неотъемлемый элемент диеты шаманов. Курят только взрослые мужчины; табак – любимая субстанция духов, которым нравится его запах örö (он, таким образом, контрастирует с кровью и генитальными выделениями, которые духи ненавидят). Однако этот запах непозволителен для воина, поскольку ослабляет его; молодежь не курит, а ataya wököti ненавидит запах табака. Так, если рвотное – отличительный знак воина, то табак и перец – отличительные знаки шамана. Табак – непревзойденный инструмент преображения; демиург Квамути создал первых людей, раздувая дым над дровами; Солнце воскресило Луну окуриванием. В мифах встречается огромное количество эпизодов, когда табак оживляет, залечивает раны и восстанавливает силы. Флейты apapа́lu – изначально водные духи – были захвачены при помощи перца и – особенно – табака.
В целом табак можно назвать эквивалентом и духовным дополнением спермы. Если последняя производит людей, то первый воссоздает и лечит их, поскольку является основным орудием шамана. И если подростковое отшельничество связано с ataya – один из эпитетов отшельника звучит как ataya ötsöri «принимающий рвотные травы», – то лечение болезней и инициация шамана, когда духи выбирают человека через болезнь, связаны с табаком. Ataya и aíri (табак) – антипища или парапища, они занимают избыточное пространство и время социокосмического перехода; тем самым они противостоят рыбе, особенно жареной – сверхпище, непосредственно связанной с основными элементами человеческой сексуальности [46].
Таким образом, можно установить корреляцию между этими тремя субстанциями, играющими центральную роль в различных аспектах производства тела: семя для природы – то же самое, что рвотные травы для культуры и табак для сверхъестественного аспекта. Из этого можно сделать вывод, что пищевую систему явалапити, как и другие аспекты их космологии, нельзя свести к дуализму природа – культура. Начиная с рыбы как сверхдетерминированного символа, аналогичного крови, но имеющего фаллические черты, увеличивающего живот, сворачивающего кровь и пускающего духовные стрелы [47], мы пришли к таким парапищевым субстанциям, как рвотные травы и табак, и к таким телесным субстанциям, как кровь и семя.
Пищевые ограничения опираются на два основных понятия: tiñokötí „пост“ и kanupa; последнее, возможно, соответствует «рейме» (reima) амазонских кабо́клу[48], обозначая негативное влияние определенных субстанций на людей в переходном состоянии, особенно детей. Оба этих понятия не ограничиваются питанием, но охватывают и другие виды деятельности.
Воздержание tiñokötí налагается на: подростков в начале инициатического отшельничества; родителей (обоих полов) после родов; начинающих шаманов; мальчиков, которые прокололи уши в церемонии Pihikа́; больных, особенно тех, которых поразили невидимые стрелы духов или колдунов; женщин во время менструации. Во всех этих случаях tiñokötí является частью более широкого списка ограничений, в который входит ограничение подвижности (человек становится patakwarа́ta «неподвижно лежащим в гамаке») и более или менее строгое исчезновение из социума. Что касается питания, tiñokötí может представлять собой и абсолютный пост, и запрет определенной пищи – почти всегда рыбы, особенно крупной. Понятие воздержания применяется также к запрету на сексуальные отношения, который сопутствует пищевым ограничениям во всех перечисленных случаях.
Воздержание определяет группу людей (в идеале четко очерченную), связанных телесными узами: это tiñökölaw «те, кто держит пост», те, ради кого я воздерживаюсь. Человек может воздерживаться ради себя, а может и ради других. Родители проходящего инициацию подростка в начале периода его отшельничества не могут иметь сексуальной связи (о них говорится, что они «делают сына»; то же самое можно сказать и про зачатие, но теперь секс как раз под запретом); то же самое касается родителей, особенно отца (yumamukú wököti «хозяина ребенка»), в период после родов – ему следует воздерживаться от секса и рыбы, причем в первую очередь ради самого себя, чтобы кровь покинула его живот, и он вновь обрел силы, а потом уже ради ребенка; шаман, проводящий обряд инициации другого шамана, тоже воздерживается от секса и рыбы, поскольку является отцом инициируемого; наконец, родители, братья и дети-rúru больного (то есть связанные с ним близкими и дозволенными обществом телесными узами) должны воздерживаться от рыбы, чтобы не причинять боли родственнику.
Итак, tiñokötí определяет межтелесные связи между родственниками, выражая непрерывность внутри общины как субстанции [49]. Примечательно, что это единство выражается через серию запретов и что она вырастает из сексуальности, поскольку межтелесность вытекает из родства (в случае шамана ведущий обряд инициации считается его «отцом»). Практика tiñokö, судя по всему, связана с идеей о том, что людей создала какая-то группа; этот обычай подчеркивает единство семьи и родителей. Напротив группы или, точнее, категории tiñökölaw находятся iwíkalaw «те, кого я уважаю», то есть те, к кому я испытываю kawíka: свойственники. Tiñökölaw, или консубстанциальные, определяются совместным воздержанием; iwíkalaw, или свойственники, – это те, чьего имени я не называю. Первых объединяют отношения единства и непрерывности субстанции; вторые находятся в отношениях взаимности и прерывности субстанции. В определенном смысле можно сказать, что iwíkalaw – это особый случай более широкой категории, противопоставленный воздерживающейся группе: община деревни, связанная с tiñökölaw через пищевое распределение при болезни, когда субстанционная группа больного воздерживается и впоследствии производит пищу, передаваемую общине (сама группа эту пищу никогда не ест) во время праздника в честь духа, вызвавшего болезнь [50].
Делать tiñökö ради другого человека – значит подчеркивать отношения консубстанциальности; не произносить имени другого человека – значит подчеркивать отношения свойства́. Не есть или не говорить: комплементарные запреты выражают комплементарные отношения [51].
Легко заметить, что воздержание требуется в тех ситуациях, когда человек находится в контакте с антисоциальными или парасоциальными силами, то есть в моменты кризиса или перехода. Воздержание – способ выразить и контролировать эти кризисы. Любая коммуникация между космическими сферами сопровождается tiñökö. Несоблюдение пищевого или сексуального запрета может привести к физическому недомоганию; однако в случае поста ради самого себя оно превращает человека в ipuñöñöri-malú – человека второго сорта и возможного колдуна. Колдун – этот тот, кто, среди прочего, не соблюдает пищевых запретов, неспособен контролировать свои отношения с внесоциальным миром [52]. В противоположность колдунам и плохим людям, amulawnaw (знать) и ipuñöñöri-mína — люди щедрые, соблюдающие ограничения tiñökötí. Как мы видели, щедрость и воздержание – две стороны одной медали. Tiñökötí, таким образом, помогает в определении этоса явалапити; он удваивает kawíka, уважение и щедрость [53]. Tiñökö ради консубстанциальных родственников или ради себя самого говорит о щедрости и готовности раздавать еду свойственникам и общине в широком смысле слова.
Практика tiñökö свидетельствует о наличии неразрывной связи между телесными и общественными состояниями: изменения в теле и изменения тела всегда сопровождаются сменой социального статуса. В этом смысле избегание употребления apapalutа́pa-mína можно рассматривать как обобщенный вид tiñökö, определяющий собственно социально и телесно «свое» человечество – людей Шингу.
Человек во время любого пищевого воздержания, как правило, употребляет безвкусную пищу; сладкую пищу (pujúa), такую как мед или каша nukа́ya, есть нельзя, соль тоже под запретом. Категорически запрещена пища, имеющая ahí. Первая рыба после поста – маленькая и нежирная, из тех, где меньше всего ahí. Это своего рода испытание, часть важной для культуры Шингу этики очищения и аскезы. Tiñökö сопутствуют эметики – основное орудие очищения; они тоже употребляются без усилителей вкуса (iñöÿö «противные, безвкусные») и не могут сочетаться с приправленной пищей.
Особый класс видов пищи и практик, которых следует избегать во время воздержания, называется kanupa. Вещи-kanupa опасны для маленьких детей, больных и всех людей в переходном состоянии. «Nukanupaa pа́», «Я kanupa», – объявляет человек, который только что имел сексуальную связь или у жены которого менструация; он не может прийти к тому, кто употребляет ataya (подростку-отшельнику), к начинающему шаману, к тяжелобольному. Консубстанциальной группе больного человека нельзя есть некоторые крупные виды рыб и даже определенные виды, как, например, скатов и паку, поскольку они kanupa. Некоторые животные «очень kanupa», как, например, бритвоклювый кракс или тинаму-пустынник. Животные, которых называют umañí (см. следующий подраздел), в высшей степени kanupa. Но этот термин описывает также некоторые действия, которые запрещается совершать родителям маленьких детей: убивать ягуаров, собирать перья тукана, делать гребни (от этого сжимается живот ребенка) и ожерелья. В некоторых случаях проводится аналогия между действием и телесной реакцией детей; в других случаях речь идет о животных umañí или о неизвестных мне причинах [54]. Некоторые мотивы музыки флейт apapа́lu называют kanupa; детям нельзя их слышать.
Говоря о разновидностях беседы в обществе явалапити (так называемых речевых жанрах), мои собеседники последовательно подчеркивали различие между нарративным модусом awnatí — я бы перевел это как «миф» – и inutayа́, что означает «история» и/или «быль» [55]. Персонажи и события, происходящие в рассказах awnatí, как я заметил, отражают образцы и причины того, что должно произойти в настоящем.
Большинство антропоморфных мифических персонажей, как демиург Квамути или близнецы Солнце и Луна, называют awapúka «наши первые/те, кто начал нас» (основа púk- «прорастать, расти»). В свою очередь, предки, о которых идет речь в inutayа́, классифицируются как shikúñalaw «древние» или tshawakа́law «вчерашние». Это «вчера» указывает на обязательную связь с сегодняшним днем, эта связь контрастирует с природными различиями, отделяющими нас от существ, встречающихся в awnatí, от «наших первых», awapúka. Время, в котором жили – или, точнее, живут – awapúka, характеризуется как «другое время» (kumã iwа́ku): оно «другое», потому что отличается от актуального по своей природе.
Лучше различать свойства мифического времени помогает разделение между awapúka и существами, называемыми umañí — это слово мне перевели как «творение». Оно характеризует всё то, что было создано awapúka, то есть обозначает прототипы актуальных существ. Слово umañí, скорее всего, происходит от корня umа́- «делать, производить»; тем не менее его не следует путать с inumakinа́ – причастием от этого глагола, обозначающим сделанное руками человека; как мне сказали, umañí – это «inumakinа́, сделанное awapúka».
Мне стоило большого труда получить четкое и ограниченное определение понятия umañí; мои собеседники перечисляли подпадающих под него существ: «люди, звери, вода, земля, улитки (из раковин которых делают ожерелья), которых Такума́н нашел (в таком-то месте)…» В ряде случаев некоторых животных относили к umañí, что делало их непригодными в пищу в конкретной ситуации: например, тинаму-пустынника нельзя есть отцам новорожденных детей, а тапира, ягуара, белобородого пекари или пампасного оленя нельзя есть никому из обитателей Шингу. Как правило, эта классификация охватывает животных, которые играют важную роль в мифологии; при этом многие «вещи» (yakawakа́) тоже относятся к umañí, например, используемые в ожерельях гладкие диабазовые камешки или отличительные атрибуты различных этнических групп, как то: глиняная посуда, луки из определенного вида дерева, рыбацкие ловушки, ружье белых людей и т. д. [56] Umañí – это качество, которое легитимирует или повышает онтологический статус объекта: некоторые аксессуары, например, приносящие богатый улов камни в форме рыбы или осколки керамики, якобы оставленные исчезнувшим племенем, тоже umañí, потому что они «были всегда» и не являются рукотворными. Но прежде всего и прежде всех umañí – это apapalutа́pa. Или, точнее, всё то, что является umañí, в той или иной степени является «духом».
Об awapúka говорят, что они умирают (или умерли); в свою очередь, существа umañí бессмертны, makamа́ri. Так, мне часто говорили, что Солнце, Луна и Квамути – прежде всего umañí, а не awapúka, поскольку они еще живут у истоков человечества – в перевале Морена́. Я считаю umañí более инклюзивным понятием по сравнению с awapúka, так как оно не требует эксплицитного указания создателя.
Когда я спрашивал местных жителей, какие из животных являются umañí, чаще всего мне приводили в качестве примера животных, которых некоторые из явалапити видели в зоопарках Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Например, когда я спрашивал, является ли ныне живущий кайман тем самым мифическим животным, от которого родилось дерево пеки, мне отвечали: «Тот, который живет здесь, нет. А yakа́-kumã, который живет в Рио, да» (имелся в виду африканский крокодил или – скорее – черный кайман). Животные umañí были слишком свирепы, поэтому Солнце и Луна, формируя современный облик мира Шингу, «прогнали» их. Эти животные отправились «в Африку»; «остался только ягуар», более непосредственно связанный с мифическим миром. Как видно, пространственная дистанция отражает временную; в Рио живет то, что жило в мифах.
Другая основополагающая характеристика мифических животных заключается в том, что они имели или имеют человеческий облик, но ведут себя как животные – либо, напротив, ведут себя как люди, но облик имеют звериный. Первый кайман – человек в «одежде» (inа́) рептилии; Ягуар, отец Близнецов, имеет вид большой кошки, но ведет парасоциальный образ жизни.
Однако, когда я однажды спросил, относятся ли люди к umañí, мне ответили, что «мы», присутствующие, не относимся, а вот «люди» да [57]… Если я правильно понял, речь идет о том, что человек как вид, как существо – umañí, но не конкретные люди; umañí – это putа́ka ipúka, предки-образцы людей Шингу, созданные Солнцем и Луной. Поэтому, если о животном говорят, что оно umañí, имеется в виду вид, а не конкретная особь: именно вид является umañí, и как таковой его представляет мифическое существо, которое в крайнем случае может актуально присутствовать лишь за пределами пространства обитателей Шингу.
Поэтому umañí, скорее всего, указывает на мифическую сущность; awnatí – это рассказ о вещах umañí, об образцах и моделях; именно это отличает этот вид речи от inutayа́. Татиньова́лу, вождь «первой деревни явалапити», может показаться антропологу мифическим персонажем, но он не упоминается в awnatí, он не yawalapíti ipúka, он простой человек. Реалии umañí определяют скорее не образцы, а онтологическое деление на первобытные архетипы, и то, что существует сегодня – слабые подражания источнику. Здесь не просто идеализируется прошлое, здесь действительно идет контрэманация актуальных состояний в виде идеальных прототипов. Платонизм? Этот ярлык так и просится к этому понятию, поскольку вещи действительно umañí, в смысле идеи или концепции.
Одна из основных тем мифологии народов Шингу – это отличие между первобытными образцами и их последующими актуализациями. Так, плоды первозданного дерева пеки были крупнее, у них было много мякоти, а косточки были меньше; первые флейты apapа́lu были водными духами, но тот, кто открыл их, спрятал духов, сделав для подражания им деревянные дудочки, чей голос никогда не сравнится с первозданным (Villas Boas 1972: 101 и далее; Agostinho 1974b: M26). Первые люди были сделаны из дерева демиургом Квамути, который оживил их при помощи стволов того же дерева; поскольку человек не может этого сделать, смерть становится поводом для церемонии (Ицати́ – Itsatí, у камаюра квари́п или квару́п – Kwaryp или Qauarup), во время которой стволы дерева используются как образец или символ покойного. Близнецы Солнце и Луна являются не только создателями индейцев бассейна Шингу, но и их образцом: большинство их приключений строится на мотиве первого установления практик, принятых обитателями Шингу: борьбы, шрамирования, шаманизма.
Когда я спрашивал своих собеседников, почему они это делают (занимаются шрамированием, борются, соблюдают пост), они никогда не давали ожидаемый, казалось бы, ответ: «Это наша традиция, мы всегда так делали». Вместо этого они или принимались рассказывать о последствиях: мы не едим рыбу после рождения сына, потому что иначе живот распухнет и кровь не будет выходить и т. д.; или, еще чаще, напоминали: «Так научило нас Солнце, оно делало это первым». Также иногда они рассказывали фрагменты мифа о сотворении того или иного обычая. Хотя я не могу описать, в какой «естественной» ситуации в качестве объяснения может быть использован миф, по крайней мере в разговоре с антропологом, явалапити очень нравилось пояснять свое современное поведение через мифологические события. Мой учитель Пару́ так критиковал молодого куйкуро, имевшего сексуальную связь с тещей: «Этот парень становится похож на Вараку́ни». Впоследствии я узнал, что Варакуни – это имя человека, который первым вступил в инцестуозную связь (правда, не с тещей, а с сестрой; см.: Schultz 1965–66: 76 и далее).
Таким образом, миф – это не только архив первобытных событий, навсегда утерянных на заре времен; миф постоянно направляет и оправдывает настоящее. География данного региона усеяна местами, где имели место мифические события; церемонии объясняются инициативой мифических существ («Первым праздник устроило Солнце»); мир населен бессмертными существами, живущими с начала времен; создатели человечества так или иначе всё еще живы в Морена́. На самом деле мифическое время – это не только и не столько точка в хронологии. Совершенный мир мифа склоняется, так сказать, к прошедшему несовершенному или даже к своего рода аористу [58]. Существа umañí всегда есть, они живут в полувоплощенном виде, в виде категорий; действия людей подражают действиям образцов. Миф существует как временна́я и прежде всего понятийная отсылка.
Церемонии – главный способ общения с мифическим миром. В верховьях Шингу ритуалы делятся на два основных вида: 1) праздники в честь духа – как правило, того, который вызвал болезнь у «хозяина» церемонии; они не выходят за рамки деревни; активные участники ритуала – танцоры, певцы и музыканты – представляют этот дух визуально или музыкально; 2) церемонии с участием нескольких деревень: сюда относятся праздники в честь умерших аристократов (ицати́ [Itsatí] или амакака́ти [Amakakа́ti]), дуэль на дротиках (ирала́ка [Iralа́ka]) и праздник прокалывания ушей (пихика́ [Pihikа́]), которые не связаны с каким-либо духом и не имеют конкретного хозяина. Этот второй вид церемоний был учрежден близнецами Солнцем и Луной; согласно мифу, участвующие в нем деревни населены животными, которые живут в различных средах: земные животные против птиц, рыбы против земных животных. Первый тип церемоний включает в себя песни и танцы, которым научился человек, контактирующий со сверхъестественным миром: один человек посетил подводный мир и увидел церемонию Тапанавана́н (Tapanawanã), другой поймал духов или флейты апапа́лу и т. д. В обоих случаях ритуал повторяет действия, описанные в мифе; миф фактически становится главным объяснением ритуальных действий, чей символизм, кажется, не имеет другого толкования.
Тем временем, обратившись к мифу, мы увидим, что ритуал – это не просто его повторение или инсценировка. На самом деле ритуал посвящен невозможности точного повторения. «Теперь будет только праздник», – сказал демиург, когда ему не удалось превратить стволы деревьев в воскрешенных людей; так человек стал смертным. То, что мы назвали бы ритуалом или церемонией, явалапити называют jumualhí [жумуальи́]; мои собеседники переводили его как «праздник» или, в более широком смысле, как «радость». Мифическая речь авнати́, с другой стороны, делится на две разновидности: рассказы kihа́ri [киха́ри], то есть «ароматные», иначе говоря, пикантные или скабрезные (как правило, истории о сексуальных похождениях), рассказываемые для развлечения; и великие мифы о сотворении, которые называют katupa [катýпа], то есть «грустными» [59]. Таким образом, миф – это грусть, а ритуал – радость. Что это может означать? Можно предположить, что мифический нарратив открыто или подспудно подразумевает различие между образцом и низшим подражанием, между духом и его схематическим представлением, между событием и воспоминанием о нем. Таким образом, ритуал превращает в радость грусть, вызванную осознанием этого различия, приближая события мифа к современности. Но при этом различие между праздником и реальностью ярко выражено: ритуал повторяет то, что было правдой в мифе, а сегодня это подражание (ishorikutaa pa «подражать» – так говорят, например, об участниках праздника Amurikumа́lu [Амурикума́лу], который устраивается в честь мифических амазонок) или символ (pitalatíji [питалати́жи] – фигура, рисунок, представление).
Участники и объекты ритуала «равны» или «похожи» на мифических персонажей и существ. Например, об имеющихся в деревне флейтах апапалу мне сказали, что они apapа́lu ipöriа́ti «из той же категории, что» изначальные духи апапалу; женщины, участвующие в церемонии Амурикумалу, являются tinaw-kumãlaw ipöku «похожими на чудовищных женщин». Хотя я не могу определить природу этих понятий тождества и похожести в языке явалапити (ipöriа́ti можно назвать предметы одного и того же вида: лук и лук, горшок и горшок; ipöku говорится о внешне похожих вещах: отце и сыне, двух похожих рисунках и т. д.), я почти уверен в том, что между ритуальными действиями и персонажами и их мифическими архетипами нет принципиального отождествления. Итак, человеческий ритуал – это уменьшенная иконическая модель описанных в мифе сверхчеловеческих успехов.
Если миф – это слово, то ритуал находится в сфере действия. Или, точнее, любое действие может относиться к сфере ритуала. Посмотрим, как действие связано с радостью.
Мне показалось, что центральная для культуры явалапити идея – это идея о том, что человеческое тело должно быть вовлечено в умышленный и регулярный процесс производства. Я имею в виду буквальное производство тела, это перевод корня umа́– «делать, производить», о котором я говорил выше. Сексуальная связь родителей будущего человека – лишь первый шаг на этом пути. Кроме того, подобное производство воспринимается также как «изменение тела», когда речь идет о производственных процессах после зачатия. В основном (но не полностью) оно состоит из операций с субстанциями, соединяющими тело с миром; мы рассмотрели их выше: это телесные жидкости, пища, эметики, табак, растительные масла и краски.
Телесные изменения нельзя считать исключительно знаком изменения социального статуса; они – его неизбежный коррелят, более того: они одновременно и причина, и орудие преобразования социальности. Это значит, что нельзя разделить между собой физиологические и социологические процессы; преобразования тела, социальности и сопутствующего статуса – единое целое. Таким образом, человеческая природа в буквальном смысле формируется или составляется культурой. Тело воображается обществом во всех возможных смыслах слова.
Поэтому я предполагаю, что человек у явалапити не сводится к дуализму, как у же (см.: Melatti 1976, DaMatta 1976), и уж тем более к Homo duplex дюркгеймовой метафизики. Социальное не прикрепляется к телу как инертный носитель, но создает его.
Анализ понятия «делать» требует формулировки другого важнейшего космологического понятия – метаморфозы (yaka-). Этот процесс часто встречается в мифах, он также присущ некоторым болезням и шаманизму (см.: Gregor 1977: 340 и далее). Производство подчиняет природу желаниям культуры, производя человеков. Метаморфоза возвращает избыток и непредсказуемость к порядку социуса, превращая людей в животных или духов. Она понимается как модификация сути, которая проявляет себя в разных планах от поведенческого до, в крайних случаях, плана телесного преображения.
Следует ответить, что эти два процесса не только не являются просто симметричными и обратными друг другу, они имеют свою собственную внутреннюю диалектику. Производство – это создание тела; но тела человеческого; поэтому этот процесс подразумевает отказ от способностей нечеловеческого тела. Метаморфоза – это беспорядок, регрессия и трансгрессия; но ошибкой было бы сказать, что природа просто забирает назад то, что отняла у нее культура. Метаморфоза – это также и сотворение, так как она не просто демонстрирует тот аспект реальности, в котором воплощены и природа, и культура, то есть аспект, который утверждает то, что производство отрицает, но и способствует воспроизведению культуры как внечеловеческой трансцендентности. Таким образом, следует иметь в виду, что понятие производства становится полностью понятным лишь вкупе с понятием метаморфозы, – хотя бы потому, что производство – это особый случай метаморфозы, поскольку даже первобытное «сотворение» было преобразованием.
Выражение «я делаю (своего сына и т. д.)» используется для описания и объяснения действий человека в определенных контекстах производства новых людей: 1) в период, когда мужчина путем повторяющихся сексуальных связей создает тело ребенка в теле матери [60]; 2) во время подросткового отшельничества, особенно в его начале, когда оба родителя должны воздерживаться от секса, подавать сыну эметики и следить за удовлетворением его потребностей; 3) при описании отношений между покойником и его родителями во время церемонии ицати. Шаман, проводящий инициацию другого шамана, также называется «делателем» (inumötsöri). Его отношения с новым шаманом, пока находящимся в отшельничестве, открыто приравниваются к отношениям между отцом и сыном во время подросткового отшельничества.
Три указанных момента представляют собой критические переходные этапы жизненного цикла: доступ к жизни, к способности воспроизводить ее (половая зрелость) и конец жизни. Инициацию шамана можно отнести к способности восстанавливать или защищать жизнь.
Таким образом, упомянутые моменты не воспринимаются как естественные, если под этим словом иметь в виду спонтанность или независимость от человеческого вмешательства. Их пограничный характер свидетельствует о времени производства нового социального положения посредством телесной технологии. При переходе человека из одного состояния в другое общество активно вмешивается в этот процесс, подвергая индивида и индивидуальность (Pocock 1967) социофизиологической нормализации.
