Клио. Диалог истории и языческой души
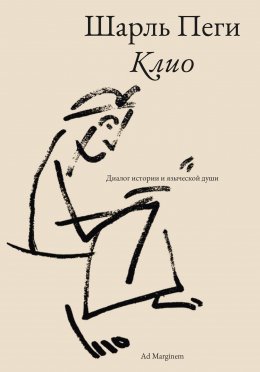
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Этот труд, сказала она озабоченно (как бы) сама себе, но обращаясь при этом ко мне; что-то внутренне обдумывая; пережевывая слова своими дряхлыми историческими зубами; бурча; бормоча; бубня; приняв вдруг серьезный и озабоченный вид, как бы в насмешку, сдвинув брови и наморщив лоб, этот труд я совершила сама. Никто никогда не сделает его лучше меня самой. И (вот) я провела исследование. Это мой долг, мое ремесло, смысл моей жизни, мое служение. И «стойкости моей гранитные столпы»[1]! Исследовать, проводить исследования – такие сладостные слова; наполненные, преисполненные обещаний, идущих им вослед. Стольким исследованиям указывала я путь, столько юношей, моих юношей, проводили их по моему указанию, что в конце концов мне и самой следовало бы провести свое собственное. «Я верен вам навек, опальные святыни». Быть может, после мне настанет конец. Сладостные слова, наполненные памятными событиями, наполненные воспоминаниями, преисполненные былых обещаний, былых сладострастий, былых, идущих им вослед (и далеко идущих) обещаний. Я, пожалуй, сказала бы, что еще стара. Другие, пожалуй, сказали бы, что еще молоды. Но я настолько стара, что даже старость моя теряется во тьме веков. Вы по-прежнему полагаете, что я шучу, вы так и говорите, что я отпускаю шуточки, причем глупые. А вы делаете их еще глупее. Когда их пересказываете. Знали бы вы, сколь я несчастна, какую глубокую печаль скрывают все эти кривляния. Я бедная старуха, лишенная вечности: абсолютное ничтожество; лохмотье; старая тряпка, а не женщина. Гордая и опустошенная, лишенная, как я уже сказала, всего прошлого и потому оставшаяся без (всякого) будущего. «Жалобы прекрасной шлемницы»… это я была той прекрасной шлемницей; «той, что шлемницей звалась прекрасной»[2], как говорится в тексте. Что такое женщина, (бедная) старуха, у которой нет вечности? Что остается от нее? А ведь я была той прекрасной Клио, которую все так обожали. Сколь торжествующей я была во дни своих юных побед. Потом пришел возраст. И я познала победы зрелости, победы с грузными ляжками. Всё, что у меня было, я вложила в будущую ренту. Сколько тех, кто менее блистал, достигают возраста, когда у них впереди – всё, когда они получат всё. А я к тому же самому возрасту лишилась всякого будущего. И потому стараюсь себя обмануть. Я предаюсь трудам – тем неблагодарным трудам, что стачивают меня в песок, превращая в бесконечную пустыню. Я представляю собой печальное зрелище, настолько жалкое, что при взгляде на меня дрогнет даже самое каменное сердце. Я, история, обманываю время. Эти исследования напоминают мне о временах юности. То есть о временах моей юной старости. Я очень люблю своих юных друзей. Я их почти уважаю. Но когда им поручают исследование, иногда они тонут в нем навсегда. Некоторые из моих юных друзей бывают слишком глупы. Они принимают мои наставления, мои пресловутые методы буквально, всерьез. По мне, так я дурочка, да вы и сами это говорите и думаете, но всё же я не настолько глупа, какой вы меня рисуете. Мне отлично известно, я прекрасно знаю, что им никуда не деться. Поэтому мои прилежные ученики, именно поэтому лучшие мои ученики тонут в исследовании навсегда. Их я презираю, причем сильно, и вместе с тем уважаю, причем не меньше. Я бесконечно их презираю, потому что эти несчастные принимают всерьез меня, мои наставления и мои методы, и, естественно, им из них не выпутаться. Глупцы. Мы прекрасно знаем, что, если бы нам требовалось исчерпать всю литературу о ком-то или о чем-то, перед тем как об этом написать, перед тем как рассказать об этом студентам, перед тем как об этом рассуждать, или написать книгу, доклад, курс лекций или хотя бы заметку для немецкого научного журнала, пусть даже крохотную писульку, или просто помыслить об этом, и если бы к тому же нам требовалось досконально изучить всю реальность вопроса, это завело бы нас в такие дебри. Никто и никогда не смог бы завершить что бы то ни было. Никто не смог бы завершить начатое. Так не лучше ли проявить благоразумие. Когда я говорю «исчерпать вопрос», все отлично понимают, что речь идет не о реальности, моей противнице – моей заклятой противнице, реальности, – все понимают, что я не говорю, что я не помышляю о том, чтобы исчерпать эту ненавистную реальность. Эту ненавистную женщину. Вечную женщину. Ибо все слишком ко мне добры. И речь идет лишь о том, чтобы бегло просмотреть, окинуть взглядом, пробежать глазами определенное, как правило внушительное, количество документов, составить перечень некоего, неизбежно огромного, количества памятников. И если это количество весомо, то для меня оно является как бы исчерпывающим. Книга, монография, огромный труд не может не быть исчерпывающим. Он внушает некое почтение, некий страх, как мне и нужно, страх, которого мне не только достаточно, но который выгодно для меня заменяет собой почтение к реальности. Везде царил покой, все были довольны. Довольство витало в воздухе. Только есть такие молодые бычки, знать ничего не желающие, телята, vituli, наши юные друзья, vitelli, наши юные товарищи, делающие вид, будто ничего не понимают, в общем, юные хлыщи, юнцы, juvenci[3], молокососы, которые реально стремятся исчерпать реальность. И тонут в ней навсегда. Ну, вы понимаете. Извращенные умы. Зараженные тем самым микробом – философским мышлением; тем самым вирусом – метафизическим мышлением, метафизикой; той самой чумой – остротой ума, склонностью к реализму. Да вы философы, господа. И не просто достопочтенные господа, а с довеском. С этой вашей идеей исчерпания реальности. Я начинаю постигать это ваше исчерпание реальности. Так чего же вам надо, чего же вам еще? Тише, детки, мои дорогие ягнятки. Вы не скоро выберетесь отсюда, детишки; та дверь, которая выведет вас отсюда, находится совсем не близко. Про себя я называю таких бочкарями. Ну, вы помните. Про Данаидову бочку[4]. Так смейтесь же. Негодуйте. Нет. Перещеголяйте меня. Это весьма остроумная шутка, поскольку она моя. Все мои шутки весьма остроумны. По крайней мере, мне всегда так говорят. Потому что, когда я шучу, то, как и во всём, что я делаю, я копаю вглубь, как истинный археолог. Обычно, когда я шучу, все признают, что это очень смешно. Ведь я располагаю многочисленными кафедрами в Государственном университете[5]. В нем дают стипендии для студентов; стипендии для аспирантов; и стипендии для докторантов; а теперь еще и стипендии для путешествий. Стипендии не всегда добавляют ума тем, кто их получает: но всегда добавляют тем, кто их выдает. Тут тоже есть свои хитрости и даже пара нюансов. Так что все меня считают весьма остроумной особой. И даже я начинаю так считать на волне своего всесилия и оказываемого мне почтения; по примеру других я тоже соглашаюсь признать себя весьма остроумной особой.
Но я этим не злоупотребляю. Внутри государства. Вы знаете, что я не злобна. Для столь важной особы. И пока столь же могущественной. И что, когда я отпускаю эти глупые шутки, я делаю это без сердца и без умысла. Многие на моем месте злоупотребили бы столь всеобъемлющей, столь неоспоримой властью. Я бы хотела любить. Будучи сама из прошлого, я вложила всё, что у меня имелось, во временное, в тлен, и в этом временном в свое время достигла немалых побед, ни одна шлемница вроде меня не достигала столь великих побед, и вот теперь я, будучи сама из прошлого, приближаюсь к тому времени, когда меня не будет, ибо я, будучи сама из прошлого, приближаюсь, уже приблизилась к тому времени, когда временное больше не воспроизводится, когда оно недостижимо, я дошла до того времени, когда временное (больше) ни к чему. Я бы любила, я бы хотела любить[6]. Сейчас я старуха, преисполненная меланхолии, пораженная меланхолией. В доме моей матери родились девять сестер. Я родилась первой. Нелегкая это работа, знаете ли, – быть старшей, первой из появившихся на свет в доме, где столько девочек. В таких семьях поистине бывает тяжко. Я была старшей сестрой, пресловутой старшей сестрой. Именно я наводила порядок в этом мирке. Это была моя обязанность. И я исполняла ее весьма самоотверженно. Впрочем, не самоотверженность красит девушек. Особенно язычниц. А я появилась на свет в языческую эпоху, в языческом обществе. Я стала маленькой матерью. Как это обычно бывает в многодетных семьях. Каждое утро именно я отправляла сестер в школу, давала наставления, советовала, велела им проявлять мудрость. Сами знаете, как они проявляли свою мудрость, но вы знаете это (только) с моих слов. Вообще всё известно только с моих слов. И то, какого успеха добились они, мои младшие сестры, и как в силу своего прилежания в школе они достигли самых разнообразных успехов, какие преимущества они от этого получили, из чего в совокупности и сложилось в конечном итоге то, что вы вслед за мной называете и отныне вечно будете называть античной мудростью. То, что вам всегда теперь придется называть античной мудростью. Они были хорошенькими, как ангелочки, эти крошечки, эти маленькие язычницы; хорошенькими до невозможности. Ах, как им пригодились советы, которые я давала им каждое утро, обряжая в беленькие фартучки, – советы прилежно учиться в школе нашего учителя, нашего дяди Аполлона. И они действительно учились весьма прилежно, и более того – проявляли мудрость; мудрость; и из всех этих детских мудростей соткалось то, что вам вечно теперь придется называть античной мудростью, – придумка, уникальная в своем роде; сложносоставной институт, созданный и рожденный одной расой, придуманный, скорее измышленный, нежели возникший в воображении, созданный, рожденный одной расой и внутри одной расы[7], порожденный одним народом, взращенный, настоянный и насажденный одной-единственной страной всему человечеству. Учил их наш дядя Аполлон. Мы звали его своим дядей, потому что он нас учил; но на самом деле он был нам двоюродным братом по линии отца. А вернее, он просто был нашим братом. В его жилах текла та же божественная кровь. Только мы звали его своим дядей, потому что он был (божественным) учителем. Уже тогда гремел великий спор между приверженцами Аполлона и Диониса. Вы об этом, конечно, слышали. Оба – боги, оба – сыновья одного отца; но, увы, не одной матери. Оба – наши братья по отцовской линии; и в их венах текла одна и та же кровь; оба были сыновьями нашего отца, но – увы – не нашей матушки. Белокурый Аполлон, разумеется, был сыном белокурой и белорукой Латоны, дочери Кроноса. Рыжий Бахус был сыном Семелы, испепеленной молнией. И между ними, как вы знаете, возник великий спор – спор, расколовший весь античный мир. Спор (гораздо) более великий, – уж поверьте мне, самой истории, – чем спор между дрейфусарами и Action Française. Пришел единый Бог и быстро помирил нас навеки. Но мы, маленькие музы, разумеется, были последовательницами Аполлона. По большей части. Масштабные дионисийские попойки нас не только пугали. Они вызывали наше негодование. Видели бы вы моих младших сестер. Сейчас вы и представить их себе такими не можете. Они были хорошенькие, как ангелочки. Теперь вы их такими не видите и не увидите во веки веков. Их памятные образы затоптаны тоннами литературы. Затерты тоннами литературы. Тонны литературы прошлись по этим детям. Но меня больше нет рядом, да и они уже не девочки, чтобы по утрам подтирать им носы, их греческие, аполлонические носики. Все вдевятером мы, разумеется, были сторонницами аполлонизма. В нем было больше правильности, больше точности, только в нем была идеальная правильность, идеальная точность, исключительный идеал, исключительная гармония. Позже я, как история, узнала, познала все гнусные бесчинства, все отвратительные излишества дионисийской публики; как история, я вынуждена познавать всё; это мое ремесло. Невеселое ремесло. Но как муза, как первая и старшая из муз, дочь своей матери Мнемозины, памяти, я испытываю от этого ужас. Эти ритуальные оргии, эти варварские дионисийские обряды, пришедшие откуда-то с Востока, вызывали у меня тошноту; в течение долгого времени; даже сейчас при одной мысли о них меня пробирает дрожь; в них слышатся варварские созвучия и ритмы, всё еще режущие мой слух; твердые окончания; нагромождения причудливых слогов. Явился ваш Господь и быстро помирил нас навеки. Каждое утро они ходили в школу нашего дяди Аполлона. Мы звали его дядей, потому что так звучит серьезнее. Я клала им в корзиночку полуденный перекус: кусок хлеба из пшеничной муки (в конце концов, они богини, надо же соответствовать положению), (то, что вы ныне называете белым хлебом, домашним хлебом, булочкой); ломтик сухого, «козлиного» сыра – то есть, как вы понимаете, весьма твердого козьего сыра; но у них, у этих маленьких проказниц, были прекрасные зубки; иногда на всех я давала кусочек жареной оленины, крылышко фазана, ножку ягненка, спинку кролика или зайца, белую и нежную лопатку козленка, филе курочки: ибо в те дни наши алтари никогда не пустовали. Они пили с ладошки – и, будьте покойны, не какую-то фильтрованную воду или воду из бутылок; и уж точно не вашу минералку; по дороге они пили, набирая в ладошки, живительную воду, воду лесных ручьев, приникали губами к источникам гамадриад. Когда же я не могла проводить их до школы, они частенько прогуливали. Останавливаясь по дороге, они беседовали с прохожими, болтали с лесными нимфами. Надо сказать, от прохожих и от лесных нимф они многое узнали такого, чему наш дядя Аполлон из приличия не мог их научить. Я первая могу признать, что в аполлоническом образовании было немало пробелов и что было полезно и даже необходимо дополнять (и восполнять) эти лакуны иными методами, о которых, если позволите, я не буду распространяться. Я же практически каждый день оставалась дома, чтобы помогать матушке по хозяйству. Наш батюшка, как вы знаете, нами почти никогда не занимался. Его моральные устои были невысоки. Не удивляйтесь, что я, дочь, осмеливаюсь так высказываться в адрес отца. Не надо возмущаться. Мне, истории, приходится говорить все начистоту, не закрывая глаза на многие вещи. Наш батюшка никогда не бывал дома. И наша (бедная) матушка была весьма несчастлива. Стоит ли говорить, что наш отец был волокитой. Он постоянно таскался за юбками. Я говорю «за юбками» скорее по привычке. Это были вычурные наряды. Маскарадные костюмы. Множество случайных сожительств.
- Прелюбодейство, блуд, разврат, кровосмешенье,
- Убийство, воровство – любое преступленье
- Вы небожителям прощаете своим[8].
Нашей бедной матушке было очень тяжело. Отец же выглядел весьма нелепо, потрясая своими грандиозными успехами, своими допотопными триумфами над слабыми женщинами, своими бесчисленными переодеваниями в духе Мольера, своими победами над женщинами легкого поведения; и своим орлом времен Второй империи; и своей зигзагообразной молнией – порой беспощадной, порой неправедной, порой жестокой и разящей мимо. Умевшей промахнуться. Всё, что он имел, мой батюшка, – и наверняка о том не догадывался, – это вовсе не сила, которой он так гордился; это вовсе не могущество, внушавшее ему столько гордости; может, он и не подозревал, но его спасало лишь то, друг мой, что он был повелителем дверей и порогов, и не было ни одного потерпевшего кораблекрушение, с мольбой протягивающего руки в сторону какой-нибудь триремы, едва виднеющейся на волнах вдали, ни одного потерпевшего крушение, с мольбой протягивающего руки к берегу, ни одной беспомощно тонущей парусной лодки, ни одного беглеца, ни одного преступника, ни одного изгнанника, ни одного φυγάς’а, ни одного exsul’а[9], ни одного несчастного, слепого, Гомера, Эдипа или Приама, припавшего к ногам Ахилла, или Улисса у ног Навсикаи, ни одного потерпевшего крушение, стоящего у порога и стучащегося в двери; от гиперборейских зим до жарких оазисов Аммона, от долин и снегов Киммерии до древних стовратных Фив и Египта, «дара Нила»[10]; и, в обратную сторону, от Геркулесовых столбов и от самых удаленных сицилийских и даже провансальских колоний, от Марселя, Массалии, будущего Марселя, от фокейского Марселя до предшествовавших ему ионийцев, первых философов, от сицилийских арифметиков до ионийских физиков, первых физиков и натуралистов, от Сиракуз, Акраганта и Мессины до первых физиков Эфеса и Милета, от пифагорейских мудрецов и арифметиков до ионийских натурфилософов, от пифагорейцев, оперировавших числами, до ионийцев, оперировавших стихиями, и далее до персидских варваров, до жаркого, изнеженного варварского Востока, до персидских нег, εἰς τὰς μαλακότητας[11], по всему греческому миру, и до самых крайних пределов и даже за этими пределами, и через опаснейшие мели Сидры, до самых глубоких и изрезанных вод Трапезунда, который мы называли Трапезонтом, то есть Равнинным городом, по всему эллинскому миру, и до самых варварских миров, от холодного варварского севера до варварских стран, которые мы называем экваториальными или межтропическими, от заснеженных пустынь до пустынь из песка, от бесплодных ледяных пустынь до бесплодных песчаных пустынь, по всему этому огромному греческому миру, единственному на свете, уникальному в истории, от гиперборейских пустынь до пустынь африканских, от пустынь населенных льдами, до пустынь, населенных чернокожими людьми, от ледовых пустынь, до знойных пустынь, от Геркулесовых столбов, открывающих путь дальше, к иным морям, к Океанам нового мира, до первобытных долин, до рек-родоначальниц Востока, откуда пошел человек, от суровейших варварских стран до варварств нежнейших, от самых жестоких варварств до варварств мягчайших, от варварств прежних до варварств будущих, от варварств предшествующих до варварств последующих, от недоразвитых варварств до варварств чересчур развитых, от доантичных варварств до варварств современных, – во всём этом уникальном эллинистическом мире не было на суше иль на море ни одной руки, протянутой с мольбой, ни одного потерпевшего крушение на суше иль на море, ни одного гостя, ни одного путешественника, ни одного скитальца, ни одного паломника, ни одного преступника, стучащегося у порога, которого величие моего отца не окутало бы нетленным плащом; которого не обволакивало бы всё величие моего отца. Вот что его спасало, бедного старика. И только это ему зачтется, бедный мой друг, причем зачтется, быть может, за пределами его смертного, а может, даже бессмертного пути, – зачтется то, что он был ξένιος[12], что ни одна дверь не открывалась перед чужаком без его ведома, что ни одна дверь не могла остаться закрытой, не нанеся оскорбления его величию.
Недавно я была больна[13]. Сами знаете: ничто в истории не может пройти незамеченным; и ничто в ней не может обойти вас стороной. Поэтому вас не обошел стороной тот факт, что месяцев восемь или десять назад я довольно серьезно заболела. Я перечла «Илиаду» и «Одиссею», книги моей юности. Но перечла так, как следует их читать, если уж не читать их по-гречески. Я неплохо читала по-гречески во времена своей мудрой юности. Но теперь я уже далеко не так молода и уже не владею греческим так, как владела им при отце Эде[14]. Не имея навыка греческого, я взяла перевод. Я взяла «Илиаду» и «Одиссею» в самом ненаучном переводе (на французский), какой только смогла достать; сколь бы извращенными мы ни были, сколь бы развращенными ни были наши времена, в каких бы отсталых и невежественных варваров мы, современные люди, (снова) ни превратились, какими бы мы ни стали, еще можно найти, по крайней мере у букинистов, переводы, не являющиеся научными; (когда болею, я опять становлюсь откровенной, так что мне бывает полезно отдохнуть, развлечься, отвлечься от привычных занятий). (А среди моих привычных занятий есть и научные переводы, и в особенности научные издания. И сколько я их сделала, этих научных переводов. Уж в чем в чем, а в научных переводах я поднаторела.) Я взяла «Илиаду» и «Одиссею» в самом старинном, в самом безобидном, в самом человеческом, в самом простом, в самом честном, в самом непритязательном, в самом академическом, старом академическом переводе, в том самом издании, в том самом старом добром переводе, где Клитемнестра называлась своим подлинным именем, Клитемнестрой, Минерва – Минервой, а Улисс – Улиссом. В переводе, который чаще всего дарили в качестве приза на церемониях вручения школьных премий, на старых добрых вручениях школьных наград, на прекрасных торжественных церемониях где-нибудь в провинции, в провинциальных лицеях, в красивых и архаичных зданиях префектур, на церемониях под председательством уважаемого депутата округа. Я имею в виду тот самый перевод, почтенный перевод Пьера Жиге, выпущенный в 1844 году в Париже в издательстве Полена по адресу: Рю де Сен, 33. Когда вы имеете честь быть больной и счастье сохранять при этом ясную голову (хотя бы временно, на период самой болезни, ибо потом, в период так называемого выздоровления, эта негодяйка снова принимается за свое), – скажем (беру пример навскидку), болеете желтухой, болезнью, грубо называемой в просторечье желтухой, что звучит грубовато-смешно, а по-научному называется гепатитом, что гораздо серьезней (и опасней), болезнью, которая сохраняет ясность рассудка, но при этом (к счастью ли?) строго-настрого запрещает работать: так диктуют врачи, так диктует природа, – тогда и только тогда вы становитесь идеальным читателем; и это единственный раз, когда вы им становитесь (ибо не мне, друг мой, говорить вам о том, что чтение само по себе есть работа, реализация, переход к действию, что оно вовсе не является индифферентным, ничтожным, что оно отнюдь не является отсутствием деятельности, чистой пассивностью, чистым листом); ибо в обычной жизни мы настолько со всех сторон нагружены работой, одолеваемы, осаждаемы, обуреваемы жизненными потребностями, задавлены работой, задавлены сомнениями, задавлены угрызениями совести, что мы читаем уже только нужное для работы; тогда и только тогда, когда мы болеем, причем только теми болезнями, что оставляют нам ясную голову и здравый рассудок, принуждая в то же время лежать в кровати и формально запрещая трудиться, – тогда, ради исключения, ради соблюдения временно навязанного положения, ради краткого перемирия, мы в силу обстоятельств (а не по сути своей, как это было бы до́лжно) вдруг опять становимся теми, кем нам никогда не следовало бы переставать быть, – читателями; просто читателями, которые читают ради того, чтобы читать, а не ради учебы или работы; просто читателями; так же как трагедии и комедии нужны просто зрители, как скульптуре нужны просто зрители, здесь нужны просто читатели, которые, с одной стороны, умеют читать, а с другой – хотят читать и в конечном итоге просто читают; и читают просто; нужны люди, которые смотрят на произведение, просто чтобы его видеть и воспринимать, которые читают произведение, просто чтобы его читать и воспринимать, впитывать его, напитываться им, как ценным питанием, чтобы расти, крепнуть внутренне, органически, а вовсе не для того, чтобы «работать с» (произведением) или за счет него обрести социальную значимость в рамках своего столетия; в общем, нужны те самые люди, которые умеют читать и знают, что такое читать, то есть «проникать в»; во что, друг мой? – в суть произведения, погружаться в чтение произведения, в жизнь, в созерцание жизни, дружелюбно, преданно, с непременной долей сочувствия, не просто с симпатией, а с любовью; необходимо проникать в истоки произведения; и буквально сотрудничать с автором; нельзя воспринимать произведение пассивно; ведь чтение – это совместное действие, совместная работа читающего и читаемого, произведения и читателя, книги и читателя, автора и читателя; как спектакль – это совместное действие, совместная работа драматического произведения и зрителя, драматурга и зрителя; как созерцание статуи, представление изваяния – это совместное действие, совместная работа произведения и созерцателя, скульптора и зрителя. Чтение добросовестное, честное, простое, в общем, чтение хорошее – оно как цветок, как плод, выросший из цветка; (пушок на кожице персика, как говорили древние); оно как спектакль, создающий у зрителя хороший взгляд, хорошее восприятие; как статуя, создающая у зрителя ощущение гармонии, ритмической правильности; представление о тексте, которое мы даем себе, подобно представлению, которое нам дает драматическое произведение (и которое мы также даем себе); оно подобно представлению, которое нам дает произведение скульптуры (и которое мы также даем себе); оно является не чем иным, как подлинным, настоящим и, главное, реальным завершением текста, реальным завершением произведения; словно венчающим его; словно осеняющим его особым благодатным венцом; как зонтик на вершине стебля; как фронтон, покоящийся на колоннах храма; как занимающий свое место, гармонично расположенный фронтон; как покоящийся на своем месте фронтон, венчающий храм; как плод, достигший высшей точки своего созревания; как зрелость в ее предельной – единожды установленной, единожды выбранной, единожды достигнутой – точке; как полнота; как редкая, уникальная, особая точка; как нечто особое; как некий успех; как однажды достигнутая точка, достигнутый успех; как достижение; как пища, как питающее дополнение и восполнение; как своего рода напитывающее восполнение и совокупность всей работы. Простое чтение – это совместное действие, совместная работа читающего и читаемого, автора и читателя, произведения и читателя, текста и читателя. Это осуществление, завершение работы, высшая точка в создании произведения, особое утверждение, утверждение реальности, воплощения, исполнения, достижения вершины, полноты; это произведение, которое (в конечном счете) исполняет свое предназначение, завершает свою стезю. То есть это буквально совместное действие, сокровенное, внутреннее сотрудничество; сотрудничество особое, высшее; и возникающая вследствие этого ответственность; высокая, высшая, особая ответственность; ответственность будоражащая. Это чудесная и почти пугающая стезя, когда огромное количество великих произведений, огромное количество произведений великих, даже величайших людей еще могут получить конечное воплощение, завершение, венец от нас, бедный мой друг, от нашего чтения. Какая пугающая ответственность ложится на нас. (И в некотором смысле какая ответственность ложится на автора, на всех авторов, на весь этот небольшой писательский народец, побуждающий, увлекающий, ведущий к сотрудничеству, к дальнейшему, не ограниченному временными рамками сотрудничеству большой, по крайней мере более многочисленный, народ читателей, который когда-то был столь велик и который с каждым днем уменьшается.) Вот она, как говорили раньше, жестокая игра судьбы, а мы скажем – одна из самых жестоких игр нашего временного, земного предназначения, во всём на это предназначение похожая, во всём ему вторящая и подражающая, когда ни один автор во времени не имеет права закрыть свою дверь и ни одно произведение никогда не бывает вечно-временно замкнуто в мастерской своего автора; вот, вероятно, одна из самых тревожащих тайн временного предназначения, одна из самых наполненных, самых напичканных тревогами тайн, состоящая в том, что ни одно произведение, каким бы завершенным оно ни было, каким бы законченным оно ни казалось нам и, быть может, даже своему автору, своему отцу, ни одно произведение не обладает такой законченностью во времени, не достигает столь абсолютного совершенства во времени, какого оно, вероятно, достигает в ином смысле (а по сути, в том же самом смысле, ибо все люди – люди, и автор – тоже человек, и мы, ничтожные, – тоже люди и, как бы там ни было, в каком-то смысле являемся продолжением автора), постоянно завершаясь как незавершенное, по праву незавершенного, которому только и остается, что достичь совершенства, которого оно достигает и постоянно должно достигать, – того самого, постоянно несовершенного венца. Таков удел всего временного, удел самого произведения в самой его временности. Оно всегда, волей-неволей, volens nolens, достигнет своего постоянного завершения, совершенства, вечного, постоянного венца, в свою очередь постоянно несовершенного, постоянно незавершенного, которого, возможно и даже наверняка, оно и не требовало; к которому оно, вероятно, не стремилось; к которому оно вообще, как правило, не стремится; поскольку автор, невежда, глупец, заведомо разочарованный во всём, – величайший в мире гений, – желает быть у себя полным хозяином. Как будто человек может быть у себя хозяином или просто где-либо быть у себя. Ибо во временных пристанищах сама механика времени не позволяет ему быть у себя, не позволяет ему добиться, достичь этого обладания; а в чужом доме он – чужой. Желание быть у себя полным хозяином, сама фантазия об этом – невероятное тщеславие. И что с того, что хозяин запер дверь? Он оставил произведение в своей мастерской, мой дорогой Пьер Лоранс[15], он запер в ней свое произведение; он закрыл свое произведение в мастерской; а потом закрыл дом, в котором находится мастерская; и не оставил в двери ключа; видите, в замке (в замочной скважине) нет ключа, и мы не сможем войти; и мы не найдем этого ключа на доске у консьержа; и автору хотелось бы, чтобы его оставили в покое, – он так старался, чтобы обрести покой, что пусть его наконец оставят в покое, верно? – ведь он закончил труд; ведь он так много трудился, чтобы создать свое произведение, он измучен; у него болит голова; воображение ваятеля лежит под ногами, как протоптанная им же самим тропа; он не только больше не может, что само по себе не страшно и вполне естественно, но он больше не хочет. Он больше не хочет даже слышать об этом. И вот пришла к нему смерть, та горничная, что в последний раз наводит порядок. Пришла смерть. И навела порядок: в последний раз подмела пол, расставила труды автора по полочкам. Привела в порядок и самого автора. Она нашла достойное место его произведениям. Нашла достойное место и автору, и растоптанному воображению вателя. В последний раз смахнула пыль с его трудов и определила каждому из них свое место. Определила место и для автора. В первый и последний раз. Единственный раз. В последний раз заперла его труды в мастерской и затворила дверь самой мастерской. Покрыла автора гробовой доской, затворила вход, задвинула могильный камень,
И скоро ляжем мы под гробовой доской[16].
И не оставила никакого земного, никакого временного ключа. И автору хотелось бы (мирно) наслаждаться покоем, которого, как ему кажется, он заслужил. Автору хотелось бы отведать, испить из чаши вечного покоя. Не тут-то было – мы все навеки заперты в той мастерской: дурное прочтение Гомера сказывается на произведении и внутри него, на авторе и внутри него. А дурное прочтение Гомера – это самое что ни на есть возможное, самое что ни на есть простое, самое что ни на есть доступное для нас с вами действо. Мы сами прекрасно это знаем и себя в том не виним. Дурное прочтение Гомера в некотором смысле, в некотором роде и в некоторой связи, отчасти и на сравнительно небольшом отрезке развенчивает и автора, и произведение его; а хорошее прочтение (может) увенчать его (заново). Наше дурное прочтение Гомера, то есть прочтение нами Гомера, снова его развенчивает. И получается постоянное, вечное раскачивание во времени туда-сюда, завершение, никогда не достигающее завершения, незавершенность, которая только сама и может, вероятно, завершиться, ибо таково устройство временного, таков его закон, в этом (кроется) сам механизм временного, в котором при таком устройстве, при таком совместном акте, при таком совместном действии читающего и читаемого, автора и читателя, текста и читателя никакие завершения, увенчания, приращения, наращения не могут быть стойкими, навеки устоявшимися, бесповоротно устойчивыми. И напротив, ухудшения, утраты, умаления могут быть или стать устоявшимися, могут быть укоренившимися, устоявшимися, вечными, вечными во времени, устойчивыми, бесповоротными. В этом и есть закон, правило, манера действия временного механизма. Позитивные ценности не могут приращиваться к нему незыблемо, беспрепятственно, безгранично, на постоянной и, главное, бесповоротной основе. Отрицательные же ценности, напротив, могут (врастать) приращиваться к нему безгранично, незыблемо, беспрепятственно, постоянно, бесповоротно и безвозвратно. Ценности приращения, наращения, увенчания никогда не гарантируют свой прирост. Тогда как ценности умаления, упадка, развенчания могут быть или стать гарантами развенчания и упадка. Все хорошие прочтения Гомера, вместе взятые, не обеспечат этому тексту – «Илиаде» и «Одиссее» – нетленного венца. Но множество дурных прочтений могут опошлить, могут буквально изуродовать текст, могут просто разрушить его до такой степени, что даже мощная глыба этого текста рискует погибнуть, и погибнуть безвозвратно. Утраты здесь обеспечены, а приобретения – нет и не могут быть. Это общий, повсеместный закон всего временного. Сколь бы ни был прочен пентелийский мрамор, он не только подвергался и будет вечно подвергаться физическому воздействию времени, наблюдать которое нас уже приучили философы, но подвергается и будет вечно подвергаться не менее серьезному воздействию увенчаний и развенчаний, приращений и утрат от сотрудничества всех тех, кто живет во времени. И нет смысла искать спасения в безразличии, в безличии, в нулевом прочтении, чтобы не делать выбор между хорошим прочтением и дурным, а вернее, чтобы избежать дурного. Потому что этот порядок, это сотрудничество, которое является частным порядком общего порядка жизни, – он, как и вообще порядок жизни, в особенности не признает нуля, безразличия, безличия, в конце концов пустоты, состояния «ни то ни се», промежуточности. Он не признает нейтральности. Нулевое прочтение произведения в каком-то смысле является его наивысшим развенчанием. В этом смысле нулевое прочтение может являться наихудшим прочтением и, несомненно, таковым является. Хуже некуда. Оно может нанести и, несомненно, наносит произведению самый сокрушительный удар. Ибо открывает двери забвению, заброшенности; ведет не только к отвыканию, но к истощению. Ведь мы говорим о пище, о постоянной подпитке, а вовсе не о том, чтобы закопать, составить опись, внести раз и навсегда в ведомость. Отметиться в книге соболезнований. Ведь мы по большей части говорим о временном, в частности, о сотрудничестве, о совместном, постоянном и постоянно временном процессе. Сколь бы ни был прочен тот пентелийский мрамор и какая бы патина его ни покрывала, он не только постоянно и вечно-временно испытывает физическое влияние времени, влияние, о котором мы привыкли рассуждать благодаря тому, что все философы о нем рассуждают, а нередко и размышляют, но в то же время, в это же самое время он постоянно и вечно-временно испытывает и другие отдельные влияния, воздействия, нескончаемые увенчания и развенчания, постоянно незавершенные завершенности и реально завершенные, реально приобретенные, реально достигнутые незавершенности, постоянно венчаемые увенчания, а также развенчания, постоянно и реально венчаемые нашим постоянным сотрудничеством, сотрудничеством всех и каждого, сколь бы оно ни было мало. Возможно, именно здесь кроется величайшая тайна события, мой друг, именно здесь, собственно, кроется тайна и сам механизм события, исторического события, секрет моей силы, мой друг, секрет силы времени, таинственный временной секрет, таинственный исторический секрет, сам механизм времени, истории, механика, разобранная на части, секрет силы истории, секрет моей силы и моего господства; именно благодаря ему, этому хитрому механизму, я утвердила свое временное господство. Вы знаете, кого я имею в виду, друг мой, когда говорю о своем временном господстве, знаете, насколько оно устойчиво и прочно. Вы сами сказали, что оно могло бы заменить мне полное отсутствие господства вечного, если бы вся временная вечность могла сравняться на весах хоть с одним атомом настоящей, реальной вечности, вечной вечности, если бы нечто временное могло нас утешить. И если всё это несчастное вечно-временное господство и обладает, как вы знаете, устойчивостью и прочностью, то лишь по одной причине. Оно целиком держится на этом простом механизме. Сколь бы ни был прочен тот пентелийский мрамор и какая бы патина, вековая, желтая, горячая, серебристая, ржавая, золоченая патина его ни покрывала, патина, вызолоченная солнцами двадцати четырех или двадцати шести веков, словно позолоченная корка, словно солнце, тронувшее поверхность камня, словно солнце, выкристаллизовавшееся на его поверхности, древнее солнце на поверхности старого камня, – этот мрамор подвергается иным воздействиям, он непрестанно обретает и столь же непрестанно теряет иную патину. Он непрестанно обретает и так же непрестанно теряет иные патины, совсем не похожие на природную, физическую патину, патину (старого) солнца. Он непрестанно испытывает иные воздействия, совсем не похожие на природные, физические воздействия непогожих времен. Я, история, истинно говорю вам: подлинный скандал; а стало быть, тайна; величайшая тайна временного творения – в том, что (величайшие) произведения гения оказываются отданы на откуп зверью (нам с вами, господа и дорогие сограждане); в том, что ради этой временной вечности их постоянно передают, роняют, отдают, бросают такие руки, такие ничтожные руки – как наши. То есть все подряд. Сколь бы ни был прочен тот мрамор, построенные из него здания непрестанно обретают и теряют из-за нас, из-за всех подряд, патину иную, непохожую на патину телесного солнца, патину новую; наши взгляды, наши глупые взгляды беспрестанно оставляют на нем и снимают с него, непрерывно наносят на него и сдирают с него невидимую патину. Это и есть та самая патина истории. Наши дурные взгляды, взгляды недостойные, лишают эти храмы венца. А взгляды хорошие, достойные взгляды, могли бы на время вернуть им венец. Придать им необходимые надстройки, дополнения. Придать им необходимую завершенность.
Я говорю «необходимые», ибо, если мы этого не сделаем, никто не сделает этого никогда. Хороший взгляд, античный взгляд, придает законченность. Дурной взгляд, взгляд варварский, современный взгляд, разрушает законченность. Несуществующий взгляд, взгляд нулевой, полностью отсутствующий – в каком-то смысле худший, наихудший из дурных взглядов: ибо это взгляд, который окончательно лишает произведение подпитки, полностью лишает его какого-либо интереса, это взгляд, который навеки вычеркивает это произведение, взгляд, который предает его распаду, забвению.
Художник запер свое произведение в мастерской. Его глаза затуманились. Всё кончено. Он больше не хотел ничего знать. Он больше не мог видеть свое творение. Я имею в виду, что он уже не мог охватить его одним взглядом, взглядом всегда свежим, всегда новым, иным, новаторским, взглядом автора, творца: он начинал волей-неволей, ἑκών τε καὶ ἄκων, invitus invitatus, неизбежно начинал смотреть на него взглядом привычным, взглядом, приобретя который больше уже ничего нельзя сделать. И он больше не мог ничего сделать. Его взгляд лишился новизны. Это единственная слепота, от которой художник не может исцелиться. И тогда он закрыл лавочку. Он, автор, стал смотреть как простой зритель. Он стал своим первым зрителем, положил начало своей публике. И всё же мы по-прежнему в той мастерской, которая была заперта автором, заперта смертью, – мы, (те самые) ничтожные, – и произведение находится (у нас) в наших руках, как и его судьба, поскольку мы на него смотрим. И мы наполняем мастерскую гулом своих недостойных, своих убогих голосов. Слова обладают смыслом бесконечно более глубоким в сравнении с их собственным смыслом, а главное, бедняжки, в сравнении с их зна-че-ни-ем. Сколь бы ни был прочен тот паросский мрамор, какой бы ни была его древняя, солнцем навеянная патина, наши взгляды будут беспрестанно создавать и разрушать древнюю Афродиту. В любой момент мы вольны сказать и сделать какую-то глупость, мой бедный друг, и мы так и делаем, что уж там говорить. Мы вольны болтать, увы, что хотим, то есть вторгаться со своим сотрудничеством как нам вздумается. Мы вольны говорить и делать любые глупости, какие только пожелаем. А желания у нас хоть отбавляй. Но хуже всего, что, когда желание пропадет, настанет худшее, ибо это будет забвение, предвестник той самой смерти. Сколь бы ни был прочен тот текст, из какого бы мрамора он ни был, пентелийского ли, паросского ли, какова бы ни была его тридцативековая патина, он всё же находится у нас в руках (какая неосторожность, дети мои!) (и, как я уже справедливо заметила, какой скандал! и вместе с тем в результате – какая великая тайна). «Три тысячи лет пролетели над прахом Гомера»[17]. Три тысячи лет его читали, за исключением перерыва в несколько веков и грядущих (бесчисленных) веков забвения и варварства. То есть читали задолго до нашего появления. Тридцать веков хорошего и дурного чтения за исключением нескольких веков чтения нулевого, худшего из всех, куда входят и века грядущие. Вернее, те, что вот-вот наступят. Те, что наслаиваются не как случайный довесок, а как неизбежное дополнение, окончательное дополнение к многовековому дурному прочтению. Хорошее прочтение создает завершенность, но не ставит окончательную точку. Оно не вешает на дверь замок. Дурное прочтение разрушает. А нулевое прочтение кладет конец череде веков; кладет конец череде времен; оно приводит в итоге к высшему распаду, к окончательному распаду; оно словно вершит первый, временной Страшный суд, оно словно рисует (первый), временной образ Страшного суда.
Страшно подумать, друг мой, что у нас есть полное право, то самое чудовищное право, что мы имеем право на дурное прочтение Гомера, что мы можем развенчать творение гения, что величайшее творение величайшего гения находится в наших руках, причем творение не безжизненное, а живое, как маленький загнанный кролик. А главное, что, выронив его из своих рук, тех самых безвольных рук, мы можем убить его своим забвением. Какой это чудовищный риск, друг мой, какая чудовищная игра случайностей; а главное, какая чудовищная ответственность. Какими догадками, какими стечениями обстоятельств обусловлено это двустороннее действие. С одной стороны, с одной точки зрения, какой это риск для автора; автор перестал видеть ясно свое произведение; он стал замечать – не без страха, не без некоторого внутреннего отторжения, ибо он хорошо знал, признавал, что это конец, что спустя какое-то время он уже ничего не сможет с этим поделать и что в дальнейшем всё останется как есть, что это знак, предвестие конца самого его действия, самого его влияния на собственное творение, – автор стал замечать, что пора оставить это творение, (потому) что он, можно сказать, оборачивается внутри себя против себя же, что он вопреки своей воле и против своей воли начинает занимать, примеряет, так сказать, на себя позицию, противоречащую его изначальной позиции, мысленную позицию, которая в корне полностью противоречит его первой позиции, позиции автора. Невольно и неумолимо, несмотря на всё сопротивление своего гения, он чувствовал, как становится другим человеком, человеком полностью противоположным; он принимал облик другого человека, и, по мере того как он надевал на себя эту личину, натягивал ее на себя, он уже не мог от нее избавиться; как Геракл от плаща кентавра; он чувствовал, как превращается из автора в его противоположность, в зрителя. Он чувствовал, как превращается в первые ряды своей публики, в человека, стоящего напротив него, в зеваку, глупца, глядящего другими глазами, глазами незнакомыми, невежественными; «как много карих, голубых, любимых глаз зарю встречало»[18]; в самого первого из этих господ; в первого встречного, в первого прохожего, проходящего мимо в череде времен; в того, кто стоит у ограды, той самой ограды, что отделяет произведение от публики; в того, кто своей (грубой) рукой (столь неуклюже) оперся на перила, – и вот он чувствует, как неодолимо превращается, превращается в это, в это убожество, в это скудоумие, в эту немощь, в первого зрителя, в первого читателя, в первого зеваку; он видит себя; он узнает в нем себя; отныне он и есть тот враждебный, более чем враждебный ему человек, безвозвратно чужой. Он и есть тот, другой, отныне это он сам, отныне это его самый большой враг, бесконечно больше, чем враг, – самый чуждый ему человек. И он запирает дверь. Пора обрубить концы. Пора поставить точку. Ведь это он стоит там, у ограды. Пора закрыть дверь, и он ее закрывает. Но он, бедняга, не догадывается, что публика-то никогда не закроет дверь, или если закроет, то это станет худшим из возможных ходов, худшим из решений, какие только могут быть приняты в будущем, худшим и наипоследнейшим из всех исходов. Сам он больше не может, он не хочет больше (над этим) работать, поскольку чувствует, как превращается в зрителя; он чувствует какое-то отвращение, оцепенение. Зритель же, напротив, не чувствует, как превращается в зрителя. Ведь он таким родился. Он никогда не был автором. Он не является отцом этого произведения. И в тот момент, когда вы бросаете работу, когда вам уже невмоготу, когда это уже выше ваших сил, ибо вы чувствуете, как вы, автор, неодолимо начинаете превращаться из автора в зрителя, – в этот самый момент тот самый зритель, в голове у которого совсем другие соображения, в этот самый момент он, напротив, включается в работу: нагло – поскольку он наглец, грубо – поскольку он мужлан. И так он будет продолжать очень долго. Будем надеяться – всегда. Ибо, если он хоть раз остановится, станет еще хуже; станет хуже некуда. Великий риск, друзья мои. Великая беда и для произведения, и для автора. Впрочем, это всеобщая беда, свойственная времени. Всеобщая беда, свойственная истории. Но, увы, это единственная стезя. Подвергаться риску, переходить из одних рук в другие, самые грубые руки, скитаться, отдаться на волю судьбы; или, напротив, подвергнуться еще большему риску, высочайшему риску: перестать быть в чьих-либо руках. По сути, это означает болезнь или смерть. Такова общая историческая мера, общая беда, свойственная самой механике истории, общая временная беда любого произведения и события, существующего во времени, беда произведения и исторического события, то есть произведения и документально подтвержденного события. Брисеида в наших руках. Она в великой опасности. И Ахилл в великой опасности. Именно из-за этого внутреннего противоречия всё временное является сомнительным, мой бедный друг, историческое – всё историческое, то есть подтвержденное исторически, – является сомнительным, любое событие является сомнительным, любое произведение – как событие, как неотъемлемая часть и сторона события, – является сомнительным. И это моя глубочайшая рана, временная рана, вечно-временная рана. Это моя тайная рана, которая не затянется никогда. Конечно, когда я, будучи порождением интеллектуального народа, в годы своей невинности направляла младших сестер тропами той интеллектуальной горы, я не предвидела, да и никто не мог заподозрить, что наш дедушка-время втайне уготовил нам столь жалкую судьбу – беду, возникающую изнутри и простирающуюся в будущее, вечно-временную, непобедимую, неуничтожимую, этакий тайный изъян – обладать такой же, как у него, сомнительностью; неисцелимой; быть разъедаемой такой же, как у него, раковой опухолью; поскольку старый дед (я говорю здесь вовсе не о Вильгельме I) оставил нам в наследство этот тайный изъян; и унаследовали его не только мы, но и всё, что принадлежало деду, всё временное творение, всё, что есть временного в мироздании. Какое ужасное применение, друг мой, какое ужасное, всеохватное применение нашел здесь тот старинный закон, открытие которого вы наивно и (псевдо)научно приписываете себе и который вы несколько напыщенно называете, который вы окрестили законом наследственности. Всё, что относится ко времени, то есть всё на свете, несет на себе печать времени, тот самый изъян времени. И это уже не просто зараза или смертный грех, Пеги, это и зараза и смертный грех. Таким образом, и во все времена всякое временное творение, всякую историческую материю постоянно разъедает внутренний изъян, тщеславие, пустота. Вечно-временное, как и оно само, тщеславие. Вечно-временная пустота, которая его сопровождает и живет внутри него. Внешний коршун неустанно клевал, терзал печень бессмертного Прометея. Нас же пожирает внутренний коршун, этот коршун, доставшийся нам в наследство, точно так же неумолимо терзает нашу печень: неустанный коршун клюет бессмертное и всё же смертное временное творение. Окончательно смертное. То, что когда-нибудь умрет. И здесь кроется то, что в точности, буквально, диаметрально противоречит «Антигоне». То есть нынешний и вчерашний закон, закон писаный, самый что ни на есть писаный, закон самой исторической записи. «Νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾿ ἀεί ποτε / ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾿φάνη»[19]. Он жив сегодня (по крайней мере), был жив вчера и будет жив всегда; всегда лишь временно; и мы все (прекрасно) знаем, от кого, откуда он пришел. Он к нам пришел, он был нам завещан, мы получили его, он был нам дан нашим дедушкой Хроносом. (Не будем излишне правильно называть его Кроном, чтобы не уподобляться Леконту де Лилю.) К несчастью, наш предок Время, этот костлявый старик, старикашка с косой, дряхлый старикан, приходится дедом не только нам, несчастным сестрам. Он является дедом вообще всех людей. Он наш общий дед. Вселенский дед всего мироздания.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,
οὐδ᾿ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ᾿ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους·
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ᾿ ὥστ᾿ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾿ ὑπερδραμεῖν.
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾿ ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾿φάνη[20].
АНТИГОНА
Ибо не Зевс (как глашатай) возвестил мне о них, не Справедливость, пребывающая с подземными богами, постановила те законы среди людей; и я не считала, что твои указы (возвещаемые твоим глашатаем) имеют (достаточно) силы, чтобы смертный мог преступить (переступить) неписаные и незыблемые (или непреложные) законы богов. Ведь эти законы (уж точно) появились не сегодня и не вчера, они были всегда, и никто не знает, когда они возникли.
Всё диаметрально противоположно, мой бедный друг. Мы знаем, от кого пошли законы, и не только писаные законы, но и законы письма и даже законы исторической записи. Вот так молоденькие девушки, девочки рождаются и растут в невинности, храня глубоко внутри пороки, унаследованные от предков: только так и не иначе, haud secus[21], росли мы в невинности, и уже тогда я несла глубоко внутри тот тайный порок, что меня гложет. Или болезнь, или смерть: нам всем остается лишь выбирать. Как всему творению вокруг нас, вместе с нами, так же, как и нам. Но опять же, как и мы, всё гниет изнутри; ибо только вечность здорова и чиста. Поэтому произведение и автор стоят перед выбором: либо подвергнуться риску опошления, оказаться в самых грубых руках, быть залапанными самыми грязными руками, подобно тем авторским рукописям, что попадают в руки вашего большого друга Эрнеста Лависса[22], или подвергнуться еще большему риску, наивысшему из всех рисков: оказаться лишенными даже этих грубых, пошлых ласк, то есть умереть. Или опошление, то есть особая разновидность, особый вид, так сказать, особый сорт унижения, – или смерть. Или смертельное унижение – или унизительная смерть как высочайшее, как наивысшее унижение, унижение крайнее, совершенное, гнусность, одним словом. Либо испытывать унижение как постоянное оскорбление, как непонимание, как тупость, как риск подвергнуться этому унижению, либо совсем опуститься: жалеть о самом унижении, о риске такого унижения, жалеть о том, что его больше нет. «И псу живому лучше, нежели мертвому льву»[23]. Какой чудовищный риск для автора. И какая чудовищная ответственность, друг мой, лежит на нас. Перед нами, друг мой, лежит квазидоговор со всеми вытекающими из него обязанностями. Этот договор был подписан без нас, но мы связаны им, хотя нашего мнения никто не спрашивал. И это лишь один. Один из множества квазидоговоров, которые связывают нам руки на всё время жизни, а может, даже чуть дольше. С одной стороны, от себя автор кладет на чашу весов произведение. С другой стороны, от нас мы предоставляем всю память мира, кладем на чашу весов совокупную память всего человечества. Мы кладем на весы всеобщую память, весьма непрочную и столь могучую, – память, что беспрестанно возникает и умирает. Таков вклад каждой из договаривающихся сторон. Таковы отношения, связи, взаимные узы. Таковы, в конце концов, обязательства обеих сторон. Этот договор неисполним, как и все договоры на свете, и, как и все договоры, он нерасторжим. Договор, о котором нас никогда не спрашивали и никогда не спросят, причем ни одну из сторон – ни автора, ни нас, то есть публику. Эти произведения находятся в наших руках, как заложники, они как пленные рабыни, как дочери Дария[24]. В руках, увы, не столь достойных наследников Александра. От нас зависит их честь, их достоинство, их жизнь. Их достоинство, их оценка, то есть само их существование. Вы сами видите, мой друг, что это величайшая честь, какая только может выпасть нам в земной жизни, честь, о которой мы совершенно не просили.
